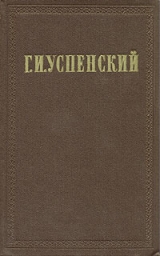
Текст книги "Том 8. Очерки переходного времени"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 45 страниц)
Незаметно, потихоньку и помаленьку, накоплялось на душе много тяжких и скорбных впечатлений о виденном, слышанном и читанном в короткое время поездки, и сибирская жизнь, едва мелькнувшая перед моими глазами, с каждой минутой, приближавшей поездку к концу, все ярче и ярче выяснялась во всех ее многочисленных и многосложных особенностях. Хотелось бы воротиться, пожить подольше, побольше видеть, и хотелось этого особенно тогда, когда бешеная тройка, несмотря на непроходимую грязь, лужи, похожие на озера, мчала меня уже к Тюмени, затем и по Тюмени, и примчала на вокзал. Огоньки переселенческих бараков, мелькнувшие в стороне дороги, среди непроницаемого мрака темного августовского позднего вечера, еще сильнее взяли за живое и увеличили огорчение разлуки со всем «страждущим и обремененным», – что и есть «главное и особенное» в сибирской жизни. Томила меня тоска – о невозможности когда-нибудь еще раз видеть «сибирскую жизнь» – и на железной дороге, возбуждая желание, чтобы поезд не так быстро мчал назад, не так безжалостно отрывал от только что воспринятых впечатлений. Не знаю, в каком настроении доехал бы я до центра отечества, если бы отечественная жизнь не изобиловала так называемыми «прискорбными недоразумениями», одно из которых и не замедлило совершиться.
Когда уже было, совсем темно, равномерный шум в глубоких водах реки Камы пароходных колес и машины вдруг превратился в какую-то шумную сутолоку: послышались пронзительные свистки, пароход закачало, вода заплескала в окна, и, наконец, весь корпус парохода потрясло до основания. Очевидно, он крепко ударился во что-то и стал.
– Конкуренция! Очень просто! – говорил тоном знатока какой-то из пассажиров, когда все, бывшие на пароходе, толкая и давя друг друга, всею массой высыпали на верхнюю палубу.
Тьма была глубокая.
– Ему, подлецу, дают свистком сигнал: «помоги!», а он ишь прет, ухом не ведет! – говорит еще кто-то, но кто, разобрать нельзя. – Чем бы помочь нам…
«Он» был чей-то пароход, который, во-первых, наскочил на наш, не предупредив никакими знаками, и, во-вторых, шел, не обращая на нас никакого внимания. Баржа его едва не разбила корму нашего парохода.
– Это что вы изволите говорить? Чтобы, то есть, он помог нам?
– Да! Я говорю, ему, подлецу, свистят, «помоги!», а он…
– А он и ухом не ведет?
– Видите, прет, точно не слышит!
– А вы желаете, чтобы вам помог, конкурент-то?
– Конечно, должен помочь!
Не дав договорить фразы, невидимый возражатель раскатался самым отчаянным смехом.
– Помог? конкурент-то? Ха-ха-ха!.. Боже мой милосердный! Это чтобы конкурент-то помог?.. Ха-ха-ха!.. Просто отчихаться не могу, что вы сказали!
Этот смехотвор действительно и хохотал, и кашлял, и чихал. С хохотом и чиханьем он, оттесненный толпой от собеседника, не преминул, однакож, прокричать ему откуда-то из дальнего угла:
– Вот, если бы вы пожелали, чтобы вас с пароходом ко дну пустить или, например, пополам рассадить пароход, вот это бы он «с удовольствием!» Сделайте одолжение!.. А вы желаете, чтобы помог? спас? конкурент-то?.. Конкурент чтобы спас, да? Чтобы дьявол вам слюбезничал? сатана-то чтобы подобрел? Уж это напрасно! Не такие времена!.. Рассадить, утопить – так! А то, чтобы…
Скоро совсем не стало слышно его речи, хотя его хохот и чиханье опять слышались откуда-то долгое время. Его болтовня развеселила публику, да и я чувствовал себя очень хорошо, потому что ясно видел, что мы застряли на весьма продолжительное время. Пароход так солидно врезался в берег носом, что верхняя палуба его была заметно поката. Куда мы врезались, за темнотою нельзя было разобрать, но с берега уже доносились человеческие голоса; слышались слова и речи, исполненные «меда и дегтя» по отношению к пароходу «вообще» и в особенности недоброжелательные к пароходному начальству.
– Вот так ловко воткнулся! Посиди, погуляй тут у нас с недельку!
– Так вас и надо, мошенников! Только с нас дерете! А-а-а! воткнулся! – орал в глубокой тьме, очевидно, чей-то пьяный голос.
– Капитан! – зевал кто-то зверским хрипом. – Деньги отдай, слышь? Протокол составлю!
– За что деньги? – спрашивал кто-то из пассажиров.
– У меня плот на этом месте стоял, двести дерев! За что! Я вас проберу! Капитан, выходи! Деньги отдавай!
– Прр-ткол на них, подлецов!
Такие недружеские отношения берега к пароходу производили далеко неблагоприятное впечатление и отнюдь не сулили скорого избавления от беды, и я видел, что благодаря участию судьбы я имею время не вдруг попасть в «срединные места».
– Чего так орете? – сказал, наконец, капитан невидимым существам. – Какие плоты? Что врешь, осел? Сколько вас там? Берите по рублю на человека, идите работать!
– Ребята! Слышь, по рублю!
В темноте слышно шлепанье по грязи множества босых ног.
– Ру-у-у-б-лю! – в кулак гудит кто-то.
– Ау!
И как бы с горы шлепаются звонко и плотно в грязь эти босые ноги. «Рубль», очевидно, действует.
– Живей, живей! – понукал капитан.
Скоро засветился на берегу фонарь, очертились облики каких-то темных фигур.
– Водочки по стаканчику, ваше благородие! В холодную воду лезть надо!
Скоро появилась и водка; враждебного тона как не бывало. Деготь кончился, начался мед.
– Благодарим покорно! Дай бог вам!
– Ну ладно, ладно, живей! Шевелись!
На берегу появились еще фонари; босые люди в рваных рубахах и штанах полезли в холодную воду. В руках у них были какие-то жерди, которые, сравнительно с огромными размерами обнаружившейся, благодаря мели, носовой части парохода, казались просто зубочистками. Нельзя было и мысли допустить, чтобы эти зубочистки могли совершить что-нибудь путное с этою массою железа, которая плотно, со всего разбега, была втиснута в крутой берег из цепкой, железистой глины. Решив, что с этими зубочистками микроскопические фигурки рабочих не совершат ничего путного, я ушел в свою каюту и предпочел лечь спать. Крики, «охи» и все те разнороднейшие звуки, облегчающие тяжелый народный труд, доносившиеся в круглое открытое окно, нимало не беспокоили меня. Я начинал уже дремать, когда пароход вдруг шевельнулся, осел в воду и поплыл. И тотчас же с берега понеслись опять самые несимпатичные для парохода слова:
– Стой! отдай деньги!
– Деньги отдай! Дьяволы этакие!
– Ребята, уходит! Не пущай!
– Садись в лодку!
– Протокол! Стой!
– Гони, ребята! Уйдет!
Но пароход не ушел. В то же круглое окно очень скоро послышались опять медовые речи. Мужики, подплывшие на лодке, вероятно полностью получили деньги.
– Благодарим покорно!
– Дай бог, вашскобродие, много лет!
– Счастливо!
– Дай вам господи!
И пароход понесся еще быстрее прежнего, стараясь наверстать «опоздание», да и месяц к тому же выглянул откуда-то крошечною точкой света.
«Нет, – подумал я, – мчит-таки в страну севера!» И с этой минуты мысли мои невольно также пошли в «обратный путь», к интересам жизни уже «невиноватой Руси».
2. От Оренбурга до Уфы 1890 г. *
I. «Башкир пропадает»– Пропадет башкир! Пропадет! Беспременно пропадет этот самый башкир!
Вот одна из тех особенностей, характеризующих современное положение Оренбургского края, о которой, прежде всего другого, всесословная молва встречных людей всякого звания, как говорится, «прожужжит уши» всякому, незнакомому с этим любопытнейшим краем, раз этот пришелец пожелает что-нибудь разузнать о нем.
Гибель башкира, начатая хищником побольше сотни лет тому назад и уже на нашем веку выразившаяся в самых бесстыдных размерах и приемах, не требует подробного изложения, во-первых, потому, что оно не исчерпано даже и в двух томах добросовестнейшего труда Н. В. Ремезова, а во-вторых, потому, что у всякого впечатлительного русского человека позорное дело расхищения башкирских земель оставило столь неизгладимое впечатление, что никогда не забудется и без напоминания об этом позоре.
В общих чертах можно сказать только одно, что «подлог» есть первоначальник так называемой культуры Оренбургского края. Он есть то зерно, которое первым занесено из недр нашего отечества на девственную почву башкирских земель, и которое, разрастаясь тончайшими и бесчисленными нитями своих бесчисленнейших ветвей и отростков, опутав взаимные отношения людей хищнического общества, сумело прорасти и в оберегающие закон учреждения, разрослось и здесь, и переплелось отростками и ветвями в единую, темную, дремучую, как глухой темный лес, кляузу.
Учреждение Дворянского и Крестьянского банков, кажется, должно приступить к расчистке этого дремучего леса. На основании беззаконных, подложных документов на владение похищенной у башкир земли можно было десятки лет эксплуатировать так или иначе беззаконно захваченную землю, имея дело лишь с частными лицами. Банки уже не то, что частные лица, и чтобы дать денег под залог частного имущества или же приобрести это имущество для переселенцев, банк должен иметь в руках действительно подлинныедокументы на владение. Но вот таких-то документов немалое количество владельцев, повидимому, вовсе не имеет. В бытность мою в Уфе, общественное мнение было сильно взволновано делом, касавшимся именно этих подлинных документов, необходимых для представления в Дворянский банк, из которого долговременный владелец обширной земельной собственности желал получить солидных размеров ссуду. Административный совет, которому подлежит решить, можно ли признать землю, предлагаемую в залог, выделенною из башкирских владений или нельзя? – распался, как гласит молва, на две совершенно враждебные партии: трое стоят за невозможность утвердительного ответа, остальное же большинство упорно отстаивает владельческие права, хотя представитель межевого дела, после самого тщательного изучения всей продолжительной тяжбы владельца за свое право, со всевозможными «инстанциями», мог вывести только предположение,что земля «должно быть»или «кажется»принадлежит владельцу. А материалы для такого заключения – целые горы бумажной переписки за целые десятки лет!
Не подлежит никакому сомнению, что такие неподлинныевладельческие документы замучают бесконечными и в то же время бесплоднейшими, продолжительнейшими хлопотами новые кредитные поземельные учреждения и в особенности изнурят переселенцев ожиданием той отдаленной (вследствие канцелярской проволочки) минуты, когда можно будет узнать, продадут им или не продадут подлежащий сомнению участок? Замучают и изнурят эти «неподлинные документы» главным образом потому, что, во множестве случаев, они имеют формальные достоинства вполне подлинных документов.
Множество владельцев, вроде Бунакова, имеют в руках приговорыбашкирских обществ о продаже ими участков тем или другим лицам, и такие лица имеют полное право и продавать свои владения и закладывать их без всякой опаски, что и практиковалось ими беспрепятственно до настоящей минуты. Препятствия, без всякого сомнения, были, и не один приговор оспаривался башкирами судебным порядком, а иногда и явным сопротивлением, но общее хищническое направление идей всегда умело достойным образом покарать протестующих. Напуганные этою карой, башкиры притихали на долгое время, но явная гибель, которая грозит им, повидимому, вновь возбуждает в них стремление к протесту, так как и сейчас всесословная молва толкует о том, будто бы в высших правительственных сферах найдено необходимым начать проверку не только документов на владение явно не подлинных, но и таких, которые вполне безукоризненны в формальном отношении.
Но если бы даже башкиры и могли бы, паче чаяния, иметь какой-нибудь успех в возвращении своих владельческих прав, все-таки нельзя не видеть, что успех этот будет делом случайным и во всяком случае запоздалым. Возвратив незаконно отнятую территорию, башкир непременно должен отдать ее законным порядком, так как ему нужны деньги, так как деньги-то и испортили его.
Начал он свою погибель с семикопеечной аренды, отдавая тысячи десятин земли за тысячи копеек. Несомненно, что копейка убавила размеры его личных забот и положила начало любви к праздности; поэтому, когда вместо копеек стали предлагать башкиру рубли, он уже не мог не соблазниться ими. За долгосрочными копеечными арендами пошли рублевые купли на вечные времена. Покупки навсегда отняли у башкира огромнейшие территории его владений, и, зная теперь, что он уже не хозяин в этих владениях, он передвинулся от них подальше, на новые, девственные места. Но и тут не мог угаснуть в нем аппетит к копейке и рублю, тем более что появился новый возбудитель этого аппетита.
Прежде был хищник, теперь пришел переселенец и стал предлагать башкиру гораздо большее количество копеек за десятину земли, чем давал хищник. Хищник давал семь копеек, а переселенец семьдесят, то есть немного меньше той цены, за которую башкир не так давно решался продавать землю на вечные времена. Как не отдать в аренду и той земли, на которую башкир только что передвинулся? И отдает башкир опять новые огромные территории, отдает пока только в аренду, но идут года, и приходит опять сокрушитель башкира, настигает его тот же переселенец, которому опять стало мало земли и который опять сует башкиру деньги за аренду.
Привыкнув уже к рублям, к сотням и тысячам рублей, башкир теперь, при последнем, так сказать, издыхании, стал «драть» за аренду под озимое не меньше как рубля по три, по четыре, чувствуя, что пришельцы «нуждаются» в земле, что она примыкает к арендованной или купленной ими через Крестьянский банк. Но нехватит у него, расслабленного в своих хозяйственных порядках притоком денег, то есть правом безделия, сил противустоять соблазну, который неминуемо предстанет перед ним. Переселенцы разочтут, что высокая аренда тяжела для них и что лучше и эту новую, подходящую землю прикупить. И вот опять башкир передвинется подальше в четвертый раз, и опять туда придет бородатый человек, потолковать насчет «земельки».
Велики, конечно, те пространства больших башкирских владений, куда отодвигается понемногу башкир, но велики и силы, наступающие на него, и раз он не сумел так или иначе противостать этим силам, будущность не сулит ему ничего иного, кроме оправдания пророчества и предвещаний, которые сулят башкиру новоселы.
– Пропадет башкир, пропадет! Беспременно должен пропасть этот самый башкир! – с искренним соболезнованием предвещает новый житель покинутых башкиром пространств и, пожалев «пропащего» нехристя, перекрестившись, берет в руки топор.
– Ну-ко, господи благослови! – молвит он с обычным облегчающим грудь передыханием и начинает, благословясь, валить под корень первое дерево для сруба своей собственной избы на покинутой «пропащим» башкиром девственной земле.
II. Простор и безлюдьеВ настоящее время весьма обстоятельно выяснено, что переселенческое движение крестьян из внутренних губерний прежде всего направилось в Оренбургский край. Жалкое и поспешное расхищение башкирских земель не может быть понято во всем объеме, если не принять во внимание, что хищник, захватывая огромные и в те времена действительно почти необитаемые пространства башкирской земли, совершал это дело с самыми определенными и очевидными целями; он знал, что необитаемые места не останутся необитаемыми и что в самом непродолжительном времени придут арендовать и покупать их несметные массы дозарезу нуждающегося в земле крестьянина.
Не подлежит также сомнению, что нуждающийся в земле человек был давно уже запримечен хищным глазом хищного человека, и хотя во времена расхищений такой человек появлялся в крае еще в самом незначительном количестве, а видом своим и нищенским попрошайничеством «Христа ради» ни в какой степени не походил ни на арендатора, ни на покупателя, – хищный глаз уже видел, что именно этот-то нищий в самом скором времени и станет оплачивать каждую затраченную им копейку полным рублем. Могущество всякого кулака, всякое хищническое богатство всегда созидается бедным, нищим человеком, и оренбургские хищники башкирских земель не могли быть исключением из общего правила.
Мы знаем, что хищное чутье и предвидение не обманули хищников. Первая переселенческая станция была устроена как раз в преддверии Оренбургского края, в Сызрани, устроена гораздо ранее таких же станций в Тюмени и Томске. Известно также, что в первые два-три года в отчетах сызранской станции количество проследовавших через нее переселенцев значилось уже в тысячах семейств. С тех пор движение в Оренбургский край шло непрерывно и непрерывно идет по сей день; ниоткуда не было такого обилия корреспонденций и целых статей (особенно в провинциальных изданиях), касавшихся переселенческого вопроса, как именно из Оренбургского края. Казалось бы, что в настоящее время, то есть в наши дни, пустопорожние башкирские земли должны быть уже достаточно заселены переселенцами из внутренних губерний, и что пустыни постепенно превращаются в жилые и оживленные человеком места. Но в действительности, несмотря на то, что заселение идет безостановочно и особенно усилилось после учреждения Крестьянского банка, все-таки четыреста верст пути от Оренбурга до Уфы по местности, наиболее населенной переселенцами (она прилегает к большой дороге), иногда поистине очаровательной, далеко не изобилуют человеческим жильем и не часто радуют встречей с прохожим или проезжим новоселом.
Объяснение такой видимой безлюдности, при непрестанном притоке переселенцев, таится в размерах арендуемой и покупаемой пришлыми крестьянами земли. Сведения об этих размерах мы находим в заметке К. Е. Сувчинского (заведующего оренбургской переселенческой станцией) «Переселенцы в Оренбургской губернии», напечатанной в настоящем 1889 году. Сведения, собранные в этой заметке, относятся к 1886 г., причем по сообщениям волостных и станичных правлений, количество переселенцев обоего пола исчислено в 109 485 душ, но г. Сувчинский, приведя эту цифру, отрицает ее подлинность и утверждает, что действительнаяцифра новоселов была к 1886 г. значительно больше, именно – от 150 до 180 тысяч. К тому же времени, из общего числа переселенцев, 73 831 душа [44]44
[Закрыть]. Относительно остальных тысяч переселенцев сказано, что они «проживают среди более богатого местного населения, большею частью в качестве работников, так как не имеют средств обзавестись самостоятельным хозяйством» (стр. 3). успели уже образовать 437 хуторов, преимущественно на арендованной земле; количество же общего пространства заарендованной переселенцами земли, определенное по сведениям, доставленным из уездов Оренбургской губернии, выражается в размерах, невозможных для крестьян внутренних губерний, именно: в Троицком уезде приходится на двор38 дес<ятин>, в Челябинском 28 дес<ятин>, в Орском 33, в Оренбургском 22, в Верхнеуральском 18, а в среднем выводе 26 дес<ятин> на каждый двор, причем дворозначает известное количество платежных, а не наличныхдуш.
Таким образом, оказывается, что крестьянский двор внутренних губерний, положим в триплатежных души, имеет только 9 дес<ятин>, в пять душ – 15 дес<ятин>, и то в самом счастливом случае; тогда как двороренбургского переселенца, в среднем выводе, имеет 26 дес<ятин>, то есть почти столько, сколько крестьянин внутренних губерний мог бы иметь на десять платежных душ, а такие семьи едва ли возможны, так как при десяти платежныхдушах наличныхдолжно быть более по крайней мере в пять раз, [45]45
В одном товариществе, купившем землю при содействии Крестьянского банка, платежных душсчитается 50, а наличных – мужского пола 170 и женского 173, всего же 343 едока.
[Закрыть]а таких патриархальных семей давным-давно нет в черноземной России и в помине. Следовательно, двор примерно в три платежных души имеет в Оренбургской губернии втрое более земли, чем двор крестьянина внутренних губерний, и вдвое более, чем двор, имеющий пять платежных душ.
Все эти цифры, показывающие число переселенцев, хуторов и пространства заарендованной земли, относятся, как сказано, к 1886 году. Не подлежит сомнению, что с тех пор все эти числа увеличились в значительных размерах, чему особенно помогло учреждение Крестьянского банка, который в 1886 году мог уже содействовать покупке переселенцами 5893 десятин, причем число платежных душ было 1886, имевших 321 двор, в 11 хуторах, основавшихся пока в одном из уездов губернии, именно Оренбургском.
Приняв во внимание, что новые, после 1886 года, аренды и покупки нимало не стеснили переселенцев в размерах подворного количества земли (этому нет никаких оснований, – земли многое множество), можно будет легко понять, почему безлюдность и обширность безлюдных пространств бросается в глаза постороннему наблюдателю, прежде чем он заприметит те три-четыре землянки новоселов, которым принадлежит эта огромная территория, предусмотрительно запасенная не только для наличного количества душ, но и для будущих поколений, которые несомненно будут множиться. Четыре землянки, едва приметные даже и на самом близком от них расстоянии, владея земельным наделом хотя бы только на две платежных души на каждый двор, теряются со всем своим населением далеко в немалом пространстве двухсот десятин принадлежащих им владений. Хутор в пятьдесят платежных душ владеет уже тысячами десятин, о чем в великороссийских губерниях крестьянину и во сне не приснится. Иногда владения новоселов тянутся и вширь и вдаль на несколько верст, и вообще так обширны, что всему наличному количеству жителей, вплоть до ребятишек, если бы оно сосредоточилось для работ в одном месте или разбрелось для той же цели по огромной территории, можно было бы только потеряться среди этих обширных пространств, но уж никак не оживить их, – так малочисленно население сравнительно с размерами арендуемой им земли.
В нынешнем (89) году пустынность простора и безлюдность видимых глазом земель имела, кроме обширности владений, еще и особенную причину. Три года подряд надо всем крестьянским населением Оренбургского края тяготел неурожай. Не только был съеден весь хлеб, но распродан почти весь скот, и голодовка зимы последнего года в такой степени была повсеместна и ужасна, что правительство вынуждено было на одно только пропитание голодающих израсходовать до 200 000 р. [46]46
Со слов крестьян, получавших пособия из этих 200 тыс<яч>, можно сообщить, что на каждую живую душу обоего пола и до пятилетнего возраста (всего 60 т<ысяч> д<уш> выдано было по 2 р. 50 или 60 к., причем предполагалось, что денег этих должно хватить каждому, получившему пособие, на четыре месяца.
[Закрыть]. «Проев» все, что можно было проесть, крестьянское население постепенно убавляло размеры посева, а в последний год сократило его до последней возможности, так как и семян было почти негде достать, все было съедено. Пережив три ужаснейших года, крестьяне и в нынешнем году пережили минуты глубокого отчаяния. Весенние морозы истребили всю рожь; за морозами начался палящий, иссушающий зной, и надо всем населением висела видимая и окончательная гибель. Но в июне и в июле хлынули дожди и все, что не почахло и не было убито морозом, все ожило, и ожил упавший дух крестьянства, хотя малый посев, очевидно, не удовлетворит не только всех крестьянских нужд, не поправит огромного хозяйственного расстройства, но едва ли будет достаточен и для домашнего обихода.
Там, где кроме бурьяна ничего не уродилось в течение трех лет, обильно уродилась огромная недоимка, и прежде всего, конечно, Крестьянскому банку, а затем великому множеству всякого рода учреждений, которые неумолчно теребят взыскания едва-едва устроившихся в непросохших землянках новоселов. Что-то нужно получить волостному правлению, что-то требует сельское общество, к которому приписался хутор, и сквозь дебри, едва тронутые топором, проникает к землянкам уже форменный «окладной лист».И удивительное дело: какой-то невидимый для обитателей землянок гений, неведомо где пребывающий, уже с точностью определил доходностьместности, которая едва только увидела образ человеческий и в которую до появления переселенцев ни единый живой человек не заезживал и не захаживал. А между тем невидимое существо с точностью обозначает цифру доходности, – вот она: 963 р. 81 к. Да, даже до копеек сосчитана доходность местности, в которой только что устроилось несколько землянок, и сообразно с цифрой доходности устанавливается с нее процентная сумма платежа: столько-то рублей и столько-то копеек. Вообще, в землянках новоселов уже накопилось такое количество всякого рода бумаг, которое, кажется, превосходит количество посевов, предназначенное на покрытие всяких требований, начертанных на этих бумагах. Впрочем, о внутренней жизни поселков и хуторов будет сказано ниже.
Безлюдье, таким образом, увеличилось в настоящем году вследствие крайне малых размеров запашек. Незачем ходить в поле, когда там ничего нет. Но эти пустынные местности, открывающиеся взору путника по обеим сторонам дороги, вообще так всегда хороши, живописны и так настойчиво призывают человека к привольной жизни, что впечатление «безлюдья» и «пустынности» совершенно забывается под влиянием мечтаний о приближающейся минуте полного оживления этих прекрасных мест.
Весь путь от Оренбурга до Уфы вообще производит самое приятное впечатление. Приволье, обилие сил природы – чуются даже и в сравнительно невзрачных местностях, которые минуешь по дороге. Но иногда на протяжении двух-трех перегонов, то есть сорока – пятидесяти верст, случается проезжать поистине очаровательные места, не теряющие своей прелести ни на одну минуту. Места эти большею частью самые безлюдные, почти нетронутые ни плугом, ни топором, но на каждом шагу невольно ощущаешь горячую, любовную заботу природы о том, кто непременно должен здесь жить и для которого эта любящая мать-природа приготовила пышную, роскошную встречу.
Все, что дает человеку счастье, все до мелочей, кажется, предусмотрено этой заботливой матерью, бесконечно любящей свое любимое детище – человека. Разостлала она пологие, тучные поля для посевов, а холмистые, с мягкими очертаниями, возвышенности приспособила для всего растущего, чему нужен солнечный припек; и луга, пышные и густо заросшие, придвинула к студеным ключевым речкам, иногда расширяющимся в небольшое озерцо; и как бы в охрану всего растущего от жгучих ветров песчаных пустынь, от холодных суровых ветров из холодных пустынь севера, повсюду, там, где очевидно было «необходимо», разрастила она чудные рощицы; дуб, береза, липа, вяз – все как на подбор, все «первый сорт», все сильно, крепко, каждый лист блестит полнотою здоровых соков; но все это, «выращенное» с любовной заботой к человеку, не рвется ввысь и вширь, чтобы затмить поляне солнце или чтобы омрачить ее черными, сплошными тенями. Чудные рощицы, выращенные заботливой матерью по вершинам холмов, по краям полей, по краям узких ущелий, как заботливые няньки только лишь охраняют все, что нужно для счастия человека. Но человека этого пока не видно, хотя кажется, что он, как будто… уже тут… и притом повсюду… Вот и поет он, и девичьи хоры слышатся из-за горки и из-за рощи; и в речке плещутся и смеются ребятишки, стучит где-то топор… Материнская забота природы о благе человека, о просторе жизни его живой души до такой степени овладевает сознанием путника, что видимо безлюдные места кажутся ему наполненными кипучей, бьющей ключом жизнью.








