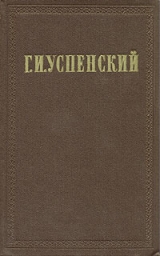
Текст книги "Том 8. Очерки переходного времени"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 45 страниц)
А относительно «русской школы» идет только бесплоднейшая и бесконечнейшая переписка.
План школы выработан давным-давно; г. посол, г. консул и особенно секретарь консульства давным-давно хлопочут и горячо сочувствуют этому делу; монахи Афонской горы готовы внести на постройку школы большие пожертвования; сто русских торговых людей, проживающих в Константинополе, также выразили желание жертвовать на это дело в особом адресе г. послу. Кроме этого, министерство финансов вполне одобряет план и программу школы, и г. министр согласен внести в государственный совет предложение о ежегодной субсидии училищу в несколько тысяч рублей, «как только оно будет открыто».Таким образом, благое дело пользуется сочувствием двух министерств, покровительством местных представителей власти, сочувствием всех местных русских подданных, не говоря о глубочайшей необходимости ее в смысле нравственного прибежища для славянских народностей Балканского полуострова, и все-таки нет никакой школы! Она не может быть открыта без разрешения нашего ведомства иностранных дел; даже и разрешение-то испрошено г. Нелидовым год уже тому назад, но не получено(!) в Константинополе до сих пор по причинам, которых не может понять даже само наше посольство в Константинополе. Итак, вот как мы, мечтающие о том, что «св. София будет наша», сильны уважением к нашему нравственному влиянию среди наших братьев-славян, и как мы сами внимательны к своей и чужой духовной жизни. Пишем бумаги и думаем, что в этом-то и есть наша сила, пред которой почему-то должен пасть весь Запад и Восток. Судите сами: я только что рассказал историю школы, учреждения в высшей степени необходимого; как видите, оказывается невозможным сделать дело даже и тогда, когда все препятствия устранены. Но, ничего не сделав, мы полагаем, что переписка может заменить настоящее дело; и можете ли представить, что возня эта сделала возможным назначение штатного учителяпри школе, которой не существует. «Да, в Константинополе живет штатный русский учитель несуществующего училища!» («СПб. вед<омости>», № 51).
Но и это еще не все!
Учитель этот не получает «жалованья ни от какого министерства, только чиныот министерства народного просвещения» да запросы– и как вы думаете? О чем эти запросы? Подивитесь и послушайте: запросы о том, когда он приступит к «преподаванию»!Вы не верите, что можно делать такие дела и таквлиять на Востоке? Ну, так поверьте, что все написанное сущая правда; все это было уже публиковано и, кроме г. Б., писавшего об этом в «СПб. вед<омостях>», подтверждено нам лицами, занимающими в Константинополе официальное положение на русской службе.
А вот по части кулачества, барышничества, ничего, орудуем и у врат святой Софии. По Галате нельзя пройти без того, чтобы не получить тысячи приглашений из тысячи публичных домов на русском языке:«Здравствуй! Заходи! братушка!..» Все российский товар, из Одессы, из «России». У турок нет ничего подобного.
Недурно припомнить также и следующую сценку.
Едем мы как-то в Буюк-Дере с одним русским семейством на лодке и видим, что с берега (лодка ехала близко к берегу) раскланиваются два каких-то человека. Человеки были в «пинжаках» и с бородами «мочалой», а раскланивались с таким гостинодворским жестом, что не было возможности не спросить:
– Кто это такие?
– А это, – ответило лицо, которому адресовались поклоны, – наши русские купцы.
– Что же они тут делают?
– Да приехали цирк русский открывать… кажется, от братьев Никитиных.
Таким образом, относительно нашего нравственного влияния на Востоке и неизбежно вытекающих из него реальных дел оказывается необходимым подождать. А пока наше отечество предъявляет себя в виде «живого товара» и в виде мужика, кувыркающегося в цирке.
4
Храм св. Софии велик, обширен, но не величествен, особенно снаружи; у него есть лицо и изнанка, и вся его красота сосредоточена строителем внутри храма, а вся изнанка, то есть все, что было нужно сделать, чтобы перекалечить храм в мечеть, все это прилажено снаружи, без всякого внимания к внешней красоте. Минареты красивы и хороши как всегда, но чтобы их можно было приладить к христианскому храму, нужно было сделать ненужные в архитектурном отношении пристройки, вынести тяжелые каменные стены, соединяющие магометанские пристройки с христианским храмом и обыкновенно не имеющие места ни в христианском, ни в мусульманском храмах, взятых в отдельности.
Камень, из которого сделан храм, также обращен наружу изнанкой; он не изукрашен, как собор Парижской богоматери, ни Кельнский собор, которые снаружи-то, пожалуй, красивее, чем внутри. Серый, нешлифованный камень, закопченный каменноугольным дымом пароходов, огибающих вход в Мраморное море и выход из него, мысок, на котором стоит храм (он стоит близехонько от берега Мраморного моря, но место это пустынно и обстроено нищенски), неприветливо смотрят на путника, пришедшего подивиться этому историческому зданию. Внутри храма впечатление, конечно, несравненно более сильное, но в художественном отношении и здесь оно довольно смутное. Кто бывал в Исаакиевском соборе или, еще лучше, в храме Спасителя в Москве, тот может себе составить впечатление размеров храма, а храм Спасителя, кроме того, может дать весьма близкое понятие о внутреннем расположении св. Софии. Нечто вроде коридоров храма Спасителя есть и здесь, когда вы входите с улицы; верхняя галерея, широкая и светлая, совершенно напоминает вам такую же галерею, или хоры, в храме Спасителя, только подниматься надобно не так, как в Москве, по железной витой лестнице, а по наружной каменной, помещающейся в обширной пристройке, и, вернее, не по лестнице, а по широкой, постоянно поднимающейся вверх булыжной мостовой, на которой, идя в темноте, поминутно спотыкаешься, такие там ямы и ухабы.
Внутренность храма св. Софии значительно искажена мусульманскими переделками; не будь их, план ее был бы точь-в-точь такой же, как храм Спасителя, то есть крестообразный, с четырьмя арками, поддерживающими купол. Здесь же боковые, правый и левый, концы креста застроены рядом колонн в восточном вкусе, близко одна к другой расставленных по прямой линии; то же самое и вверху; так что колонны христианской постройки иногда стоят почти рядом с колоннами, пристроенными мусульманами, и бессмысленно загромождают храм.
Неряшливость, вот что особенно бросается в глаза при обозрении храма; кое-как замазано все христианское, кое-как налеплено и напачкано мусульманское; стихи из корана на круглых зеленых щитах, написанные золотыми буквами, грубо укреплены на веревках так, что и холст, на котором написаны изречения, и деревянные, грубо сделанные рамки, к которым холст прибит, все это говорит, что об изяществе тут мало заботятся, не так, как в «настоящих» турецких мечетях. Внизу храма, впрочем, все гораздо опрятнее, но в верхних галереях полная беспризорность: птичий помет разбросан повсюду и местами в значительном изобилии. Одна сторона верхней галереи обнаруживает стремление развалиться, и пол, неметеный, грязный, местами осел, треснул, глубоко ввалился и вообще покороблен, наподобие того, как покороблены были набережные петербургских каналов после наводнения. Мозаические потолки вызолочены и разрисованы ничего не означающими фигурами и цветами; и позолота и рисунки неопрятны, закопчены и небрежно намалеваны кое-как, так что мозаические изображения кое-где проступают чрез позолоту. Над алтарем, например, ясно видны очертания Спасителя, распростершего благословляющие руки, выступающие сквозь позолоту, и какие-то намалеванные на ней цветы. Как будто сами турки чувствуют, что это все только «пока» ихнее, что в сущности этот храм – чужой, кое-как переделанный на магометанский лад. По крайней мере турок, с которым приходится ходить по верхней галерее, сам ведет вас смотреть проступающий сквозь позолоту лик Спасителя и сам говорит, что «это значит, храм опять будет христианский».
Сверху вид на площадь храма с молящимися не столько эффектен, как в других мечетях, сколько любопытен; весь пол храма устлан широкими цыновками, положенными не прямо поперек, а поперек наискось, сообразно чему и то, что я назову магометанским алтарем, передвинуто с центра христианского алтаря немного правее. Но молящегося народу как-то мало здесь; в других мечетях, как говорится, яблоку негде упасть: вся она заставлена правильными шеренгами молящихся, плечом к плечу; все они буквально моментально и как один человек становятся на колени, делают поклон, разгибаются, опять падают ниц и лежат уткнувшись лбом в пол; дисциплина в молитве образцовая; вот уж, можно сказать: «вкусно молятся турки», как иногда выражаются русские простонародные любители богомолия. Огромная площадь храма, сколько мне пришлось видеть, кое-где только пестреет небольшими группами молящихся. Вечером вид с хор эффектнее, чем днем. Масса люстр, не таких, как наши, то есть не гроздью, а плоских, с огнями, размещенными по кругу, состоящему из небольших полукруглых извилин, низко и все на одной плоскости, висят над молящимися; сверху видны какие-то огненные змеи, извивающиеся в разных направлениях над толпой молящихся, а вверху, в глубине купола – тьма: на верхних галереях – только зрители, иностранцы, группы человек в пять – десять, и ни одного мусульманина. В куполе св. Софии в четырех углах, на местах соединения с куполом четырех поддерживающих его колонн, когда-то были, вероятно, изображены ангелы с крыльями, сплетающимися над головой, с боков ангельского лика и под ним. Турки «кое-как» замазали лики, налепили на них что-то медное, вроде медных подносов, а могучие крылья так и остались, как были.
Итак, впечатление, получившееся при посещении св. Софии, было весьма смутное: неопрятно, пустынно, заброшено, пусто, беспризорно, «кое-как». Никакие исторические воспоминания почему-то совершенно не шли на ум при виде этого, во всех отношениях искаженного, почти заброшенного храма. Даже иностранцы как-то не интересуются им; да и вообще, среди современных нравственных и политических забот, идей и течений мыслей, на которые наводит вас константинопольская жизнь, для всех св. София как-то в стороне, она как-то одинока со всею своею историею, и только русские считают своею обязанностию посетить ее, снимают шапку, входя во храм, крестятся, говорят: «хорошо бы, если бы она наша опять поскорее стала!» Но, выражая такие пожелания, и сами русские как будто бы поослабели в мыслях, касающихся решения участи св. Софии. Нет огня, страсти в этом желании «поскорей бы была наша!»
Св. София находится, как я уже сказал, в Стамбуле. в этом константинопольском Замоскворечье. Но, воля ваша, наше Замоскворечье сохранило больше своих типических черт. Конечно, здесь больше, чем где бы то ни было в других частях Константинополя, сохранились восточные черты нравов, образа жизни и архитектуры, но все-таки международно-шаблонные черты, вторгнувшиеся в жизнь Константинополя, и здесь, в турецком Замоскворечье, почти поглощают редкие, характерные особенности Востока. Казарменные постройки правительственных учреждений, шаблонные европейские дома с лавками и кафе внизу, все это изобилует в количественном отношении над постройками восточного типа; эти постройки, со всеми своими характерными особенностями, тонут в океане-море всевозможного рода проявлений шаблонного европеизма.
Турецкий рынок, турецкая улица мозолят вам глаза европейскими товарами, европейскими приемами торговли и разными типами продавцов; вид улиц, со всеми мелочными подробностями, в большинстве совершенно европейский: тротуары, мостовая, фиакры. А переулки, закоулки с турецкими домишками, большею частью деревянными, и закрытые ставни этих домишек так кажутся неуместными и такими жалкими, что и смотреть на них не хочется.
У нас, на Руси, положительно гораздо ярче выделяется мусульманский элемент в тех городах, где он есть, чем это есть в Константинополе, в этом, казалось бы, центре мусульманского мира. Где-нибудь в Казани, в Тифлисе, не говоря о Крыме и о такой прелести, как Бахчисарай, все мусульманское испорчено у нас несравненно меньше, чем здесь, а главное, оно у нас ярче, самостоятельнее и рельефнее выделяется на фоне русской жизни.
Кстати сказать, Бахчисарай восхитителен именно как типический мусульманский город; все здесь, начиная от построек, от внешнего вида улиц, до внутренней жизни всего живущего в нем, все вполне оригинально, без малейших признаков какой-нибудь посторонней примеси или подмеси; торговля, товары, люди, торгующие ими, дома, в которых они живут, – все чисто мусульманское, не только вполне сохранившее свои традиции, но сильное ими, не допускающее мысли о том, что эти традиции когда-нибудь прейдут, напротив, твердое ими и вообще во всех отношениях ярко типичное. А вот в Константинополе, в самом центре мусульманства, все чисто мусульманское теряется на сером фоне шаблонно европейских порядков жизни, видимо чахнет от них и во всяком случае не может не чувствовать собственной отсталости, слабости и, так сказать, однобокости жизни, таящей в глубине своей нездоровое зерно.
Однобокость, отсутствие в турецком населении силы бороться с твердыми, с каждым днем все сильнее и сильнее налегающими порядками, чувствуется вами, посторонним наблюдателем, едва ли менее, чем самими турками. Женщина, изгнанная из общежития, лучше всего доказывает, что порядок, который считает нужным для своего благообразия и устойчивости запереть на замок целую половину рода человеческого, который находит нужным завязать этому «полу» лицо, рот, очевидно, порядок этот не настоящий и таит в себе какую-то язву.
Не думаю, что я сделаю большую ошибку, если приведу заключительные слова одной мусульманской сказки, как очень хорошо рисующие сущность и строй жизни мусульманина. Сказка, рассказав длинную историю бедняка, всякими правдами и неправдами добившегося в конце концов богатства, заканчивается так: «Теперь, – сказал Мезула жене своей, – ты не будешь упрекать меня в трусости и лености. И с тех пор(то есть с момента обогащения) никто не видал больше Мезулу выходящим из хаты своей»(«Татарские сказки» В. X. Кандараки, стр. 11). Добиться того, чтобы никуда не выходить из дома своего, это, кажется, и теперь заветное желание турок. Днем турок служит, работает, торгует, но после известного часа он безвыходно дома и, как рассказывают, к нему в это время нельзя пробраться ни по какому самому безотлагательному делу. Вот почему вся служба теперешнего турка заключается в том, чтобы иметь средства – не выходить из дому; можно с грехом пополам выйти, взять бакшиш, и чем больше, тем лучше, ухватить где-нибудь доходный кусок, заложить государственный доход с таких-то и таких-то статей, – и домой, в эту мурью с закрытыми ставнями.
Не раз приходило мне в голову спросить себя: что такое там держит его в мурье с закрытыми ставнями? Точно ли он там блаженствует среди гурий, или, напротив, он среди них как в тюрьме? Особенно неотступно преследовал меня этот вопрос в один из последних дней рамазана, когда султан, по обычаю, берет новую жену, что совершается каждогодно. Весь город турецкий горел огнями; весь турецкий флот в Золотом Роге был иллюминован; мечети, минареты, башня, все было залито огнями; а там, в темной дали Босфора, в Ильдиз-Киоске, фейерверк необычайных размеров: целые снопы, столбы огня летят к небу; оркестры музыки играли часов до пяти утра; все турецкое население опьянело от удовольствия, от музыки и вообще от какого-то раздражающего впечатления свадьбы падишаха, праздновавшего всенародно там где-то, в темных садах, у темных вод Босфора, среди огней и музыки, – свой новый брак. Почему этот праздник? В чем тут величие падишаха? Отчего такая радость и торжество по случаю явно неблагообразного поведения брата льва и дяди солнца? Если он точно наслаждается и если точно толпа рада, что брат солнца может жениться столько раз, сколько ему угодно, то и брат льва и толпа – просто скверны; и этот фейерверк, эта иллюминация, эта музыка всю ночь – только огромное, ни малейшим образом не допускающее никаких смягчений, глубочайшее, публичное падение в самую грязную грязь.
Впечатление глубочайшей грязи от этих мусульманских постов и праздников несомненно; но вот что изменяет несколько ваши мысли по поводу этой грязи: чем объясните вы отсутствие в мусульманском строе жизни таких явлений, как проституция, женское монашество, детоубийство и подкидывание детей? Ведь ничего этого нет. Кроме того, не только в мусульманском мире нет проституток и монашек, но нет и торговок, горланящих: «луку зеленова, лууу-ку-у!», ни торговок, сидящих на базаре на горшке с рубцами, все это делает мужчина: он шьет, он вяжет, он печет хлебы, продает зелень; словом, на трудовом рынке – один мужчина, а женщина там, дома, в гареме, в семье, то есть при своих детях. Получая каждый божий день по жене, можно думать, что мусульманин приносит себя в жертву, берет на свои плечи бремя, сохраняет женщину от всякого зла, давая каждой право быть матерью, то есть сохранить себя в чистоте. А о естестволюбии мусульманина можно судить по множеству фактов, доказывающих, что он чтит естество во всех видах: чтит воду; лес чтит необычайно, и все леса чисты, сильны, могучи; чтит животных; возьмем хоть бы этих собак константинопольских: они плодятся и множатся тут же на улице, и никто не потопит кучу этих щенят, все они вырастают тут же и опять плодятся и множатся. Или это равнодушие? У нас в былое время донские казаки, занятые войной, топили детей и только постепенно стали снисходить к мальчикам, а потом перестали топить и девочек. Собак, кошек у нас топят постоянно, – «жалеючи»; здесь же все это свободно плодится и множится без малейшей помехи. Как так женщина да вдруг не родит, не будет матерью, не познает мужа? И добродетельный турок, надо полагать, старается сделать как можно более добрых дел: дает сотням девушек право быть матерями, множиться, то есть исполнять то, что им непременно надобно выполнить, как женщинам, как существам иного пола. С этой точки зрения ежегодный брак султана можно перетолковать как подвиг, а восемьдесят карет (цифра газ<еты> «Новости»), в которых еле-еле помещается султанский гарем, только свидетельствуют о неисчерпаемой доброте падишаха: сколько он несет бремени! сколько бесплодных смоковниц воззвал к жизни! Истинно второе солнце, и нет с его стороны особенной похвальбы в том, что он титулует себя братом этого самого солнца.
Но на каких бы логических основаниях ни была построена эта жизнь, результаты ее весьма плачевны. Плачевны в нравственном отношении: ничего, кроме слова «бакшиш», не внес мусульманский мир в жизнь той массы народностей, которыми он владел и владеет. Мусульманский мир ничего не сделал ни в литературе, ни в искусстве, ни в промышленности. Но еще плачевнее результаты оказываются в физическом отношении: раса, и особенно высшие классы ее, вырождается и физически истощена уже в значительной степени. Откуда это обилие мрачно задумавшихся, глубокомысленных лиц, которые вы постоянно встречаете в мужчинах около сорока лет возраста? Какие такие думы гигантские удручают их огромный ум? Под тяжестью каких дум состарились эти согбенные старцы, которых вы то и дело встречаете на улице, в кафе, везде? Улыбки, веселого, бодрого лица в массе мужского турецкого населения – ищите днем с огнем и не найдете. Но присмотревшись к этой глубокомысленности, к этим «вдумчивым» лицам, вы видите только серьезность трупа, серьезность лица, в котором замирает деятельность нервов. Что же касается женщин, то положительно, сколько я ни видал их, все они также изнурены бесплодной тратою сил взаперти и бессмыслием гаремной жизни. Это большею частию чахлые существа, мелкие, бледные, сварившиеся в собственном соку. В одном русском семействе с год времени жила одна гречанка, мошеннически проданная в гарем. Проживя там с полгода, она нашла возможность убежать оттуда и скрылась в русском посольстве. Эти полгода гаремной жизни не столько развратили, сколько истомили ее, отупили, обезглавили, так сказать, обессилили. Лень, тупая апатия к жизни, вот что вынесла она из гарема после шести месяцев жизни в нем, хотя вошла туда здоровой, работящей женщиной, вольной птицей. Положительно всякий раз при виде турчанки, закутанной, завязанной как бы в мешке, с крошечной линией разреза только для глаз, мне невольно вспоминалась наша российская баба. Даже вот в качестве богомолки-смиренницы она куда как не смирна и беспрерывно деятельна: полежала, полежала на своей пароходной койке третьего класса, скучно стало без дела, пошла к повару: «Дай, мол, картофь почищу»; чистит «картофь», про Иерусалим рассказывает и каламбуром на каламбур ответствует. А те наши бабы, солдатские жены, которые первые стали возить почту из Владикавказа до Тифлиса, в то время, когда ни солдаты, ни частные предприниматели не брались за это опасное дело: пули жужжали не только в горах, в темных горных трущобах, но и в самом гор<оде> Владикавказе опасно было жить; никто не брался за эту трудную работу, но бабы взялись, оделись по-ямщицки, и валяй на тройке; иная в полушубок завернет мальчонку, а иная его рядом с собою посадит. Какую массу природных сил развивает наша крестьянская женщина, и какую, стало быть, бездонную пропасть этой женской силы, без толку, злодейски, душегубски, удушает мусульманский порядок жизни в миллионах своих гаремных женщин. Не живут и не благословляют они своих братьев солнца и племянников луны, а сгнивают, тлеют, сгорают сами от собственного, ни на что не направленного, живого огня жизни.
И есть уже признаки, что так будет недолго идти дело: как только умрет валиде, мать султана, «все женщины откроют лица», – говорят одни; другие говорят, что женщины тотчас же снимут чадры и будут так же открыто ходить по улицам и смотреть в окна, как и все, – «как только придут русские».О проявлениях непокорства в мусульманских женщинах свидетельствует и то, что перед праздником рамазана полиция публиковала правила, касающиеся женщин, и строжайше приказывала им соблюдать во время этих ночных гуляний строжайший мусульманский этикет, то есть появляться на гулянье с завязанным ртом, лицом и т. д. Очевидно, дело уже неладно. Гуляя ночью во время рамазана в Стамбуле и глядя на бесконечную вереницу карет, исключительно с женщинами, мы не раз замечали не только почта открытые, вопреки полицейским предписаниям, лица, но и папироску в устах гаремной затворницы.
Но правоверный должен быть правоверным, и зная, что идеал его – «всю жизнь не выходить из дома своего» – колеблется и шатается, в то же время видит и чувствует, что голова его отказывается выдумать какой-нибудь другой идеал, и поэтому все усилия употребляет на то, чтобы всеми правдами и неправдами дожить свой век во имя этого идеала. Распродавая чужим людям свои государственные богатства, он все-таки стремится «сидеть дома, не выходить из дому» и охраняет этот порядок жизни от нашествия иных порядков – только оружием. Казармы, крепости, пушки, солдаты, военные школы, артиллерийские дворы – первое, на что Турция обращает серьезнейшее внимание. Только силою и может держаться эта гниль.
Выходя из Стамбула на плашкоутный мост, соединяющий Стамбул с Галатой и Перой, вы можете видеть влево от себя весь турецкий флот. Он стоит в глубине бухты Золотого Рога, в самом роскошном, живописном уголке, бережется, как зеница ока, у самого сердца Стамбула. Флот в большом порядке и не мал; пушки вычищены, прилажены к своим местам, и вообще весь вид флота таков, что «хоть сейчас». Замечательно, что флот приютился в самом живописнейшем месте Константинополя, в Золотом Роге, и что в то время, когда на 15 верстах берегов Босфора, частию вовсе незастроенных, нет ни одной фабрики, ни одной дымовой или паровой трубы, здесь, в Золотом Роге, в живописнейшей местности, заведены мастерские, кузни, пылают доменные печи, стонут паровики и несется копоть, дым. Испорчено самое живописное место, испорчен удивительно прекрасный берег, от подножия которого идет по террасам, поднимающимся к Пере, роскошная кипарисовая роща. Но когда вы подумаете, до какой степени пушка, корабль, монитор, солдат, ружье и пуля важны для мусульманского мира, что это единственное его спасение и опора, то вам станет понятно, почему естестволюбивые турки решились загрязнить это роскошное место мастерскими и всяким хламом, им сопутствующим: им надобно, чтоб это было под руками, перед глазами, около, близехонько. Сам султан с Ильдиз-Киоском и гаремом, утопая в великолепных садах, затем вторично, уже вместе с садами, утопает среди солдатских казарм и тысяч солдатских ружей и штыков.
5
Теперь мы идем в Перу, и враг, надвигающийся на бедного турка, начинает попадаться нам все чаще и чаще, по мере того как мы подвигаемся из Стамбула через плашкоутный мост. И здесь уже европеец, европейский костюм, европейски одетая женщина – кишмя кишат среди турок, а через несколько секунд мы и совсем уже в европейском городе.
В Перу мы попадаем помощью подземной железной дороги, вокзал которой находится в нескольких шагах от моста. Пробыв несколько секунд в плохо освещенном вагоне, мы выходим на площадку к новому, только что оконченному фонтану; кругом европейские постройки, отели, рестораны, кафе, посольские и консульские дома и дворцы, по-парижски одетые дамы и мужчины, одетые с иголочки, также по-парижски. Конечно, и здесь не обходится без типических константинопольских черт: собаки те же, что и в Галате, и осел иной раз рявкнет совершенно не по-парижски; но здесь вы уж не чувствуете затхлости Стамбула, здесь уже веет чем-то освежающим, дышится легче; словом, здесь вокруг вас все вам знакомей, подходящей и вообще покойней. Такую обстановку жизни вы понимаете, глаз присмотрелся к ней и если не поражается чем-нибудь особенным, то и не оскорбляется ничем, как оскорбляет вас помесь мусульманского и азиатского с европейским в Стамбуле. Достаточно войти в первый французский ресторан, в кафе, чтобы совершенно забыть, что вы в Константинополе, на Востоке, в азиатчине; все здесь как должно; газеты, услужливая прислуга, карты кушаний, и кушанья все знакомые, не то что какие-то турецкие чебуреки, к которым и прикоснуться-то боишься.
Итак, мы очутились в Европе. Кафе парижское, ресторан, где обедаем, – тоже парижский, и биргалле точь-в-точь такое, как ему быть должно, и немец в биргалле так же сосет свою сигару, как подобает ее сосать немцу, и кегли стучат так же, как следует. Мы в Европе несомненно; но что значит это досадное состояние духа, которое, зарождаясь понемногу, начинает развиваться в вас постепенно, каждую минуту все сильнее и сильнее? Когда вы бывали в европейских центрах, Париже, Лондоне, Берлине, то та же самая обстановка и тот же обиход жизни, какой вы находите здесь, в Константинополе, в фотографической точности, – все это никогда не производило на вас такого дурного впечатления, какое производит здесь. Отчего вам нестерпимо скучно здесь, среди вполне европейской обстановки жизни, то есть среди которой вам никогда не было так скучно, скверно, досадно, тускло?
Мало-помалу это неприятное состояние духа начинает выясняться, то есть вы начинаете видеть, что Европа-то точно Европа, но как будто бы не вся,что в этомевропействе чего-то нехватает и, напротив, чего-то чересчур много. И очень недолго придется вам ждать ответа на вопрос о том, чего именно здесь много и чего нехватает. Нехватает, так сказать, «парадных комнат» европейской жизни, нехватает «господ» европейского жилого дома, нехватает европейского гения, таланта, вкуса, мысли европейской нехватает; словом, нехватает всего, во имя чего живетЕвропа, во имя чего сложился известный порядок. «Господа» – там, в Париже, в Лондоне, в Берлине, в Петербурге; здесь – задний двор Парижа, Лондона, Петербурга, Берлина; здесь прислуга, вкривь и вкось толкующая о господах: «спит», «пишет», «посылает телеграмму»; там, в парадных комнатах, вдали от заднего двора, возникают планы, предприятия, проекты, словом, там идет жизнь; здесь только исполняют приказания, платят по счетам, не кушая от трапезы господ, приносят те покупки, за которыми посылали господа, и уносят то, что господа велели унести. Не раз я спрашивал наших константинопольских аборигенов: «Да кто же населяет эти пятнадцать верст по обеим берегам застроенного Босфора? Кто живет в битком набитых шестиэтажных домах Перы, раскинувшейся на необозримое пространство?» И мне всегда отвечали: «агенты», «банкиры», «комиссионеры». Я задавал мой вопрос потому, что никакой местной производительности, ни завода, ни фабрики, ничего этого нет; а если есть, то в таких ничтожных размерах, что прокормить всю эту стотысячную массу по-европейски одетых людей нет никакой возможности. Все эти сотни тысяч могут жить только на готовые деньги; но богачей, тузов капитала, которые бы прочно устроились здесь на житье, воздвигли бы свои отели, парки, дворцы, – нет здесь. И пожив немного в Константинополе, вы убедитесь, что ни один магнат, ни один крез, ни один большой ум не будет здесь жить: здесь нельзя жить; здесь можно только считать, платить, получать, словом, делать черную работу денег, а проживать их можно только в настоящем, жилом европейском месте. И точно: ни театра, ни литературы, ни малейших признаков общественного интереса, ничего нет здесь. Все второй, даже третий сорт; все одето в платье из магазина готового платья, одето шаблонно, по-солдатски, однообразно. На гулянье, в саду, стоящем на высоте против Золотого Рога, вы видите отборное константинопольское европейство, и все оно среднего, даже третьего сорта, среднего приличия, шаблонного благообразия, мещанского щегольства; ни одного выдающегося лица, костюма – ни у мужчин, ни у женщин. Француженки, немки, гречанки, итальянки, все они равняются своим купленным костюмом, однообразием невысоко парящего вкуса в туалете и значительно-буржуазною скромностью в проявлении уменья жить в свое удовольствие. Толстоваты они все, грубоваты их корсеты и турнюры, неказисты головные уборы, невыразительны лица, да и речи тоже больше такие, какие говорятся «под музыку» и «на гулянье», а музыка, как и везде, «который был моим папашей» играет, а публика гуляет, а погуляв, чинно-благородно идет по домам, спать. Все европейство, которое пришло сюда, все оно средней руки, конторского типа, умеренное и аккуратное, весьма пригодное для того, чтобы женщина, вкусившая его, была примерной женой конторщика, конечно примерного и аккуратного и конечно вкусившего того же самого аккуратно-умеренного европейства.








