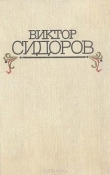Текст книги "Луна звенит (Рассказы)"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
А на столе уже ждали лафитничек водки и колбаса вареная с водянистыми серыми дырками и крупными кусками сала, духовитая, «домашняя», кусок которой Генка взял в руку и приготовился с улыбкой, глядя на тестя, который речь готовил. Тот любил речи за столом!
Долго еще пировали и чай из самовара пили, Генка уснул, и Иван опьянел вконец, а наутро с трудом припомнил, как его мать вела ночью по улице домой, приговаривая что-то ласковое.
Проснулся он поздно и, когда понял, что проснулся после похмелья, долго боялся пошевелиться, думая о притаившейся боли, которая неминуемо ударит вдруг в голову и не отпустит. Но голова не болела, и он повеселел на радостях.
Отец под окном грелся на солнышке. Был он в валенках и в стеганке. Иван окликнул его, тот зашевелился, поворачиваясь.
– Сиди, – сказал Иван. – Сиди, сиди… А где мать?
Отец спокойно, на этот раз без натуги ответил:
– Во дворе поросенка кормит.
– А денек-то, денек! – пропел Иван из комнаты. – Теплынь…
Старик слышал, как сын его ходил босый по избе, напевая незнакомую песню, как бренчала пряжка брючного ремня и как ботинки стукались об пол.
– Гуталина у вас нет? – спросил вдруг Иван. – Черного?
– Нет, – ответил старик.
– Плохо.
– А чистить-то чего? – сказал старик. – Нечего.
Ночью он опять не спал и все прислушивался к дыханию сына. Тот и пьяный дышал тихо, без храпа, словно тоже прислушивался, таился, не спал.
Старик вспоминал ночью о других своих сыновьях: о Федоре, и о Васе, и о Митьке, которые не вернулись с войны. Вспоминал, как они бегали, маленькие и босые, и как дрались меж собой, и как плакали, и как мирились.
«Митя-то вырос серьезным, – думал он. – В шахматы играл. И все-то он задумывался и бледнел, когда задумывался, будто зябнул от мыслей разных. А Федор, тот… Фе-едька…»
И вдруг он забыл, какой же из себя был Федя, не мог никак вспомнить его лицо, с Васей путал и измучился совсем, не в силах вспомнить сына. Он знал, что в рамке на стене вделана фотокарточка Федора: одна-единственная, выгоревшая, желтая… И вот только когда он вспомнил вдруг о желтой этой карточке, явилось из потемок памяти смеющееся лицо и усы под носом, которые сын то отпускал, то снова сбривал. Федор был беспокойный парень, с матерью ругался, а мать ему, бывало, летом с вечера выставляла на подоконник кринку с молоком, прикрытую ломтем хлеба. Федор гулял по ночам, о еде редко вспоминал и не любил сидеть дома. Эту кринку, не заходя, выпьет, бывало, заест хлебом и пошел опять к ребятам. Много тогда было молодежи, и песни пели. Играли…
А Вася младшим был. На фронт совсем мальчишкой ушел и плакал, когда мать плакала. Слезы у него текли. Вася белесый был и веснушчатый, конопатый, рыбу любил удить, а братья его звали «цыпой».
«За чтой-то они его так прозвали? – думал старик, радуясь, что помнит об этом. – На курицу он вовсе не походил. На мать он, верно, был похож, а мать – та на курицу… Вон, видать, откуда «цыпа»-то взялась… Вон как оно обернулось хитро!»
И, довольный запоздалой этой догадкой, Пронин улыбался, вспоминая Васька своего, и старался теперь, созерцая памятью лицо его, найти в нем что-то от курицы.
«Глаза у него круглые, что ли? – думал он с любопытством. – Как у матери? Или нос клювом? Видать, заслужил, раз прозвали…»
Забывались годы, расстояния, и вся жизнь из той далекой глубины приходила в сегодня, в весеннюю эту ночь, и сам он молодел, и прошлое становилось явью, сегодняшней былью, жизнью его, землей, по которой он ходил без труда, и смех он свой воскрешал, шутки свои над ребятами и обиды ихние, радости и просьбы… Чего они только ни просили у отца с матерью! Да не допросились…
«И все они погибли! – понимал он вдруг с тоской. – Все убиты. И не знаю, как помирали они. Сразу ли смерть пришла или мучила?»
– Царство им небесное, – шептал он неслышно и тяжело дышал носом, а волосы опять сипели и посвистывали в потоках воздуха.
«Один только жив. И дедом стал. Он-то ласковым был, мать больно любила его и попрекала им братьев: вот, мол, какой Иван хороший да послушный. Помнится, он Федьке, когда тот послабже был, часто ума вкладывал… А потом перестал. У Федора товарищей – вся деревня: попробуй тут полезь!»
Он опять забывался и в радостном томлении воскрешал сыновей из мертвых, вспоминал ушедшие свои силы…
И проходила ночь в этих снах наяву.
«Митя меня учил в шахматы играть. Вот смешно! Кони там всякие, королевы, короли… Любопытная игра! И слоны были. А вот не выучился. Не пошло».
Теперь ему было жаль, что не выучился когда-то играть в шахматы, которые после Мити растерялись и на игрушки внучке пошли. Короли и королевы стали куклами с чернильными глазами, а пешки их дочерьми. Галя их заворачивала в тряпочки стираные и играла на солнышке.
«Стало быть, и Галя в шахматы играла, – подумал он с ласковостью и удивлением. – По-своему играла. Все, стало быть, впрок пошло. А теперь вот сама королева – сына родила. У всех у Прониных были сыновья. У Ивана только дочка. Вежливый да ласковый – вот и вышла у него дочка, а не сын».
И снова он прислушивался к неприметному дыханию старшего сына, не думая ни о чем, не вспоминая, – и ни боли не чувствовал, ни радости, как в думах о погибших сыновьях. Все в нем мертвело.
«Иван теперь сам старик – чего ж тревожиться: жить умеет, – думал отец. – Дача и все такое… Хитрый мужик! Подъехал так, что люди и не поймут ничего, похвалят только: вот, мол, какой сын заботливый, старичков на дачу к себе берет. Так подъехал, что и я-то сразу не разобрал, к чему это он клонит, чуть слезой не прошибло от волнения… Матери-то невдомек, зачем мы ему там нужны, заплакала глупая. А он, стерва, на чувствах ее играть хочет! Ах ты, стерва! Стало быть, не честная она, эта дача его придача. Ох и хитрый мужик! Чуть было меня, дурака, с толку не сбил: поверил я было, что вот оно, сыновье-то чувство – не оставил, дескать…»
И, думая так, он глушил в себе и, сердясь, не подпускал к сердцу неосознанное какое-то чувство, похожее на зависть или на обиду, – не разберешь. Недозволенное какое-то чувство, которое он испытывал втайне к сыну, словно (подумать было страшно) жалел, что в живых остался Иван, а не один из тех, других сыновей. И клял он себя за этот туман, за муть эту постылую, за тяжесть на сердце и даже кричал неслышно всем своим существом, духом и мыслью взрывался в гневе, топтал, давил себя, как насекомое, очищаясь от этого холода и злобности. «Цыц! – кричал он себе. – Обглодок!»
Обессиленный борьбой, он подолгу лежал в равнодушии, пока не начинала сниться ему опять былая иль теперешняя явь: Галя и Генка, сующий ему в руки замятую папироску. А Генку он любил, верил в него, и ему было приятно думать о парне – мысли о нем всегда приходили ясные и чистые, как сама Генкина жизнь, как привычная работа, точно он землю пахал, а не о человеке думал, и хорошо было на душе от этих раздумий.
После таких ночей он не чувствовал усталости, той, о которой давно уже позабыл, о которой вспоминалось, как о счастье, – усталостью стала теперь вся его жизнь, он привык к ней и смирился.
Часто он думал по ночам, что надо бы ему поработать: дров поколоть или землю покопать, и порой ему чудилось, будто работой он сможет прогнать старческую притомленность, вечную свою слабость и хворь. Он всякий раз, когда приходили мысли о работе, радовался, чувствуя желание, слыша, как колотится сердце в предвкушении завтрашнего труда… Но наступало утро, и он бессильно держал и гладил глянцевитый черенок лопаты, знакомый до мелочей, с отшлифованным, блестящим сучком, с какими-то одному ему только известными выемочками и бугорками, и черенок ускользал из его сухих ладоней…
Березовую эту палку он срубил очень давно, весной, в соседней рощице. Выбрал прямую березку, всю в распушившихся почках, и одним махом срубил ее. Тут же росли ландыши, и березка упала на их листья, на цветы и лежала нежная, живая среди темных зарослей ландышей. И кажется, впервые в жизни Пронину стало жалко срубленного дерева, жаль было обрубать топором налитые ветки, и чудилось ему, будто не топор позванивал, а деревце, шумно вздрагивая от страха и боли, плакало… Но, посмеиваясь над своей небывалой жалостью, подумал тогда, как ребенок, что березке этой повезло, потому что она не просто погибла, а стала полезной вещью в руках человека: не всякому дереву такая честь. А потом, года через два, он проходил мимо того места, где когда-то срубил березку, вспомнил о ней, пригляделся к опустевшим летним ландышам, увидел косой серый пенек среди листьев и изогнутую молодую веточку, которая упруго росла из комля.
Он присел на листья и долго смотрел на эту веточку. Было у него неспокойно на душе от тихой и потаенной радости, которая расслабила его. В жизни он много загубил деревьев, а вот пожалеть – ни одно не пожалел: молод был, а теперь, выходило, состарился и жизнь по-иному ценил, берег ее в каждой травинке, никому не признаваясь в своей слабости, понимая ее как стариковскую блажь.
А вот и самого его подрубило. И лопата уже ни к чему. Сил не хватало вонзить ее в землю. Все прошло… Жизнь…
Он страдал от бессилия, было это для него самым большим несчастьем, бедой, которую не пережить и не обойти.
– Плохо, – говорил он тогда жене, опираясь на лопату, как на костыль. – Ох, плохо! Была могутка, а вот теперь и не будет. Кончилась моя могутка.
В глазах у него тлело горе, жена понимала его и жалела всерьез, успокаивала, как могла, приговаривая ласково и встревоженно:
– А ты бы на солнышке посидел, погрелся бы… Солнышко-то всему живому силы дает и тебе даст. Это после зимы ты устал, зима-то была хмурая, снега да метели, солнышка-то и не видали мы с тобой, а теперь оно тебе силы даст… Как же! Ты посиди да погрейся, а грядки я и без тебя вскопаю, я, чай, моложе тебя на шесть годков.
И она смеялась ласкающим, заботливым смехом, вела его с огорода и усаживала на скамейке под окном на солнечном пригреве.
Все теперь по хозяйству делала жена.
Вот и в это утро тоже встала чуть свет, сбегала к Гале за парным молоком для Ивана, печь растопила, еду разогрела и новую поставила варить, и поросенка успела накормить, а услышав Ивана, вышла со двора, вытирая о передник руки, с великой радостью и умилением в глазах.
– Доброе тебе утро, Ванечка, – сказала она. – Как спалось сыночку моему? Небось жестко было. Перина-то сенная, а сено старое, сбилось, все бока небось отлежал.
– Ну за кого ты меня принимаешь! – говорил Иван. – Ты и так лучшее мне постелила. А сама на досках. Будь я вчера потрезвее, я бы тебя на эту кровать уложил, а сам бы туда лег. Вот ты действительно бока отлежала. Ну зачем ты так?
– А ночи мои короче твоих, – говорила мать баюкающим голоском. – Только глаза закрыла, а солнышко тут как тут, вставать велит.
– Наверно, замерзла ночью.
– Я, Ваня, тулупом прикрылась. Хорошо под тулупом! А замерзла бы, на печь перебралась. На печи-то жарко!
Они долго еще мирно переговаривались, ублажали друг друга вниманием и добротой.
Пронин хорошо слышал их, сидя под окном на солнышке, и слышал потом, как пил Иван молоко и как мать молчала.
– Выпей стаканчик, – сказал ей Иван.
– Нет, сынок, я молоко не пью. – И она, смеясь, говорила нараспев: – Я ведь чайное брюхо, как отец скажет. Чайное я брюхо. Одним чаем сыта.
В полдень Иван собрался домой. Генка был на работе, Галя кормила сына, когда он пришел проститься.
Комната, посреди которой сидела на стуле Галя, была освещена блестким солнцем. Все посверкивало в этой чистой, застланной половиками комнате – листья фикусов, и стеклянный буфет, и приемник, покрытый плетеной скатеркой, и полыхающее жаром и стыдом лицо Гали, глаза ее, разглядывающие сына, который впился забвенно в ее грудь.
– Милая ты моя, – сказал отец, поглаживая ей голову. – Чудо мое! Я вас с Генкой очень люблю. Ты ему от меня самый горячий привет передавай, скажи ему, что я его люблю. Ладно?
Он был опять пьян после обеда и счастлив был, что вот навестил наконец родных своих, отца с матерью и дочь, прежнюю свою жизнь. Так долго собирался и вот собрался. И то внимание, та любовь, которую он встретил здесь, на родине, в своем краю, кружили голову сильнее вина, ему хотелось говорить всем приятные какие-то слова, хотелось признаваться в любви и хотелось, чтоб все были тоже пьяны от счастья и любви его.
И он поцеловал на прощанье Галю и пахнущего детской сладостью внука, Игорька, щека которого была нежна и упруга, как губы.
Провожать его на станцию поплелся и старик, как ни уговаривали его остаться. До станции было недалеко, шоссе подсохло, и идти было нетрудно.
Над оплывшими непахаными полями летали чибисы, пикировали со стоном и взмывали вверх, гоняясь друг за дружкой, стучали тупыми крыльями, садились неподалеку и бежали, как самолеты, с распущенными крыльями. В воздухе они казались большими, а на полях ходили какие-то маленькие птички с точеными шейками и хохлатыми головами, не похожие на тех, что были в небе.
Шли по шоссе медленно, останавливаясь и отдыхая. Иван вел стариков под руки и, все больше хмелея от вина и свежего ветра, который дул с полей, торопился высказать матери нечто важное и ей приятное, необходимое… Ни в бога, ни в беса сам не верил, но знал, что мать молилась за сыновей, за мужа, за себя, и он понимал ее только такой, набожной и религиозной, и знал, что ей приятно.
– А вот, – говорил он, – ты молилась за меня… Я знаю, ты всегда молилась за Васю, Митьку и Федю, за всех нас молилась. Вот бог и услышал. Оставил тебе меня. А ведь что было! По трупам бегал, прыгал через трупы, землей меня засыпало, а вот ни контузии, ни ранения… А почему? Потому что ты за меня молилась, ночей не спала… Вот я и остался в живых.
Он видел, как мать морщилась в благодарной улыбке и как глаза ее блестели слезой. Старик тяжело дышал и дальше идти не мог, остановился и отдыхал, поглядывая на жену и на сына. Глаза его опять смотрели на мир дико и гневно, нос сипел, и напрягались жилы на шее.
– Говорила я, – сказала ему жена, – и чего тебя понесло! Вон как землей взялся, глядеть страшно. Может, домой тебя отвести? А? Отец?
– Не хочу, – сказал он глухо. – Нет. Отдохнем и дальше… Я не сплошаю. Нет. Не сплошаю. Не уподу.
И они шагали дальше по серому в трещинах асфальту, который был так чист, словно его недавно отмывали с мылом. Лишь на перекрестке, когда к шоссе подтягивались проселочные, земляные дороги, видны были на асфальте рыжие следы машин.
Было тепло, и над пыльной травой в кюветах, над цветами мать-мачехи пролетали рвано и легко желтые бабочки. Голубизна была над головой бледная, туманная и теплая, и чудилось, будто ветер с полей был тоже голубым, таким же теплым, весомым и упругим, как вода. И вкусным был этот ветер.
Редко их обгоняли автомашины, и, когда они катились под горку, слышалось клейкое какое-то, торопливое жвакание резиновых колес. «У вас – у вас – у вас – у вас…» – пели шины в тишине.
Далеко и чисто разносились все звуки в весеннем воздухе. Иван своими словами растрогал мать, и она шла со скорбно-умиленным лицом, с несказанной благодарностью в мокрых глазах.
– Ты все для меня сделала, – говорил он матери, – родила меня, вскормила, вырастила и от пуль уберегла. Хорошо ты прожила свою жизнь! Трое сыновей твоих погибли, а я вот по счастью живу. Теперь я вас к себе беру… Вот тепло станет, приеду за вами.
Отец больше не отдыхал, разошелся и шагал без устали, бухая сапогами и подлаживаясь по-солдатски к ноге сына. Лицо его было равнодушно и строго, и деревянная немота врезалась трещинами-складками в это бурое лицо, и только воздух сипел в носу, напарываясь на жесткие волосы, да глаза тревожно смотрели вперед с невольным ожесточением и злобой.
На станции было людно и совсем сухо. Деревня, откуда они пришли, лежала в низине, и там еще не успела стечь вся вода, а здесь, на станции, было сухо совсем, за грузовыми машинами тянулась ленивая пыль, тополя стояли тяжелые, бурые, набрякшие соком, готовые сбросить шелуху почек и свесить красные сережки… В этих тополях-великанах летали маленькие птицы, и были у них свои какие-то пути, входы и выходы, удобные какие-то ветви, были свои заботы у этих птиц, свои трудности – то они травинки на бугре подбирали, то кусочки ваты или ниточки всякие, мочало, пушинки и летели, торопливые и обремененные, в могучие тополя, вставшие за станцией, и опять возвращались на замусоренные с зимы бугры, к дороге, по которой проезжали грузовики.
Пронин с женой уселись на синей скамейке, а Иван пошел в кассу и скоро вернулся, маня их к себе рукой и улыбаясь.
– Поезд не скоро, – говорил он, – минут через сорок. А тут буфет и пиво есть, а? Пивка-то, отец, а? Хорошо! Ты, мам, посиди-ка здесь, мы с отцом пива выпьем, – говорил он матери. – А то хочешь с нами!
Но мать отказалась, притихла на скамейке под солнцем и стала смотреть на птиц, которые копошились в прошлогодней, сухой траве.
Электропоезд из Москвы, прибывший на эту конечную станцию, раздвинул двери, сложил на крышах вагонов контактные дуги, опустел и притих.
Пронины вошли в вагон и уселись с солнечной стороны. Иван сел к окошку, его старики напротив.
– Неплохое пиво, – сказал он отцу. – Свежее. Здесь ему не дают состариться.
Отец промолчал, напряженно разглядывая сына, вслушиваясь в его слова, и было похоже, что он не понял и ждал повторения.
– Тебе понравилось пиво? – спросил Иван, кладя руку ему на плечо.
Отец был в старых синих брюках, которые когда-то привез ему Иван, в пиджаке, тоже привезенном сыном, в резиновых сапогах, в шапке-ушанке. Вместо ответа он стянул с головы шапку и поправил свой сивый чубчик, спадающий на лоб. Взгляд его был мрачен и зол.
– Ну чего молчишь, – спросила у него жена. – Насупился, как упырь. Чего ты глазищами-то водишь? Ровно проглотить хочешь. Ох, плох отец стал, ох, плох! – говорила она сыну, покачивая сокрушенно головой. – Совсем плох. Пустынь на лице…
Иван смотрел в окно, на железные рельсы, проржавевшие шпалы, на мужчину в черной фуражке, который медленно шел по шпалам, на серых воробьев и думал о том, что, видно, это последняя встреча с отцом и нужно, наверно, проститься с ним навсегда. Но понимал, что сделать это невозможно, что перед ним живой человек, хоть и «пустынь» у него на лице – ни радости, ни горя. Он торопил время, поглядывал на часы и на входящих пассажиров, которые рассаживались в пустом еще вагоне.
«Плох отец, – думал он вслед за матерью. – Совсем ведь плох. Видно, не увижу я его больше в живых».
Приближалась минута отправления поезда, затарахтели пневматические устройства, нагнетая воздух, и слышно было, как цокнули о натянутые провода вздыбившиеся дуги.
Мать с отцом поднялись, попросили приехать с новой женой и пошли к двери. Отец сошел на перрон и, словно избитый, ненавистно смотрел на сына.
«Какой у него обидчивый взгляд», – подумал Иван неприязненно.
Мать замешкалась в тамбуре, прослезилась, смотрела на сына с мольбой, как на икону, и говорила:
– Приезжай, Ванечка, родной. Не забывай про нас. Почаще приезжай. Знаю, что дела, но уж как-нибудь приезжай.
– Да ведь теперь я вас к себе возьму! – сказал Иван. – Вот тепло станет… Мам, – спросил он вдруг, – а что это отец так смотрит-то злобно? У него всегда теперь… такая злоба в глазах?
– Не злоба это, сынок, – сказала мать. – Вовсе нет. Му́ка это у него в глазах.
– А я было подумал…
– Да что ты, родной, что ты! Это у него жалость в глазах и му́ка. Неужто не видишь? Приезжай! И жену свою новую покажи нам с отцом. На карточке-то хорошая она, а в жизни, наверно, еще лучше. Будем ждать тебя, – говорила она уже с перрона. – Летом приезжай!
Потом задвинулись двери, и поезд поехал. Иван вернулся в вагон, сел на лавку, освещенную солнцем, и огляделся. Вагон был почти пустой. За окном потянулись дощатые склады, товарные вагоны с гравием и лесом, цементные ограды, серые яблони и серые дома…
Он смотрел в окно и ни о чем не думал. Он устал, измучился… И только сейчас понял, как он устал от этой поездки, от отцовских взглядов и материнских слез радости.
«Жизнь есть жизнь, – подумал он. – Кто-то рождается, живет, а кто-то умирает, а кто-то ходит между жизнью и смертью, ничего тут не сделаешь. Вот только, видно, придется, наверно, не рассчитывать на отца. Какой уж он хозяин! На мать, видно, придется оформить дом…»
И он задумался о том времени, когда он получит телеграмму от дочери и узнает, что отца не стало…
«Придется тогда ехать хоронить его. А как бы хорошо, если бы не надо было хоронить людей, а вот так проститься, как сегодня, и все… Там ведь теперь и Генка, и вообще не оставят – всем миром похоронят. Можно и на могилу приехать… Не люблю я похороны».
А тем временем старики его медленно шли по умытому половодьем шоссе. Их обгоняли автомашины, и так же жвакали резиновые покрышки, когда грузовики катили под горку, и так же кружились чибисы над мокрыми полями. Мать шла согнувшись, и казалось, что не она вела старика, а сам он тащил ее, повисшую на руке, к дому.
Когда они подходили к деревне, старик остановился и, трудно дыша, оглядываясь с мучительной радостью, сказал:
– Видишь, мать, дошел твой старый… Не упал. А ты меня все пугала – уподешь, уподешь. А вот не уподу!
Они стояли на обочине шоссе и видели отсюда свой дом и белых кур, которые ходили за пряслами по огородам.
– Дошел, – говорил старик радостно. – Мать, ты видишь, дошел твой старый… Вот, глядишь, солнышко кости прогреет, так и совсем хорошо… работником буду.
Он оглянулся на жену, тронул ее за плечи и спросил:
– Ты чего все плачешь?
– Не плачу я, – ответила мать. – За тебя радуюсь, думала, уподешь, сплошаешь, боялась. Путь-то неблизкий. Да и Ванечку жалко. Куда-то он из родного дома ушел, как-то ему там, с новой-то женой. И ведь вот… зовет к себе… А как же нам ехать?
– Ну будет, будет о нем! – сказал старик безжалостно. – Нашла о ком печалиться.
Путь их теперь лежал по тропе через угол поля к деревне, к пустому дому, в котором было когда-то людно и шумно, в котором рождались когда-то люди, плакали, смеялись, сосали материнское молоко, росли, гуляли, дрались и мирились, а потом ушли… Все ушли. И никому из них не суждено было умереть в отчем доме – ни Федору, ни Васе, ни Митьке, который в шахматы играл.
– А ктой-то у нас рыжим-то был? – спросил вдруг старик. – Родился-то рыжим кто? Вася или Федя? Забыл я что-то.
Мать ответила не сразу, тоже, видно, вспоминала.
– Вася рыженьким родился, а потом потемнел, – сказала она, не удивляясь вопросу. – Вася был…
– А не Федор ли? – спросил старик.
– Тот темненький родился, с волосиками. А Вася был рыженький. Родился-то он голенький, а потом рыжие волосики выросли, – сказала жена.
Старик промолчал, а когда подходили к дому, он вдруг сказал радостно:
– Ну дак, верно, верно! А кого ж это цыпой-то звали?! Ну дак, – воскликнул он, – понятно тогда! Вот его и звали цыпой, что он рыженьким был. Неспроста! А я-то думал, отчего ж это его так прозвали? Ага! Думал, он на курицу был похож…
Он улыбался, и в глазах его отражалась мутная голубизна неба, насыщенного испарениями. Жену он проводил домой, попросив вынести валенки, а сам уселся на лавке под окном и, впитывая солнечное тепло, задумался, вперившись в пространство. И нашла на него туманная дрема.