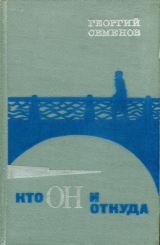
Текст книги "Кто он и откуда (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
А старик отвечал Тане:
– Как труба! Газ не вода. Угляди-ка! Нешто его видно?
– Неужели за день не успеют? – спрашивала Таня. – Сколько же можно испытывать?
– А взорвется, тогда что? Это дело серьезное очень, газопровод… Только нюхом и уследишь или приборами какими… Это тебе не вода.
А потом пришел местный поезд, и все люди, которые сидели в зале, ушли навсегда из ее жизни, забравшись в старенькие, высокие вагоны с округлыми крышами и узкими окнами. И грузчики ушли, а спустя время донеслись с улицы колкие, звонкие удары падающих бревен.
К концу дня, когда она уже перестала надеяться на мужа, на встречу с ним и, измученная, думала о том, как ей добраться с чемоданами до дома той женщины, которая позвала ее, к площади со стороны города подкатил рычащий мокрый ГАЗ-69, крытый почерневшим брезентом.
Она торопливо пошла к дверям, готовя себя к тому, что это опять не он и что больше уже она не будет ждать, а потащится со своими чемоданами в чужой дом, но вдруг увидела, когда вышла на площадь, машину со слюдянистыми оконцами в брезенте и увидела, как на ходу отворилась дверца и чей-то грязный сапог, словно притормаживая, коснулся земли, и тут же она поняла, что это Сашка, грязный, усталый и смеющийся: он вырос перед ней и побежал к ней, раскинув руки. Он был в шинели, и шинель эта была забрызгана желтой грязью. Таня Галошина прижалась к этой шершавой, новой еще шинели. Сашка целовал ее в виски и в губы, а сам смеялся и взмыкивал от восторга, а она слышала этот вздрагивающий, нервный смех, слышала свое имя: «Татьянка, родная!» – которое он повторял, и поглощенная радостью, ощущением родного человека, его запахом, его порывистой лаской и, понимая, как он тоже соскучился за это время по ней, по ее телу, осознав вдруг свое нетерпение, свою радость, она всхлипнула сквозь смех и мокро взглянула на мужа, у которого фуражка упала на землю и который стоял перед ней с непокрытой головой, с примятыми, пропотевшими волосами, высокий и угловатый в этой новой шинели, ее Сашка – самый близкий и родной человек, о котором она уже не могла бы сказать, хотя прошло не так уж много времени, красив он или нет, потому что это потеряло давно уже всякое значение – он просто был самым близким ей, и самым понятным, и понимающим ее человеком: без него она не могла уже жить.
Она опять прижалась судорожно к его кислой шинели, ощущая щекой жесткий погон и колючую звездочку, хотела сказать что-то необходимое и нужное и не могла найти слов.
И вдруг они оба, поняв, что не одни среди этой площади, как-то вдруг успокоились, огляделись. Саша поднял свою фуражку, отряхнул ее тщательно и надел, поправляя волосы, которые сбились на виске, и посмотрел назад, на машину, возле которой стоял, пружиня ногами, офицер в плащ-накидке. А Таня Галошина тоже поправила шляпку и тоже оглянулась на машину. И оба они пошли.
– Какие вы грязные! – говорила Таня. – А машина-то, боже мой! Как же вы сумели, бедные? Я ведь все-все знаю, и не рассказывайте, я все знаю… И совсем перестала надеяться.
– Ну вот, – сказал ей муж, когда они остановились около машины. – Это мой командир, я писал тебе…
Офицер в накидке слегка поклонился и сказал:
– Очень приятно. Мне Николотов много о вас рассказывал.
– Таня, – сказала Таня Галошина, протягивая руку.
– Кудлай, – сказал офицер.
– А имя? – спросила Таня Галошина.
Кудлай вдруг смутился и сказал:
– Игорь. – И добавил с усмешкой: – Вы не удивляйтесь, если вашего мужа арестуют суток на десять.
Николотов засмеялся и сказал:
– Сюда прорвались, обратно тоже… Мимо всех кордонов, на брюхе по лесам, по гатям… Если бы не старший лейтенант, я бы и не встретил тебя сегодня! – говорил он жене. – Хорошо, что ему в отпуск! Хо! Просто повезло! Если б ты знала…
– Шеф у нас гений, – сказал Кудлай.
– Да, слушай! Это действительно гений, – подхватил Николотов.
И опять, возбужденный пережитым, он смеялся, легонько обнимая жену, словно убеждаясь в ее реальности, помогал Кудлаю вытаскивать чемодан из машины, а потом побежал вместе с женой за ее чемоданами, и Таня подумала с удивлением вдруг, как длинно и официально называет ее муж этого парня в накидке – «товарищ старший лейтенант», потому что Кудлай этот совсем не выглядел старшим, а, наоборот, был моложе Сашки, и это смешило ее.
«Дети! – думала она. – Совсем как маленькие дети… Чудаки!»
* * *
Они приехали в расположение части, в одну из отдаленных деревень, которая называлась Талицей, совсем уже ночью.
У соседнего дома лаяла собака, озлобленно урча в паузах, чавкала под ногами грязь, лучик карманного фонаря скользил по лужам, которые взблескивали среди антрацитово-черной грязи, и ноги тоже скользили. И Тане было страшно представить жизнь в этой деревне, ежедневные и непривычные заботы, вынужденное свое безделье, домоседство, глухие предзимние вечера… Но она и не в силах была представить себе эту жизнь и не хотела этого. Она все время думала о горячей еде, о теплой комнате, о постели, о ласке, о тайном том празднике, который барьером отделял ее пока еще от грядущих будней.
Слишком долго и тяжело они добирались сюда, нарушая чей-то строгий приказ о перекрытии всех дорог, и хотя Сашка ей говорил, что в обычные дни сюда приезжает автобус из города, ей как-то уже и не верилось в это.
В окнах дома, к крылечку которого они подошли, за потными стеклами горел свет, искрясь морозно и колко.
Саша, оттянув плечи и руки чемоданами, длинношеий и ссутулившийся, тяжело дыша и спотыкаясь на ступеньках, говорил сбивчиво:
– Вот тут… Осторожнее, тут скоба железная, не упади… Ничего, ничего! Лучше завтра при свете отмоешь, не старайся. Лучше сейчас переобуешься… Вот тут, значит, я и живу. Вот видишь, здесь весной будет сирень цвести… И акация, кажется…
Он, покашливая, толкнул нетерпеливо плечом двери, они с грохотом растворились, и Саша, стукаясь чемоданами о стены, протиснулся в сени, а Таня, окинув взглядом деревянный дом, кирпичи, уложенные у входа, нависшую над высокими плоскими окнами крышу, нерешительно вошла следом за мужем в сени и, освещая деревянную лестницу фонариком, видя мокрые следы на ней, спросила у Саши с озорством, словно они врывались в чужой дом:
– Тут, оказывается, деревянная лестница?
– Да, – отвечал он. – Не упади.
– И деревом так хорошо пахнет, – сказала она, поднимаясь вверх по чистым и гладким ступеням, на которых муж наследил ужасно.
Она увидела справа отшлифованное перильце со старыми извилинами трещин, тронула его рукой, и это перильце, деревянный, сухой и скользкий поручень и деревянная лестница, ведущая в дом, просторные сени с необъятным в потемках, высоким, смутным потолком, струганые бревна, и пакля, и запах сухого дерева – все это ей понравилось, и она сказала:
– Как хорошо-то! Я так давно не ходила по деревянной лестнице…
Но Саша не ответил, и она услышала, как он порывисто и загнанно дышал.
– Посвети-ка сюда, – сказал он.
И когда она осветила низкую дверь, обитую холстиной, он стукнул в эту дверь сапогом и конфузливо проворчал:
– Вот гады! Уснули, наверно…
Ему было неловко перед женой за друзей, которые, как он думал, уснули, не дождавшись, а он хотел, чтоб они все-таки встретили их на пороге, и опять сильно стукнул сапогом по стене, но за стеной уже слышались голоса, возгласы, топот, и дверь растворилась, и оттуда вымахнуло в сени яркое, слепящее полымя света.
– Не спят, конечно, – сказал Саша.
Таня щурилась на свет, улыбалась ребятам в зеленых рубашках, которые подхватили чемоданы, унесли их в комнату и вернулись опять к двери, которую никто не затворил, и захлопнули ее. Дверь издала деревянный, глухой стук, и с этим домашним стуком ушли куда-то в прошлое недавние тревоги и предчувствия. И Таня поняла себя так, как если бы пришла в гости к милым людям.
Ей помогли снять пальто, она слышала в голосах ребят добрую натянутость, предупредительность, видела загадочные взгляды и, несмотря на усталость, радостно чувствовала в этих взглядах и улыбках, во всей этой объяснимой скованности желание понравиться ей, понимая, что сама-то она понравилась Сашкиным друзьям.
Их было двое, хотя сначала, когда отворилась дверь, Тане показалось, что дом был полон гостей… В доме пахло незнакомо и приятно: хлебными сухарями и теплой печью. А эти двое были лейтенантами, они были так же молоды, как Саша, как сама Таня, как ее московские друзья. Но было ей странно подумать вдруг о том, что все они так же молоды, как ее друзья, странно было видеть в комнате только этих мужчин в зеленых рубашках с погонами. Чувство это было непонятно и смущало Таню, словно люди эти искусно притворялись, что молоды и беспечны, как ее далекие друзья, а на самом деле они совсем другие: и улыбались они не так, и задумывались не так, и на часы посматривали не так… Более глубокие и важные причины, чем дружба и приятельство, связывали их между собой. И ощущение этой глубинной связи, о которой они сами ни на секунду как будто не забывали, делало их старше и серьезнее прежних ее друзей.
Пока она мылась на кухоньке, бренча рукомойником, она торопилась понять сразу, с налета, вдруг этих людей, их жизнь, понять себя среди них, свою роль – и не могла понять. И только одно она поняла вдруг с жутью в сердце, с необъяснимой гордостью, со сладостным чувством, что с этого дня она будет жить среди настоящих мужчин, которые не простят ей слабости… Так она подумала вдруг о своей жизни здесь, и когда Саша принес ей лохматое розовое полотенце, она с похолодевшей от восторга спиной, чуть не плача от нахлынувшего чувства, прижалась плечом к нему, к его груди, к зеленой его рубашке, пропахшей потом, и, холодная от воды, попросила его в молитвенном молчании, в мгновенном этом восторге души и тела, попросила мокрыми глазами, бледная и обессиленная, чтоб он верил ей и надеялся на нее. А он зажмурился, сморщился в блаженной улыбке, молча сжал судорогой рук ее плечи, но, стесняясь ребят, которые сидели в комнате за перегородкой, внешне спокойно, громко спросил:
– Ты, кстати, привезла все это хозяйство?
– Какое хозяйство? – спросила Таня.
– Ну… щетку там… зубную. Пасту.
Потом он снял рубашку и, громко фыркая, расплескивая воду, стал мыться, а она стояла рядом и, насухо вытертая, пахнущая туалетным мылом, держала большое полотенце в руках, ожидая мужа.
– Я даже привезла с собой зеркало, – сказала она. – Круглое.
Она поправила прическу, намокшие прядки волос на невысоком своем, узком лобике, который она всегда прикрывала локонами завитых волос, а он, принимая из ее рук полотенце, шепотом сказал:
– Ты и без зеркала – чудо!
Таня слышала, как друзья его, которых звали Юрами, тихо разговаривали о чем-то серьезном в светлой комнате. На кухне же было тускло, желто от пятнадцатисвечовой лампочки, и пол здесь был забрызган мыльной водой, над столиком висел старый, прошлогодний календарь со столбиками ушедших в прошлое дней, жужжали мухи, слышно было, как они ползали по бумаге, клейко шурша, а под рукомойником на подпорках стояла грязная шайка с серой водой, в которой плавал распухший окурок. Она подумала, что первое, чем займется в этом доме, будет кухня, но тут же, позабыв об этом, подумала о тазике, о белом эмалированном тазике, который понадобится ей обязательно в этом доме, но и об этом она перестала думать и, дождавшись, когда Сашка надел чистую рубашку, вышла следом за ним в комнату.
На подоконниках стояли герани, и не было кровати в комнате, но она вдруг увидела холщовый полог, что-то вроде алькова в углу и, удивленная, отвела от него взгляд, боясь выдать себя этим взглядом.
А стол был давно уже накрыт, и сыр на тарелке уже подсох и замаслился… Хозяйничал Юра-черный, а Юра-светлый (как называла она их про себя) говорил с шутейной серьезностью, что вот сейчас тот обязательно опрокинет кастрюлю со щами, а когда тот стал осторожно разливать по тарелкам упревшие в печи, духовитые щи со свининой, примирительно и с шутливым одобрением хвалил его по-хозяйски… И все это казалось очень смешным и забавным, и Таня от души смеялась, как будто это и в самом деле было смешно.
У Юры-светлого были прозрачные, с шелковистым блеском, секущиеся на темени волосы, и лоб его гладкий выпукло блестел под яркой лампой. У него были утомленные, как после чтения, припухшие веки, и взгляд его казался оттого добрым и уютным, как и голос его, тоже домашний, расчетливо спокойный и насмешливый. Его было приятно и легко слушать. Серый форменный галстук, казалось, слишком туго стягивал ему шею, приподнимая углы воротничка, и на лице его была разлита напряженная розовость и припухлость.
А тезка его был застенчив и, как все застенчивые люди, подхохатывал часто, тупя черные свои, детски невинные, смолистые глаза, которые блестели слезой от сдавленного смеха и смущения и, казалось, багровели. Он смущался своего смеха, мгновенно задумывался, подавляя этот смех, и оттого, что он так задумывался вдруг, он замыкался, хмурился, грустнел и уже отсутствующим взглядом ощупывал своих товарищей, пока Юра опять не выводил его из этого оцепенения шуткой, и тогда он снова колыхался в придушенном смехе, смотрел в свою тарелку, и казалось, у него падали слезы из глаз от восторга и безмерной радости… У него были черные, грубые и густые волосы, которые жирно блестели, обрамляя широкий, прыщеватый и краснокожий лоб.
Таню уговаривали выпить рюмку водки, она отказывалась и пила клюквенное вино местного изготовления, приятную на вкус кисло-сладкую и обжигающую розовость, но ее все-таки уговорили. Она поднесла к губам дрожащую рюмку с водкой, вдохнула в себя воздуху, как научил ее Юра-светлый, хотя Сашка советовал выдохнуть весь воздух…
– Нет, нет, – сказала она ему. – По-твоему я уже – помнишь? – пробовала! Ты помнишь? – И, зажмурившись, легко выпила до дна.
Она сама удивилась, как легко и просто ей удалось выпить водку, а Юра-светлый покашлял и с шутливой подозрительностью сказал:
– Я знаю – женщины все могут, только не всегда хотят. Все могут! Могут даже пить и не пьянеть, пить и только веселеть наравне с мужчинами…
Когда он сказал это, все вдруг задумались, умолкли, словно он сказал что-то очень значительное.
– А сейчас… уже двадцать три часа восемнадцать минут, – сказал Юра-черный. – Пора. Теперь ваш дом – наш дом.
– Как я понял, – сказал Юра-светлый, – он и не собирается уходить отсюда. Прогони ты его!
И все засмеялись, и больше всех смеялась Таня, чувствуя себя осчастливленной вниманием Сашкиных друзей, которые, как ей казалось, были чуть-чуть влюблены в нее и завидовали чуть-чуть Сашке.
А потом Юры быстро собрались, надели шинели и попрощались быстро, и Таня подглядела, как Юра-светлый, пожимая руку Сашке, подмигнул ему.
А Саша стал неловко подталкивать их в спины, тесня к двери и приговаривая с нарочитой хмуростью:
– Давай, давай, давай…
Юры посмеивались, поругивали его, надевали фуражки, оглядывались на Таню, которая осталась стоять посреди комнаты под песочно-чистым деревянным потолком, кивая им на прощанье и радостно улыбаясь.
– Приходите, – говорила она на прощанье.
Юры лениво толкнули дверь, вышли в сени, а Саша, ухватившись за косяки дверного проема, смотрел им вслед, распятый как будто на этом черном проеме, откуда потянуло по полу холодом, и что-то по службе спросил у ребят, и те ему что-то ответили серьезно и деловито и затопали, спускаясь по лестнице вниз.
– До завтра, – сказал им Саша и, захлопнув дверь, запер ее на крючок.
* * *
– А внизу? – спросила Таня. – Не запираешь?
– Нет, там такая щеколдочка, она сама запирается, – ответил он, идя к ней с серьезной и страдальческой какой-то улыбкой. И уже молча обнял ее, и она молча прижалась к нему, все хорошо зная, и, задыхаясь от ясного сознания того, что сейчас неизбежно должно произойти, взглядывала на него снизу и, опуская глаза, кротко усмехалась.
– А стол? – спросила она. – Не надо убирать?
– Завтра, – ответил он, целуя ее.
Она увидела вдруг тень, падающую на занавеску, от себя и от него сдвоенную двухголовую тень и сказала, отстраняясь от мужа:
– Подожди… А нет ли какой-нибудь маленькой лампочки?
– Там есть, – сказал он, не отпуская ее, и вдруг подхватил на руки, а Таня вдруг испугалась, что он уронит ее, потому что поняла, как тяжела она и как неудобно взялся Сашка, неся ее к этому алькову, к холщовым, отутюженным занавескам, которые льняным холодом обмахнули ей лицо и сомкнулись, и она с пьяной какой-то, головокружительной легкостью упала на подушки и тут же поднялась, опуская ноги на пол.
Саша щелкнул переключателем, и над кроватью, над подушками вспыхнула лампочка под стеклянным колпаком, осветив деревянную, грубой работы, дочерна отлакированную кровать, домотканый коврик с синими вышивными листиками и серый холст…
Саша погасил в комнате свет и, теряя силы, сел на стул, закурил и стал смотреть на холщовый полог, светящийся изнутри холодной серостью. Он видел силуэт жены, которая сидела на кровати, и, успокаивая себя, покашливая от тяжкого, душного дыма, чувствуя никотинную горечь во рту, слышал, как стукнулись Танины туфли об пол, и нетерпеливо сунул в пепельницу неоконченную папиросу, раздавил ее и опять увидел Таню, которая в чулках, на цыпочках тихо вышла из-за полога и, торопясь, взглянув на него с пугливой улыбкой, подхватила в потемках стул и отнесла его к кровати.
– Не кури, – сказала она, полуприкрытая холщовым занавесом, глядя на мужа из-за серого этого свечения, из потустороннего мира, который вдруг сотворила ему судьба в его прокуренной комнате, нереального и таинственного. Он слышал и не понимал эти слова ее «не кури», зная, что она совсем о другом его попросила, о чем-то несравненно более важном и необходимом, и он ответил пропаще:
– Я уже перестал. – И попытался улыбнуться ей. – Больше не буду… Вот только форточку…
– А где же хозяйка живет? – спросила Таня шепотом.
Он махнул рукой на стену и ответил:
– Там…
Он надавил на форточку, и она с бухающим, сырым звуком провалилась в темень за окно, стукнувшись о наличник. А он как бы вышел на мгновение из комнаты в осипшую и волглую тишину ночи, и когда он, как сердечник, глотал сырой и сытный воздух, стоя под его льющимся и ощутимым потоком, резким звоном в уши врезались старые пружины, сдавив сердце, оглушив, и он понял, что Таня легла.
Ему показалось на миг, что он увидел рваное небо в форточке и звезду. И когда он оглянулся, вернулся опять в комнату, в ней уже было темно и там, в этой живой темноте, в теплом и непроветренном мраке жилища, ждала его, притаившись за холстиной, сама жизнь. И ощутил он такое, как если бы раскрыл вдруг над головой парашют и в ночном прыжке повис бы во мраке под куполом, зная, что внизу его ждет земля, смутная и зыбкая в ночи, как другая планета, и что путь к ней неизбежен.
– Ну что ж ты? – услышал он голос жены.
И слышал потом бессмысленную ее просьбу, и шепот, и дыхание ее и свое, и опять безумную просьбу, которую он никогда бы не смог исполнить, и она хорошо это знала, продолжая его просить, пробуждая в нем дикие, бешеные силы своей шепотной мольбой и покорностью…
…А когда он снова, затягиваясь дымом, подошел под форточку, улыбаясь и не стыдясь в потемках своей блаженной и глупой улыбки, когда он опять, разгоряченный и усталый, слыша, как в висках гудит кровь, увидел в форточке пульсирующую звезду, он оглянулся и сказал в потемки:
– Проясняет… Значит, завтра будут прыжки…
Долго ждал ответа и, наконец, дождался:
– Скорей бы снег…
– А здесь, говорят, снежные зимы, – сказал он.
Но она уже не ответила, и он больше не ждал. Он подумал о завтрашних делах и хлопотах, о прыжках с парашютом, о неизбежности этого неприятного в общем-то испытания, о друзьях, об их молчаливых и всезнающих улыбках, которыми они встретят его завтра, и о работе… И еще он подумал, что было бы хуже, если бы он снял, как когда-то хотел, эти холщовые занавески, за которыми уже спала измучившаяся жена.
Ему было хорошо теперь стоять под форточкой, курить вкусную сигарету с фильтром и знать, что там, за серой холстиной, лежит уснувшая жена, и что она, кажется, счастлива, и что, сонная, подвинется к стенке, уступая ему место, когда он придет и обнимет ее, и что оба они здоровы и полны сил, он хорошо зарабатывает и жить им будет совсем легко.
И ничто не тревожило его. В этом состоянии абсолютного какого-то счастья, когда он мог умиляться даже мысли о том, что жена уступит ему согретое своим телом место, в детскости этой и забывчивости он смотрел бездумно в ночную тьму, улыбался, и ему казалось, что от улыбки у него стали опухать щеки.
* * *
А утром над Талицей в синеве осеннего неба текли низкие и дымные тучки. Земля, пропитанная вчерашним дождем, блестела, когда вспыхивало солнце, и тогда все вдруг преображалось, ярчало неистово, голубело и шумно, пушисто распахивалось. Но солнце опять стремительно гасло в чернодымных тучках, земля блекла и, вылинявшая, мокрая, с серыми остовами деревьев, зябко ежилась, покряхтывая далеким тракторным мотором, и избы врастали в эту обнаженную и необратимо остылую землю. И виделось Тане в этих избах, в плоских их окнах, нахлобученных крышах вечное какое-то терпение привычных ко всему людей.
Саша затемно ушел на прыжки, обещая скоро вернуться, а она, надев байковый халат, присела на выскобленную лавку у окна и, не прибрав кровати, не вымыв посуду, зная, что ей это все равно придется сделать до прихода мужа, разглядывала теперь улицу, дома, редких прохожих и вонючие герани на подоконнике: она и не догадывалась, что эти красивые цветы так противно пахнут – они цвели пурпуром и нежнейшим белым цветом и были прекрасны, потому что за окном поздняя осень, слякоть и серые скелеты деревьев.
И она никак не могла побороть в себе оцепенения, не могла представить себя хозяйкой в этом доме, все еще живя вчерашним днем, тем предчувствием небывалого праздника, которого она долго ждала. А теперь ей казалось, что главное в ее жизни – это сидеть вот так, поджав ноги, на лавке у окна с геранями, и ждать мужа, и волноваться, и думать о нем, о его полетах, и опять волноваться, представляя прыжки с парашютом. «Это один раз, это очень редко! – успокаивал ее Саша. – От силы раз в году… Так уж тебе не повезло! В первый же день приходится прыгать…»
Саша сказал ей, уходя, что прыгает он всегда с запасным парашютом. Ей не было страшно за него, потому что для нее это прозвучало очень успокоительно – «запасной парашют». Но теперь, под этим пегим и текучим небом с паровозными какими-то, стелющимися тучками, ей было страшно представить страх своего мужа, который должен был прыгать сверху на эти скомканные тучки.
«Как глупо! – подумала она вдруг с удивлением. – Живет человек, а его поднимают в небо и велят прыгать на землю… И как страшно! Хоть бы он мне не говорил, что у него сегодня прыжки. Я ничего не могу делать, даже умыться не могу… Кошмар! Поднимут в воздух, откроют люк и прикажут прыгать… И даже не прыгать, а просто упасть вниз головой».
Под облаками, низко, с сотрясающим землю угрюмым рокотаньем пролетел большой и какой-то пузатый самолет, и Таня тут же решила, что именно с этого серого самолета будет прыгать или уже прыгнул на землю ее Сашка. И с ужасом осознала, что ей придется не день и не месяц, а, может быть, годы изо дня в день переживать такое, к чему нельзя, наверное, привыкнуть! Впервые она представила реально свою жизнь рядом с мужем, который будет каждый день уходить от нее и улетать в это небо, за облака, – и ей стало страшно, и она ощутила такое, будто по глупости попалась в какую-то хитрую ловушку, из которой уже не вырваться ей.
«Так можно жить только с нелюбимым, наверно», – подумала она с удивлением.
Самолет уже скрылся, и только слышалась в пегом небе с голубыми глубинами замирающая его угрюмость, которая отдавалась еще в окнах, рождая тонкий стекольный звон.
Таня опустила ноги на пол, сжала виски и уши, в которых сотрясалось еще эхо, отголосок мощных двигателей самолета, и порывисто встала, прошептав беспомощно:
– Боже мой, когда же он придет!
И увидела вдруг на пороге старую женщину в линялых одеждах. Она поняла, что это хозяйка, и ей не понравилось, что та пришла в их половину без стука, как к себе домой… Таня сделала вид, что поправляет прическу, и со сделанной тоже ласковостью поздоровалась с ней, с беззубой старухой, лицо у которой, казалось, было покрыто потрескавшейся, покоробившейся охрой.
– А вы меня напугали, – сказала Таня. – Вы бы хоть постучались.
И покраснела, чувствуя нахлынувший жар.
Старая дремотным каким-то, вялым взглядом ощупывала ее, не в силах как будто преодолеть тяжесть своих одряхлевших век, и молча судила о ней по-своему, а как – Таня не могла догадаться, хотя и казалось ей, что та осуждала ее за беспорядок в комнате.
– Бабушка, – сказала Таня, – боже мой, сколько же вам лет?
Она это спросила неожиданно для себя, с искренней, трогательной улыбкой, но та вздохнула в ответ и промолчала.
– Вы бы сели, бабушка… Вот хотя бы сюда… Ну? О чем это вы задумались?
Старая, шаркая высохшей рукой по стене, придерживаясь, косо опустилась на стул и ответила с дремотным равнодушием:
– Поживешь с мое, узнаешь, о чем думки…
– Нет, бабушк, нам не дожить, – сказала Таня и радостно отмахнулась рукой. – Не дожить! А я сейчас…
Она хотела сказать, что она сейчас чайник подогреет и они с ней попьют чайку с конфетами, но спохватилась…
– Бабушк, – сказала она, – а я тут ничего еще не знаю. Тут электроплитка есть? Или керосинка?
Но, спрашивая, она прошла на кухню, освещенную замасленным, давно не мытым окном, и увидела электроплитку на столике.
– А я сейчас, – крикнула она с кухни, – чайку согрею. Вы любите чай? С шоколадными конфетами… Нам с вами надо познакомиться, меня зовут Таней. А вас?
Хозяйку звали Александрой Ивановной, и фамилия у нее была красивая – Веденичева. Но от чая она отказалась и, посидев чуток, ушла, оставив нехорошее какое-то воспоминание о себе, и Таня решила, что старая эта женщина осудила ее мрачным своим судом.
«Ну за что? – думала она. – Что я ей сделала плохого?»
Ей было горько так думать и хотелось плакать от незаслуженной обиды, от волнения, которое испытывала, думая о муже, и от одиночества. И вчерашний вечер ей показался таким нереальным и случайным в теперешней ее жизни, что она вдруг подумала о нем, как о позабытом уже сне.
И когда она стала мыть вчерашние тарелки, дешевые, фаянсовые, с остатками винегрета, она не сдержалась и стала с каким-то щемящим удовлетворением тихо и с наслаждением плакать. Слезы ее падали на тарелку, которую она мыла скомканной мочалкой, и в размазанном свекольном соке слезы ядовито розовели. Это было странно – сидеть над грязной тарелкой, всхлипывать, роняя слезы, и, не думая ни о чем, видеть, как розовеют они на фаянсе.
Но Саша Николотов ни разу не видел ее слез и не слышал жалоб. И теперь, когда у них была маленькая, но удобная для двоих квартира с газом и ванной и пусть без горячей воды, но все-таки со всеми удобствами, была прекрасная лодка с мотором, на которой они каждый выходной уносились далеко от города, на песчаные белые пляжи, он понимал и оправдывал радость своей, жены, считавшей, что им наконец-то повезло в жизни. Здесь была удивительная река! Чистая и теплая, с бесконечными песками, на которых порой и следа человеческого не было… И очень рыбная река. И Таня заслужила, конечно, эту реку и эти пляжи.
* * *
…Ночь была ясная и ветреная. Было холодно. Николотов сидел на деревянной лавке в душном тепляке. Клонило ко сну.
В тепляке вяло и глухо постукивала, остывая, раскаленная железная бочка из-под горючего, превращенная в «буржуйку». Облупившаяся рация трещала и шипела, щелкала, как костер. На подоконнике лежали рукавицы солдата-сверхсрочника, который сидел на корточках перед топкой и смотрел задумчиво на угли. Гусеничный трактор его, тягач, ни разу не таскавший плуги в поле, стоял рядом с тепляком, рядом с пожарной машиной, дежурившей тут на всякий случай. Солдатские рукавицы с указательным пальцем были огромные и грязные, залоснившиеся от рычагов и масла.
Летчики слушали и не слушали рацию, томясь в ожидании, и молчали. Хотелось спать. В шипенье и треск эфира врывались голос Брагина, голоса летавших пилотов. Николотов ждал, когда запросит посадки восемьдесят вторая. Он уже слетал по маршруту, все прошло гладко, и теперь ждал полета в зону. Штурман его был в воздухе.
За стенами тепляка в ветреной тьме расцвеченного аэродрома гудели машины, сотрясая округу, выруливая на осмотр, прогоняли двигатели и стихали. В тепляк входили с ветром и холодом пилоты и штурманы, жмурились на яркую лампу, прощались до завтра.
Вернулся из зоны Володя Мартынов, сосед, снял перчатки, похлопал ими в «ладошки», подмигнул Николотову.
– Ночевать? – спросил он.
– В зону еще… Надоело ждать… Не слышал, как там восемьдесят вторая, на маршруте, что ль? Потерял я ее…
– Найдешь, – сказал Мартынов, протягивая руку. – Дай-ка мне.
Николотов знал, что Володя всегда курит папиросы, и неохотно сунул руку в карман, в котором слежалась не оконченная еще пачка «Памира»: город скверно снабжали сигаретами.
– Сигареты, – сказал он, предупреждая.
– Термоядерные?
– «Памир», – ответил Николотов, доставая сплющенную пачку, в уголке которой сжались шесть худеньких сигарет. – Жалко отдавать, – сказал он. – У меня от папирос, от картонки этой тошнота. Термоядерные! Надо вообще-то на махорку переходить…
Оба они закурили. Мартынов стоял перед ним, сунув под мышки теплые перчатки на меху, и с наслаждением курил, щуря глаза. В меховых одеждах, в унтах он казался еще меньше и толще… Дома у него жил щегол в клетке, которого он кормил подсолнушками, а в ведерном аквариуме размножались гуппи.
– Все толстеешь, – сказал ему Николотов, хмуро оглядывая его.
– Норма.
В трескучем эфире раздался вдруг щелчок, и Брагин резким своим, каркающим голосом ворвался в тепляк:
«…Вам на проход».
И опять щелчок и опять текучий треск.
«Понял – на проход», – отозвался летчик.
– Это какой запрашивал? – спросил Николотов.
Штурман, склонивший голову на стол, ответил, зевая в руку:
– Двадцать третий.
– А, черт, пора бы ему…
Мартынов, обжигая пальцы, дотла докурил сигарету, шагнул к «железке», тяжело оперся на плечо солдата, который смотрел на угли, бросил окурок в топку и, без слов пожав Николотову руку, ушел.
Дождался своей очереди тот, что чутко дремал за столом, и встал, отбрасывая на ходу назад планшетку. Ушли и другие. Остались в тепляке Николотов, солдат-сверхсрочник и техник, «помазок», как называли их с насмешливой любовью летчики; вечно в работе, всегда отвечающие за материальную часть, эти люди, хозяева самолетов, пользовались уважением в полку и кличка их – «помазок», – не в обиду придуманная каким-то остряком, приклеилась к ним, потому что они всегда были чумазы и замасленны, готовя самолеты к вылетам.








