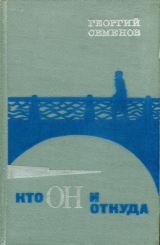
Текст книги "Кто он и откуда (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Ты ведь теперь работаешь, вам теперь, конечно, намного легче…
Саша обманывал. Все в жизни было прекрасно, да, он работает, получает теперь деньги, примерно пятьсот пятьдесят рублей, а модельщики в этой лепной мастерской гребут деньги лопатами, и быть может, он тоже когда-нибудь выучится на лепщика-модельщика, будет лепить орнаменты, делать коринфские капители… Или хотя бы на форматора: они тоже зарабатывают здорово. Он обманывал, но она должна была понять, что впереди у него служба в армии, а эта временная работа отливщиком в лепной мастерской – вынужденная штука и не об этом он когда-то мечтал… Она должна была понять. И ему часто хотелось плакать, когда мать верила, что у них там с тетей все прекрасно… Ни разу так и не дождавшись приглашения пожить в ее новом доме, он уходил в одиночестве на станцию, и часто у него болело горло, было больно глотать, словно бы он заболевал ангиной.
«Может, она просто не догадывается? – думал он, подавляя обиду. – Или, может, сама себя считает гостьей в этом доме? Оттого и уехать хочет в Сибирь?»
И особенно горько было, когда он узнал от Люды об этой сумасшедшей затее и когда Люда обиделась на него и так и не вышла за весь вечер из своей комнаты, словно был он совсем здесь чужим и никому не нужным.
* * *
В Москве перед его призывом в армию был еще день, когда он поехал проститься с матерью. Приехал он в предвечерье, после ливня…
Когда он вышел из душного вагона, дождь окончился, но туча еще шевелилась над головой, и дождевые капли, нанизанные на провода, казались белыми на фоне этой тучи. Деревья, напоенные водой, отяжелевшие, стояли не шелохнувшись, всюду оловянно светились лужи, и даже мокрые доски платформы белели оловом. Солнце еще не выкатилось из-за тучи, и в эти пасмурные минуты пахло листьями и летними теплыми лужами.
Сухой среди мокреди поезд, подвывая двигателями, уехал дальше, догонять нависшую над путями, над горизонтом мрачную тучу.
Саша как-то сразу, вдруг увидел внизу на дороге Люду. Она тоже приехала на этом же поезде и теперь шла босиком, держа в руках туфли. Шла очень быстро, и он долго догонял ее.
Он остро чувствовал, как холодная разжиженная дождем земля холодила Людины ноги и как это приятно ей было – ощущать промокшую, остуженную землю розовыми и нежными, как у ребенка, пальцами.
– Ты что такой взбудораженный? – спросила она.
– Догонял тебя.
– Поезд тоже догонял тучу, – сказал Люда восторженно, – а так и не догнал.
– А я вот тебя догнал.
Она засмеялась беспричинно и сказала:
– То-то запыхался, как паровоз!
– Ты прямо по лужам, а я обходил…
Ветер стал шевелить деревья, и по мокрой земле застучали крупные капли, словно опять начинался дождь. Но вышло солнце. И все разом полыхнуло, преображенно засияло, а туча стала совсем сизой и хмурой.
А потом на террасе Люда мыла ноги в тазу и долго их потом вытирала полотенцем… И тяжело потом и торопливо топала по полу босыми ногами. А Саша со странным чувством прислушивался к ее шагам в доме и к ее хлопотливой, неразборчивой песенке, которую она то напевала тихонько, то бросала, чтобы снова начать.
Но дело не в том, что он слушал с особым вниманием эти шаги, представляя налитые ее, сильные ноги, а в том, что он вдруг подумал о ней как о жене, когда она, согрев обед, накрывала на стол, не спрашивая, будет ли он есть, а зная, что будет, зная, что он не обедал сегодня. И когда она налила ему в тарелку жирных щей, он благодарно посмотрел на нее, босую и радостную, и надолго уткнулся в тарелку с розовыми цветами и золотым ободком.
Ей было шестнадцать лет, и он знал, что у нее много ребят, с которыми Люда однажды его познакомила, когда те пришли с билетами в кино. Ей, конечно, нравился высокий тот парень, которого звали Володей, у которого было вытянутое, с провалившимися щеками, красивое и тонкое лицо с чувственными губами. Саша тогда особое внимание обратил на его губы… Быть может, он уже целовал этими губами Людкины губы, и может быть, она жмурилась от счастья и страха, когда он обнимал ее?
Матери не было дома, и он впервые остался наедине с Людой. Вел себя скованно, путаясь в мыслях о Люде, о ее ребятах и о себе. Его смущало, что он слишком много думал о себе, а потом уже о ребятах и о ней самой. И оттого, что ему очень хотелось понравиться ей в этот вечер, оттого, что он раньше никогда не испытывал так сильно этого желания, хотя ему, конечно, всегда всем знакомым девушкам хотелось понравиться, – в этот вечер он не знал, как это сделать. Он говорил ей, например, о поезде и думал подспудно о том, как бы получше произнести слова, чтоб ей понравился его голос; глядя в окно или рассматривая книгу, он старался это делать так, чтоб она видела, каким он бывает в задумчивости или отрешенности… Это обессиливало его, он терял волю и самообладание, спрашивал часто о матери, беспокоился за нее, понимая как это глупо без конца тревожиться вслух. Тем более Люда все принимала всерьез и тоже беспокоилась.
В тот вечер, так и не дождавшись матери, которая допоздна засиделась в Москве у сестры, и устав от своих раздумий, от глупого представления, от желания понравиться – устав от всего этого, как от тяжелой работы, он все же тайно надеялся, что Люде тоже было приятно наливать ему в тарелку щи. И так все это случилось, будто она с ним легко и радостно, как в детстве, не договариваясь, начала играть в вечную игру «в дочки и матери», а потом опомнилась вдруг, что они давно уже не маленькие, и тогда каждый задумался о себе, переживая по-своему чувства, которые смутили их… Было это так, словно он согласился в этой игре быть отцом и мужем, а она его женой, но потом и он и она задумались и застыдились самих себя. А потому и стали тревожиться вслух о Клавдии Васильевне, которая в тот вечер гостила у сестры…
Дело не в том, что в тот вечер он увидел розовые ее пальцы в холодной и мокрой земле и потом слушал, как она торопливо топала по крашеным доскам в доме, а в том дело, что она ему в тот вечер разогрела щи, заправленные соевым соусом, и налила в тарелку, как наливала когда-то мать, не спрашивая, хочет он есть или нет.
А потом он стоял с ней в потемках на террасе. В соседнем доме горел огонь, и Люда была видна силуэтом на фоне потных, непросохших окошек террасы. И он не знал, чего же она хотела в эти минуты: или, чтобы он скорее уходил, или чтобы постоял еще рядом с ней.
Он смотрел на тени вишневых веток, которые давно уже отцвели и вытянули зеленые горошины ягод на тонких ножках. Эти тени на мерцающих матовых стеклах террасы покачивались, дрожали и замирали вдруг.
Прощаясь, он взял ее руку, тяжелую и ускользающую, и спросил, как когда-то:
– Так кто же мы с тобой? Брат и сестра?
– А я не знаю, – ответила Люда. – Может быть, названые?
– Какие? Названые? Не-ет, ты что-то путаешь… А вообще хорошо – назва-аные!
– Ступай, – шепотом сказала она. – Ну ладно, иди, иди…
– А можно мне тебя поцеловать, как названую сестру? – легко вдруг спросил Саша.
– Ты какой-то чудак! – услышал он ее удивленный голос.
– В щечку, – сказал он.
– Зачем?
Он подумал: «А правда, зачем» – и сказал:
– Ну, тогда не надо.
– Потому что ведь, – сказала Люда шепотом, – братья и сестры никогда не целуются.
– А при чем тут! Мы ведь с тобой никакие ни брат, ни сестра…
– А кто же? – спросила Люда удивленно. И подтолкнула в плечо ладошкой, не дожидаясь ответа, и сказала ласково: – Иди.
И это подталкивание стало для него в тот вечер самой нежной лаской, а тот клочочек тела под ковбойкой, до которого она дотронулась ладошкой, облучился на мгновение какой-то доброй силой.
– А мне не хочется, – сказал он.
– Ну, я не знаю тогда…
Люда это сказала с растерянностью хозяйки, не знающей, как быть с засидевшимся гостем. Саша понял, что надо идти.
– Тогда пошли пить чай, – предложила она.
– Тоже не хочется.
Саша тронул руками ее плечи и почувствовал, как сильны они.
– Вот, – сказал он многозначительно. – В общем все это, конечно, глупо… Я тебе буду писать письма. Можно? Потому что…
– Ты так говоришь, будто больше не придешь, – сказала Люда.
– Какая разница! Приду или нет… Все равно ухожу. До свидания.
На этот раз он крепко пожал ее плечи, подмигнул с грустинкой.
– Ладно, – сказал. – Я пошел.
И, распахнув дверь, прыгнул через ступени на землю.
За деревьями каплями ртути раздробленно сияла луна, и небо было синее, проясненное до невероятных глубин, распахнутое на всю вселенную. А огни поселка и тот огонь, который освещал запотевшие стекла террасы – все эти желтые огни казались жалкими, как огни керосиновых маргасиков… И черными тучами стояли в этом просветленном синем ночном небе огромные тополя и березы.
Саша дошел до калитки, подумал про чай, о котором говорила Люда, и, шагнув с тропинки за вишневый куст, присел за деревянный столик.
Он был мокр, этот старый, подгнивший, одноногий столик, и скамейка возле него шаталась. На мокрых досках стола светлел в потемках распластанный березовый лист. А за вишневым кустом светилось окно ее комнаты, и мокрый куст блестел дождевыми каплями.
Свет окна не доставал до него, и он сидел в темноте. Чита, загремев цепью, вышла из своей будки и стала поскуливать; она давно уже привыкла к Саше.
В комнате качнулась коричневая тень, и Саша увидел Люду. Она тоже как будто увидела его, приблизилась к окну, и рамы вдруг хрустнули и с сырым стуком распахнулись. Люда не увидела его, она просто растворила окно, и Саша теперь затаенно смотрел на нее из-за вишневого куста, смотрел, как в прозрачном оранжевом свете комнаты, в тепле и уюте ходила и останавливалась, кланялась как будто и внимательно прислушивалась, приглядывалась к чему-то и опять уходила куда-то девушка… Ему стало неловко смотреть исподтишка на Люду, которая и не подозревала об этом, и хотя Саша теперь боялся встать и уйти, потому что она бы могла увидеть его и напугаться, он все-таки, пригибаясь, тихо прокрался к калитке, осторожно открыл ее и вышел.
Так она и осталась в его памяти, наливающей ему, как мать или как жена, тарелку щей, или появлялась в памяти коричневой теплой тенью за окном, за блестками вишневого куста, который не успел просохнуть к ночи после дождя.
* * *
О себе он задумывался случайно. Вот и теперь, получив повестку из военкомата, думал о будущем, понимая, что придется расстаться с тем, что стало привычкой, с «хочу» или «не хочу», с вечерним парком, ландышевыми аллеями и муравьиной невидимой тропкой из дома в этот парк через лазейку в ограде… Сколько раз оплетали ее колючей проволокой, мазали дегтем, и все-таки эта лазейка была парадным входом для всех окрестных ребят, считавших парк своей вотчиной, как если бы это был двор их дома или соседний двор.
За домом, где жили Николотовы, не было настоящего двора. Этот дом стоял когда-то на углу Большой Калужской улицы и Донской, где теперь конечная остановка седьмого троллейбуса. Это был старенький оштукатуренный дом, огороженный со стороны Калужской глухим забором. В углу асфальтированной площадки за забором зимой хранили тележки для газированной воды, а летом там принимали пустые бутылки и вечно толпились нагруженные люди со скучными лицами. И всегда во дворе дребезжало стекло… К стене дома прижимался старый тополь словно бы поддерживал своим стволом этот ветхий особняк, а по весне вздыбливали асфальт и с необъяснимой силой лезли из-под него, как шампиньоны, бледно-зеленые нежные побеги, обреченные на гибель. И в тех местах асфальта, где его пробуравливали отростки тополя, оставались вздыбленные холмики с несдающимися побегами.
Этот дом, выходящий во двор плоской глухой стеной, давно не ремонтировался, штукатурка потрескалась, но люди жили надеждой, что дом их скоро должны снести, и поэтому не требовали ремонта. А если бы и потребовали, то им бы все равно отказали, потому что на ремонт этого дома давно уже не отпускали средств. Это даже радовало людей: значит, скоро снесут, думали они, если денег уже не дают на капитальный ремонт. И терпели. Но дом не сносили. И однажды Вилька Левочкин, шпанистый парень со второго этажа, попал в больницу со сломанной голенью, когда вместе со стульчаком из своей уборной провалился в нижнюю уборную, на первый этаж… Это было смешно. А почему бы не посмеяться? Парень довольно легко отделался, а внизу, к счастью, никого не оказалось в это время, когда Вилька Левочкин со спущенными штанами и с ужасом в глазах загремел вниз, ломая сгнившее перекрытие и старинный фаянс… После этого случая деньги на ремонт нашлись, и даже стены дома подмазали и окрасили в желтый цвет, побелив карниз, наличники и лепные вставки под окнами второго этажа, изображавшие когда-то гирлянды из роз. И люди загрустили: стало быть, не скоро снесут этот дом, если потратили столько денег и времени на его ремонт.
– А почему, – спросил однажды Саша у тети, – стена, которая выходит во двор, глухая?
– А потому, что это называется брандмауэр, – сказала тетя. – Раньше строили так, чтобы окна не выходили в сторону соседнего дома. Раньше такие порядки были.
Только после этого Саша понял однажды, почему его дом был похож на отрезанную половинку дома: нескладное в общем-то, неудобное сооружение.
За забором стоял одноэтажный особнячок, и вокруг особнячка росли когда-то большие клены. Саша с детства боялся старого тихого дворика за забором и его жильцов, особенно кривоногого дядьку, который когда-то, очень давно, Саша не помнил теперь даже за что, гнался за ним с палкой и, не догнав, долго бранился.
Теперь уже не стало забора, за которым давным-давно ютился для Саши тревожный мирок под кленами, его флибустьерское море, в котором росли шампиньоны. Спилили и клены, заблестела стеклянными осколками, посерела и обнищала некогда жирная земля, и только зеленый островок просвирника возле сарайчиков напоминал о былом.
И теперь, когда прислали повестку из военкомата, Саша обостренно чувствовал прошлое, жизнь свою на этом клочке земли, затерянном среди громадного города. Это все-таки была единственно возможная, а потому и прекрасная жизнь! А будущее казалось вечностью. А может, это и открылась вдруг перед ним вечность? Прошлое, настоящее и будущее… Клены, синицы, бомбоубежища и клочок травы просвирника возле сарайчиков, в которых теперь люди хранили каменный уголь. Пройдут годы, и не останется ни этих сарайчиков, ни особняка, ни его дома с брандмауэром… А иначе что же такое вечность? Вечность – это обновление и память.
Так вдруг и понял себя Саша Николотов в эти дни, когда носил в кармане своих расклешенных брюк повестку из военкомата, понял себя стоящим на грани, прошлого и будущего. А настоящего как будто и не было. Всего лишь мгновение. Пролетевший голубь… Проехавший автобус, шаг ноги… Шаг из прошлого в будущее. И в эти дни, когда он задумывался о себе, ему казалось, что люди живут только для будущего, а каждый шаг человека – это шаг из прошлого в будущее. А настоящее – только миг, который люди перешагивают, не задумываясь и не пытаясь удержать.
В эти дни ему было приятно так сложно и мудрено думать о себе, о кленах, о сломанных заборах и о вечности. Впереди ждали долгие годы, а прошлое отодвинулось и замаячило в памяти грустными картинами, вспышками радости и тревог…
* * *
Летчики серой шеренгой долго стояли на ветру, на плоской сумеречной земле, втягивая головы в плечи, переминаясь с ноги на ногу…
С утра на построении этим людям объявили о ночных полетах и распустили по домам. Они хорошо отоспались, потом пообедали позже обычного, пришли, ленивые в послеобеденной этой сытости, на аэродром, их построили, руководитель полетов доложил метеобстановку, уточнил очередность выруливания, и каждый экипаж получил задание.
Началась привычная будничная работа. Была поздняя осень, время предзимнее. Аэродром, казалось, заиндевел в слепых и ветреных сумерках, и холодные, непрогретые самолеты на стоянке вываливались мутным своим дюралевым блеском из его безбрежного, серого, укатанного однообразия. И невероятным казалось, что эти люди, стоящие шеренгой перед самолетами, эти маленькие и озябшие на ветру существа способны довести до неземной, сверкающей ярости мертвые винты и поднять огромные и тяжелые машины в сумеречное небо, в котором уже начала слабо мерцать Полярная звезда и еще какая-то маленькая и робкая прозрачная звездочка, повыше.
Наконец людей распустили, и они, будто соскучившись по смеху, разговорам, ожили, шеренга сломалась, скомкалась и рассеялась, люди разбрелись, заторопились, греясь, к машинам, которые лихо стояли строгой громадой перед ними.
В меховой куртке и пятнистых собачьих унтах побрел косолапо к своей машине и капитан Николотов, а за ним его штурман, и второй летчик, и борттехник – экипаж, которому нужно было через несколько минут лететь по заданному маршруту, строго придерживаясь времени, своего эшелона, а вернувшись, хорошо посадить самолет.
Они шли к машине работать и, как добрые люди перед работой, после хорошего сна и сытной еды, были настроены благодушно, не думали, не говорили о предстоящей работе, которая никуда от них не уйдет и в лес не убежит, хотя каждый из них уже начал работать, каждый уже подумал о ветре, о его силе, направлении, о ясном небе и о близкой облачности, которая, по сводке, приближалась к ним.
Штурман, которому предстояло работать больше других в этом полете, был доволен тем, что летел с Сашей Николотовым, потому что Саша – его хороший друг, отличный летчик и с ним легко работать. А Николотов, в свою очередь, подумал, что со штурманом Иваном, с которым он больше всего летал, лететь будет просто и, конечно, все обойдется без приключений. Он давно уже летал с Иваном, летал на реактивных, и Иван никогда не ошибался, точно выводил на цель и хорошо бомбил на полигонах… Они были старые друзья. Второй летчик подумал, что он вообще отдохнет в этом полете, потому что дел у него ровным счетом никаких. И только борттехнику было все равно, с кем и куда лететь: он знал свои обязанности, знал машину, много раз летал на ней и был совершенно спокоен и даже равнодушен.
Впрочем, каждому из них нужны были часы этих будничных, нормальных рабочих полетов. Дело в том, что летчики полка, которым уже не надо было летать в простых условиях, налетывали свои часы в сложных: ночью и в облаках. Всем нужны были часы. И чем больше, тем лучше. Летчикам второго класса для того, чтобы набрать необходимое количество часов и получить первый класс, а летчикам первого класса, чтобы подтвердить свою классность и мастерство.
Полетами руководил Брагин, заместитель командира полка по летной части, и все пилоты и штурманы знали, что старый подполковник, вечно угрюмый, придирчивый человек, будет, как обычно, строг и безжалостен в оценках полетов, приземлений и стартов. В эту ночь у летчиков было бедовое настроение, как у студентов, идущих сдавать экзамены ненавистному и строгому профессору, который никому и никогда не ставил отличной оценки. А Брагин был тем профессором и говорил частенько, что на «отлично» летает только он сам и еще, может быть, два или три человека в полку. Он прошел старую школу, когда быть или не быть человеку летчиком, решал при первом же знакомстве малограмотный ас, заглядывая в глаза оробевшим курсантам, «читая» во взглядах летные их качества, и отсеивал негодных сразу же по каким-то ему одному известным мотивам, а решение аса-инструктора было окончательным. Так это было или не так – трудно сказать, но говорили в полку, что у Брагина был когда-то такой ас в аэроклубе, который не ошибся в нем… Брагин теперь состарился, его инструктор погиб, но до сих пор подполковник любил брюзжащим и устрашающим голосом, отчитывая молодого летчика, вспоминать при случае о былых временах, о старых пилотах, умевших летать на капризных и рисковых машинах, в кабинах у которых было столько же приборов, сколько теперь их на доске «Запорожца», а то и того меньше.
– И летали! – говорил он. – И сажали машины лучше, чем ты посадил. На современной машине стыдно плохо летать… Перед отцами авиации стыдно! – И он бил в гневе по столу сухощавой своей, жесткой рукой и стук получался, как если бы он бил по столу палкой.
Николотов два с лишним года назад летал на современном бомбардировщике, сидел, стиснутый и затянутый ремнями, в кабине маневренной и послушной машины и с бешеной скоростью, не сравнимой с теперешней, проносился в реве над тлеющими огнями селений, над излучинами сизой реки, над земными дорогами, отдавшись целиком напряженной и тяжкой работе, рассчитывая каждое движение рук и ног, меряя время секундами… И тогда казалось, что такой будет вся жизнь, пока не износится сердце, и только скорости со временем возрастут. Но случилось иное. Машины морально состарились, часть расформировали, кое-кто из друзей демобилизовался, ушел из авиации или подался в ГВФ, а его направили в этот тихий районный центр со старым военным городком и авиационным училищем. Впереди было майорское звание, спокойная как будто работа, самостоятельные полеты в полку и мытарства с курсантами, которых он учил летать на тяжелых и почти безопасных машинах.
Этот перевод в новую часть и на новую работу больше обрадовал жену, хотя ему тоже стало легче летать и спокойнее, словно его пересадили шофером на автобус. В помине не было того напряжения, той изнуряющей к концу полета мертвой хватки рук, нервов и рассудка, в состоянии которой он находился в одиночной своей прозрачной кабине скоростного бомбардировщика. Но на тихоходных этих, надежных машинах, которые когда-то забрасывали десанты во вражеские тылы, которые когда-то горели так же и разбивались так же, как горели и разбивались штурмовики и истребители; на выносливых этих, работящих машинах он чувствовал себя обойденным, понимая рассудком, что вообще-то ему повезло, конечно, в житейском смысле, что в конце-то концов армии нужны не романтики, не обидчивые мальчуганы с несбывшейся мечтой, а толковые работяги, способные тянуть нелегкую службу…
Но когда порой на полосу их аэродрома приземлялись с весенним громом чужие, перелетные скоростные машины на заправку и в столовую или в тепляк заходили шумные, незнакомые перелетчики, они чувствовали себя элитой среди офицеров полка, не скрывая как будто этого своего превосходства, и у Николотова просыпалось всякий раз нехорошее чувство. Он, отворачиваясь от этих бравых перелетчиков, напускал на себя хмурость и равнодушие, заговариваясь в немом споре с ними, и доказывал кому-то, что сам он тоже знает, что такое звуковой барьер и перегрузки.
Он хорошо понимал, что этим ребятам первым придется подняться в воздух, случись катастрофа в мире. И на них будут возлагать все надежды люди, случись в мире непоправимое… Они уйдут в воздух и, с грохотом ломая звуковые барьеры, первыми встретят врага, первыми вступят в бой, в этот единственно возможный на таких скоростях стремительный бой в бесконечном небе, который нельзя уже повторить и который окончится славой или гибелью, жизнью или смертью во имя жизни.
Он в общем-то хорошо понимал этих ребят, этих стражей неба, знающих нечто большее, чем он, чувствующих, быть может, сильнее и ярче, чем он, работяга-летчик, обучающий летать молодежь на тяжелых машинах, почти на таких же машинах, которые взлетают с гражданских аэродромов. И он завидовал этим летунам, у него холодок пробегал по спине, как у мальчишки, когда он думал об их готовых к бою, расчехленных, стремительно-яростных машинах, о незримой той силе, покорителями которой чувствовали себя бравые асы-истребители, прилетавшие на их спокойный, тихий, зеленый аэродром.
Они, конечно, имели право на эту дружески-презрительную усмешечку, которая, как казалось в такие минуты Николотову, не слетала с их губ. Но, понимая все это, он невольно раздражался и, словно бы оправдывая себя, понимая, конечно, всю глупость этой мальчишеской зависти, думал в такие минуты о своих машинах с небывалой нежностью, словно бы и их тоже защищал от презрительных, как ему казалось, и несерьезных насмешек.
Ему казалось всякий раз, что эти ребята, работающие в общем-то на износ, летающие выше и несравнимо быстрее их, рискующие в каждом полете больше, чем рискуют они, не совсем понимают всей важности военно-транспортной авиации, без которой просто не обойтись в современной войне. И ему хотелось порой объяснить им в каком-то шумном споре, что летчики, которых он, капитан Николотов, научил летать на громоздких пузатых машинах, тоже не последними, как и сам он, поднимутся в ночное небо и потянут за тысячи километров, неся в нутрах своих машин тяжелые танки и задумчивых десантников и имея не так уж много шансов вернуться на свои аэродромы. Не так уж много! И потребуется от них огромное мастерство, чтобы точно сбросить десант и налегке вернуться назад. Тут уж трудно сказать, кто будет первым, случись катастрофа в мире… И ни к чему бы смотреть с насмешечкой на своих собратьев! Каждому свое. Каждый готов уйти в небо и выполнить свой долг. Уйти в это огромное небо, одинаково голубое над всем земным шаром, одинаково сверкающее миллионами молний, усыпанное мириадами звезд, красивое небо, в котором, не дай бог, как говорят старики, разрастутся вдруг страшными грибами предательски желтые огни, полыхающие теперь где-то над далекими джунглями и несущие смерть… Каждый уйдет в небо.
И все-таки он завидовал этим молодым ребятам и не мог совладать со своей гордыней. И дома в такие дни бывал молчалив и раздражителен.
Что уж тут говорить! Этот перевод обрадовал только жену, и Николотов хорошо понимал ее, потому что здесь был старый и зеленый город, хорошая река, лодка-казанка и подвесной мотор в двенадцать сил, были кинотеатры, огромный и шумный рынок и прямой поезд до Москвы. Не то что в старое доброе, как говорится, время…
Он женился, когда был лейтенантом, когда в только что сформированной части не хватало жилья даже для семейных офицеров, не говоря уж о молодых лейтенантах, которые снимали углы в соседней деревне. И все это было далеко от железной дороги, среди лесов и заболоченных лесных озер.
Он женился с реактивной, как он тогда говорил, скоростью во время первого своего отпуска и на сорок пятом дне сыграл торопливую и негромкую свадьбу, уехав утром в часть и оставив жену в родительском хлебосольном и благополучном доме до лучших времен.
Но, приехав в часть, понял через какой-то месяц, что так дело не пойдет, снял хорошую комнату у одинокой старухи, а вернее, хорошую избу с геранями на окнах и затребовал жену. Она тоже, наверное, соскучилась и вскоре приехала.
* * *
На станции после дождя было пустынно, и хотелось скорее уехать. Шипели измочаленные тополя, запущенная клумба в палисаднике перед вокзалом была покрыта листьями, и белые астры среди них были похожи на скомканную бумагу. На утрамбованной, жесткой и ржавой земле напряженно пластались железные пути, и на дальнем из этих свободных и как будто ненужных путей стоял товарный эшелон, заслоняя опушку леса. Пыхтел паровоз, и сиплые его вспыхи с медлительной ритмичностью врывались в ветреный шумок, падали, как капли на раскаленное железо. И там, где пыхтел паровоз, порождая белый пар, небо было сизое и текучее, насквозь промокшее, дождевое, и было оно прокопчено отлетающими к югу грачами, которые отсюда казались хлопьями. Там было поле, были там озера и снова леса, леса…
А возле дверей вокзала станционные грузчики, здоровые и красные на холоде, в кирзовых сапогах, заколеневших брезентах, похохатывали, покачивались, курили, топтались на месте, давили окурки и опять похохатывали, слушая мужика, который о бабах что-то, о хитрости своей говорил, щуря потные глаза, и говорил о том откровенно, вызывая смущение на лицах товарищей и стыд. Над их бесшабашными головами висел старинный колокол, грифельно-зеленый и странный, неуместный среди этих людей, ненужный и забытый, с дрожащими каплями, у которых не было сил упасть.
Был конец октября, и было грустно смотреть на землю, жалкую в своем обнаженном омертвении.
Прошло пять часов с той минуты, как Таня Галошина, которая не захотела почему-то расстаться со своей девичьей фамилией, хотя ей и нравилась фамилия мужа – Николотов, сошла здесь, на узловой этой станции, с московского поезда. Ее не встретили: ни муж, ни его друзья, и теперь она совершенно не представляла, что ей нужно делать и что вообще подумать. Много раз она выходила на площадь, «на плешку», как называл ее старик, сидевший недавно напротив и уехавший теперь с местным поездом, оглядывала пустынную, залатанную лужами площадь и возвращалась в опустевший и мрачный зал, в синие его стены, убитые ультрамарином, с пещерками билетных касс, к желтым своим, роскошным чемоданам с мелкими бляхами. Эти чемоданы ей подарил родной дядя, который всю жизнь был военным и знал, как нужны будут эти добротные кожаные чемоданы его племяннице в ее новой жизни. Это были действительно прекрасные и удобные чемоданы, на которые теперь со страхом поглядывала Таня, потому что на улице уже смеркалось, люди все куда-то разошлись, и даже грузчики, которые всякий раз посматривали на нее с нескрываемым удовольствием и без всякой надежды, тоже теперь ушли.
В зале пахло шпалами и было так же холодно, как и на улице. Отовсюду дуло, и казалось, даже из нетопленной печи, из молниеподобной трещины сочился в помещение простудный подвальный холод. Иногда вдруг за окнами прояснялось, светлело, и солнце, пропарывая облака, распухая, входило закатным лучом в синий зал, протягивало бледные и немощные тени на стенах и гасло, скрываясь опять за тучами. Тени испарялись, стены разглаживались и синели еще гуще.
Когда в зале были люди и напротив сидел старик в длинном солдатском бушлате, она спрашивала у него:
– Ну если даже испытания! Ну сколько? Ну день, два?
И всякий раз смущалась, потому что уже спрашивала об этом у него и у женщины с вареными яйцами в решете и у грузчиков, которые покорно умолкали, когда она выходила, и с подавленным смехом, с бражной откровенностью, с любопытством разглядывали ее, нездешнюю и заманчивую. А мужик с потными глазами говорил окая:
– Да я ж вот уговариваю Кольку, вон того, молодого, чтоб он пригласил вас к себе на квартиру. Человек холостой, кровать у него мягкая… Не согласный, вот беда.
И все грохали смущенным каким-то смехом, словно спешили ее заверить этим смехом, что товарищ их, конечно, шутит.
– И как такую бабу мужики одну отпускают?! В жизнь бы не отпустил.
А она не пыталась скрывать свою озабоченность и отчаяние. Люди ее выслушивали сочувственно, жалели, и каждый свое что-то советовал, нереальное, и только женщина с решетом, проводив пассажирский поезд и не распродав яйца, оставила адрес и велела приходить ночевать, если муж не приедет до вечера. «Где уж приехать, – говорила она. – Шоссе до самой Каланчевки перекрыто».








