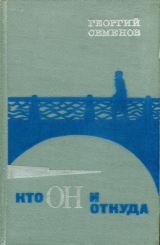
Текст книги "Кто он и откуда (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Как же он здесь очутился?!» – подумал Саша смятенно и растерянно.
И опять увидел, как он, что-то наговаривая ей, о чем-то прося, вкладывал в ее руки пакет, а она, увидев, кажется, Сашу, отвернулась от Григория Ивановича, а пакет разорвался, и оттуда посыпались с глухим и упругим стуком на асфальт яблоки и покатились… Григорий Иванович нагнулся, жадно присел и стал подбирать эти яблоки, словно бы прыгая за ними, а она осталась безучастно и, как показалось Саше, горестно стоять у бассейна спиной к нему, и тень от нее четко чернела на стене, а рядом, внизу шевелилась и прыгала другая, торопливая и проворная тень…
Саша ушел, не в силах еще осознать всего, что случилось, не в силах объяснить себе эту сцену, мучаясь и не понимая, не зная, как нужно было бы поступить и правильно ли он сделал, что ушел. Может быть, она будет ждать его? Может, теперь подумает, что он испугался и оттого не пришел, может, решит, что он испугался Григория Ивановича…
Мучительно переживая недавние ее слова и ее желание, недавнюю страсть свою и ее, он опять подошел к двери и рванул, не понимая, зачем и куда идет. Но увидел пустой серый дворик, цепенящий свет лампочки, тени пляшущих бабочек, зеленые трещины и облупившийся цементный бассейн с проржавевшим фонтаном.
Он взбесился от злости, он клял и обругивал как умел себя, свое безволие, гнусность всего, что могло бы случиться… Он чувствовал себя страшно одиноким… И сник, отрезвел и, вернувшись в зал, надеясь еще увидеть там ее и Григория Ивановича и не увидев их, проклял ее со всей своей живой и оскорбленной страстью, поруганной этой сладострастной бабой, которая ушла теперь, наверное, с Григорием Ивановичем туда, куда звала его, с закружившейся головой мальчишку, который еще и целоваться-то как следует не научился. Было у него такое чувство, поганое и постыдное, словно его поманили пальцем, пообещали что-то, он подошел доверчиво, а получил щелчок по носу и усмешку.
Но он долго еще не уходил и терпеливо поджидал мать, которая пела с подругами сонным голосом русские песни с подголосками и которая тоже, казалось, чего-то ждала, и сам он тоже пел, желая лишь одного – увидеть ее и презрительно взглянуть ей в глаза. И еще хотелось ему у Григория этого Ивановича спросить с ехидцей: «А что, мол, яблоки-то, краденные с банкета, вкуснее покупных?» И чтоб обязательно слышала это Шурочка. Он-то хорошо знал, откуда эти яблоки! Да и все тут было чужое – закуски, вино, водка… Не допитое, не доеденное выпускниками московского института, которые устроили здесь прощальный банкет.
Саша мрачнел. Ему было совестно за мать. Он вспоминал отца, и ему хотелось плакать: у него даже горло заболело.
Он подошел к матери и грубо сказал:
– Я больше не могу тебя ждать.
Она покорно и, кажется, неохотно встала, распрощалась, целуясь со всеми и говоря: «Мне близко… Я тут…» – и пошла домой следом за сыном.
Небо совсем уже стало светлым, и оттого, что еще не всходило солнце, плоские облачка над крышей казались сизыми тучками, и были они четко окантованы огненными лентами, а небо светилось зеленью. Дома под этим небом тоже еще мрачнели сизостью и холодом, но уже под карнизами урчали и стонали проснувшиеся голуби и где-то в зеленом небе повизгивали первые стрижи.
* * *
Перед зимними холодами, когда уже закрылся до весны летний ресторан и мама стала торговать с лотка папиросами, умерла от аборта женщина, которая надолго осталась в памяти. Он так и не смог представить ее мертвой и холодной и старался не думать об этом известии, поразившем его.
А в парке до холодов играли на открытых эстрадах военные оркестры, и учителя танцев у микрофонов наставительными, плавными и крикливыми голосами учили людей танцевать падекатр, мазурку, падепатинер и падеграс…
Саша приходил в пожелтевший парк, к большой эстраде на земляной площадке, перед которой еще собиралась по вечерам огромная толпа. Она дымила табаком, гудела, смеялась… Встречались знакомые. «Здорово, Сашок!» – слышал он изредка и сам тоже здоровался, пожимая холодные или теплые, жесткие и нежные руки, усмехался, помалкивал, шутил и отшучивался с каждым по-разному…
Щекастый, похожий на карпа Вилька Левочкин привычно вытирал о пальто свою потную ладонь, а потом уже протягивал руку. Он был соседом и к тому же истеричным малым, говорил блатным, липким каким-то голоском и со времен войны уверял чуть ли не всерьез, что он племянник Рокоссовского… Все девушки в мире были настроены против него, некрасивого, шепелявящего болтуна, и только на пару с Сашей Николотовым у Вильки порой что-то получалось. И Саша его терпел при себе, как король своего шута… Все новые знакомства начинал Вилька, а девушку выбирал себе Саша. Это его устраивало: он не умел сам подойти к девушкам, если они даже очень нравились ему.
Жизнь протекала веселая и несерьезная, и мать частенько в сердцах попрекала его за бездумность, вспоминая отца, неоконченный Горный институт, в который он с трудом поступил и из которого его взяли на фронт, чтобы он вскоре упал смертельно раненным в снег, не увидев, быть может, ни одного фашиста. Было всегда обидно за отца и нескончаемо жалко его. Саша вспоминал его смутно. Помнил, как в первые дни войны рыл он щели во дворе и какие вспухшие и горячие были у отца ладони. Помнил, как отец его вел куда-то, ухватив за руку, и как он по дороге машинально ковырял своим пальцем подсыхающую мозоль на отцовской ладони…
«Перестань, – сказал отец удивленно. – Мне ведь больно».
И больше ничего не мог о нем вспомнить. Словно и не было никогда ничего другого.
И когда мать напоминала об отцовском институте, странно было подумать, что он ушел на фронт студентом.
– Я в военное, – отвечал он матери. – В артиллерийское…
Это обижало мать, словно сын нарочно хотел разозлить ее, и случалось, она плакала, запрещая и думать об этом.
А его тревожили торпедные катера, которые однажды в День Военно-Морского Флота пришвартовались к гранитным набережным Москвы-реки и которые неслись потом на белых крыльях пенных волн под Крымским мостом, пуская за собой, как в бою, дымовые завесы.
Увлекали самолеты, скорости… Лихие козырьки спецов, их узенькие погончики, черный бархат околышей…
Однажды в лесу, собирая грибы, он наткнулся на останки разбившегося военного самолета. Он с жутью в сердце забрался в искореженную кабину с развороченной, дырявой приборной доской, ему стало вдруг трудно представить себя в этой тесной кабине перед зеленым фосфором приборов, летящим с небывалой скоростью, на великой высоте, хотя всегда и легко и приятно было представлять себя в такой вот кабине. Он как нечто живое пожалел этот серый дюралевый остов, заросший иван-чаем, как зарастают старые пни… А в деревне он узнал, что это был наш, подожженный немцами самолет и что летчики спаслись, посадив горящий штурмовик на лес… Там был заболоченный, хрупкий лес, и эта хрупкость мертвых деревьев спасла летчиков.
И долго потом вспоминал он дюралевую груду среди леса и себя пытался представить на горящей машине, и мужество свое, и хладнокровие.
Но ему не хватило ни мужества, ни хладнокровия – ненависть и обида захлестнули его, когда увидел однажды в своей комнате за чашкой крепкого чая среди двух сестер забытого уже и вдруг воскресшего в памяти мужчину с набухшими веками.
Григорий Иванович задумчиво улыбался и часто поглядывал в темные углы потолка, был рассеян, и, собираясь с мыслями, хмурился, и опять улыбался, отхлебывая чай…
На столе лежали яблоки.
Григорий Иванович давно уже не работал в ресторане, был заместителем, а теперь стал заведующим плодоовощным магазином, и Саша понял, что желтые яблоки с кровавыми царапинами принес сюда этот человек…
В комнате пахло чаем, на лице у матери полыхали нервные розовые пятна, и тетка старалась угодить невеселому гостю.
А Саша, сходя с ума, смотрел на лакированные яблоки и, не видя их, слышал, как стукались когда-то об асфальт другие яблоки, и видел, как прыгала на стене тень…
Потом он услышал – мать закричала ему:
– Ты с ума сошел!
– Ты! – кричал он ей. – Ты!!! – не в силах сказать большего.
Тетя после рассказывала с укоризной, что он схватил со стола тарелку с яблоками и грохнул ее об пол.
Вскоре мать уехала в дом к человеку, одно воспоминание о котором приводило в бешенство ее сына. Это произошло тихо и незаметно: все осталось стоять на своих местах: шкаф, стол, кровати… Мама взяла только свои платья, пальто, туфли и маленькую потемневшую картинку, которая висела над Сашиной кроватью и к которой он очень привык. Теперь на стене светлел прямоугольник незапыленных обоев с золотыми прожилками, а была раньше тихая вечерняя вода, пятнистые коровы, забредшие в воду, и нависшие, темные уже ивы…
По ночам Саша плакал. Наверное, в эти ночи без матери он научился плакать по-мужски – беззвучно и горько.
Тетка навещала мать, получала от нее какие-то деньги, приносила то яблоки, то подпорченный, мелкий, зеленый, как груда водорослей, кислый виноград, то картошку… Она не упускала случая пристыдить племянника, а Саша и слышать не хотел о новом доме матери в Подмосковье, об участке вокруг дома, вишнях и черной смородине.
– Мне скоро в армию, – говорил он. – Потом когда-нибудь, может, приду, а сейчас нет. Мать еще не знает, что это за человек! Она сама скоро сбежит от него.
– А что ты о нем знаешь?
– Знаю кое-что…
Тетю это занимало, и она допытывалась у Саши о его тайнах.
– Все-таки ты бы рассказал, если что плохое знаешь об отчиме, – просила она. – Хотя и верить-то тебе грех. Всякого и по-разному любить можно… А можно и не любить, но уважать, потому что он маму твою уважает и любит… Хотя бы за это. Ты уже взрослый, должен, Сашенька, понимать. Ты думаешь, хорошо жизнь бобылкой кончать? Посмотри тогда на меня… Его-то родственники благоразумные, приняли маму как родную. А ты, родной сын…
– Замолчи! – вскрикивал Саша. – Я все хорошо понимаю и… хватит!
– Тебе нервы надо лечить, вот что, – обиженно говорила тетя. – Того гляди укусишь… Распустился как… Просто срамота.
* * *
А спустя несколько месяцев народный суд признал виновным в растрате Григория Ивановича Слоева. И когда его осудили на пять лет лишения свободы, мать в истерике билась на пыльном асфальте, по которому уехала милицейская машина с решеточкой на заднем окошке. Саша привел ее к троллейбусной остановке и, поддерживая, как-то пытаясь успокоить, покусывал сам губы…
На них участливо смотрели прохожие, откликаясь взглядами на чужую беду. А Саше было стыдно подумать о всей этой грязной истории с Григорием Ивановичем, который, впрочем, искренне и жалостливо поглядывал в зале суда на свою жену, поглядывал как на единственного человека, который смог бы его понять. Стыдно было Саше подумать, что этим человеком оказалась его мать, на которую теперь сочувственно смотрели добрые, ничего не знающие люди.
– Нет, Саша, – сказала вдруг мать, когда подошел к остановке переполненный троллейбус. – Я не поеду домой. Если можешь, проводи меня туда… Я тебе – как мужчине, не сыну… Я не смогу домой. Я должна его ждать с сегодняшнего дня. Да. И всю жизнь… Я привыкла ждать. А в том доме, где ты, я не смогу. Я не могу в одном доме ждать двоих. Ты еще мальчик, и тебе ничего не понять… Ну и бог с тобой!
Она говорила это с отрешенной, мученической улыбкой, как юродивая, и Саша, испугавшись за нее, трясущимся голосом просил успокоиться и повел ее к станции метро, обещая проводить в новый дом, в котором она сегодня же начнет ждать нового своего мужа.
В поезде она притихла, улыбка слетела с ее судорожно искривленных губ, она плотно их сжала, зябкая, болезненная дрожь обуяла ее. Саша обнял ее за плечи, и ему казалось, что мать обжигала своим жаром его руку. Сидела она горячая, как птица. И он вдруг подумал со спазмой в горле, что обнимал ее вот так, жалеючи, ласково, впервые в жизни и впервые чувствовал горячительный ее жар, озноб и хрупкость опустившихся плеч.
Ему в этот день казалось и он знал, он ясно это ощущал и чувствовал, как он непоправимо виноват перед ней… Просто виноват. Виноват, что она несчастна, а он не в силах поправить это.
«Что же мне сделать для нее? – думал он мучительно. – Как быть? Неужели нельзя ей ничем помочь? Что же мне делать?»
И ничего не мог придумать.
Потом они долго шли по ухабистой булыжной мостовой вдоль оград, лиловых садиков, за которыми стояли какие-то веселые, живописные, цветастые дома с террасками и пристройками…
День был весенний. Небо над домами и вершинами деревьев плыло красивое, расцвеченное невидимым солнцем, и облака, казалось, светились внутренним каким-то огнем и были яркие, с перламутровыми переливами, тронутые голубым, розовым, палевым и сиреневым цветом, словно они переняли, отразили цвет всех этих разных и игривых домиков, стоящих среди серого однообразия голых еще кустов и деревьев, похожих на грязный дым.
А мать в забытьи, отрешенная и пропащая, отворила тихую, разбухшую калитку. Саша с заколотившимся сердцем увидел коричневый рубленый дом, голубые наличники и пошел к этому дому по каменистой тропке.
Было ему странно идти в чужой дом за матерью, для которой стал этот дом родным. Он старался понять, осознать как-то все, что давно уже стало явью: и то, что мать вышла замуж, и то, что она теперь хозяйка этого крепкого дома, а он – ее сын, но это не укладывалось в голове. И ему вдруг почудилось, что вот сейчас, сию минуту из-за дома выбежит огромная собака и с лаем бросится на них, на маму и на него, а на лай выйдут люди и прогонят их отсюда… Когда он так подумал, из-за дома действительно, позевывая и потягиваясь, звеня цепочкой, вышла хитроглазая собака и пробежалась по рыскалу, подпрыгивая и поскуливая жалобно, что-то выпрашивая и выклянчивая у матери. Саша даже вздрогнул, а мать посмотрела на собаку, остановилась и сказала ей тихо:
– Ну что тебе, Чита? Забрали твоего… хозяина…
На этот раз Саша не скрепился, ему стало безумно жаль свою мать, которая опять разрыдалась, подумав о муже, о пропасти лет, разделившей их, и он не удержал слезы.
На крылечко вышла бледная, испуганная девушка и с рыданиями вдруг бросилась к матери, обняла ее. Саша, оправившись от слез, хмуро смотрел на них, опять не понимая, почему плачет мать и эта девушка, не желая понимать горя, которое одинаково испытывали эти чужие как будто друг другу женщины.
Дочь Григория Ивановича не ходила на суд, не нашла в себе сил и осталась дома, надеясь еще на что-то, но теперь вдруг поняла все. Он знал, что ее зовут Люда.
«А где же тут вишни?» – подумал он, оглядывая дворик.
Корявые деревца с лиловыми веточками росли перед домом. Дом был крепкий и длинный, а участок перед ним разгорожен пополам забором, и за этим забором, на другой половине, не было ни вишен, ни цветочных клумб, ни деревьев. Там сушилось на длинной веревке белье, и наличники окон были давно не крашены.
– Саша, – сказала вдруг мать, – а это Люда.
– Я понял, – ответил он.
Люда сквозь слезы с презрением посмотрела на него и стала успокаиваться.
Саша подумал, что все эти слезы, все это горе похожи на горе и слезы, когда умирает близкий. А ему просто жалко мать. У него никакого горя. Какое же горе, если посадили проворовавшегося человека? Все хорошо и справедливо!
И он вдруг улыбнулся.
– А меня зовут Саша, – сказал он, взглядывая на Люду, на распухшие ее глаза и губы.
Дома Люда опять плакала, тихо и задумчиво, не вытирая медленных слез, улыбалась, крепясь кое-как, и говорила с насмешливым отчаянием:
– Я теперь никогда не привыкну… Теперь у меня будут спрашивать в школе… А мне говорить-то что?
И, раскачиваясь, страдальчески усмехалась.
– Еще бы, – говорил Саша. – Целых пять лет… Может быть, вам даже хуже, чем ему. Он там среди своих.
– Как это среди своих?
– Ну, там… меньше будет мучить совесть, – отвечал Саша, понимая, что ей и матери неприятно слышать это. – Там, среди осужденных, ему будет проще, чем вам.
Люда своим долгим и немигающим взглядом смущала его, ему казалось порой, что она то с ненавистью, то с недоумением, а то и с любопытством смотрела на него. Он жалел эту девушку, у которой электричка сбила мать и у которой теперь с позором отняли отца. Он ее понимал и боялся обидеть. И безотчетно тянулся к ней, испытывая странное желание обнять ее, как недавно обнимал мать, и сидеть с ней так, забывшись, слушая ее дыхание и поглаживая потную ее голову. Ему казалось, что ей это тоже было бы приятно и необходимо.
К вечеру он собрался домой, попрощался с матерью, которая не стала его уговаривать остаться (это показалось обидным), и, прощаясь с Людой, задержал ее влажные пальцы и сказал с усмешкой:
– Так случилось, что вы вроде бы отняли у меня мать.
Она высвободила пальцы и сказала:
– Что вы этим хотите сказать?
– Ничего… Вам будет тяжело с ней.
– Наоборот. Она мне говорила, что всегда мечтала о девочке, а теперь вот… я у нее.
Она говорила это и смотрела на Сашу долгим, немигающим взглядом, словно пристально следила за теми чувствами, которые испытывал он, слушая ее.
– Не знал, – проговорил Саша. – Проводите меня, мне надо поговорить.
– Нет, – сказала Люда, не сводя с него глаз. – Не хочу выходить из дома. И вообще не хочу.
– А вы похожи… внешне, на своего отца, – сказал Саша.
– А мне все равно, на кого я похожа… И вообще мне все равно!
Она вдруг опять заплакала и, отвернувшись, сгорбившись, жалко сказала:
– Я не знаю, что мне делать! Лучше бы вы сегодня остались у нас.
И Саша легко согласился.
В сумерках, нежданно-негаданно явилась тетка, которая днем, сославшись на недомогание, поехала сразу домой. Она с трудом справлялась со своей шумной одышкой и, переводя дыхание, удивленно спрашивала:
– Чтой-то вы в потемках? При свечах?
И, усаживаясь на табуретке возле двери, над которой чернел запыленный щиток с электропробками, говорила о дороге, о толкотне в поезде, о вежливом каком-то молодом человеке, который уступил ей место.
– А ты, Сашок, пробки чинишь? Перегорели?
Саша отвечал сверху, что тут они уже второй день сидят в потемках. Люда, высоко подняв руку, светила ему колеблющимся огоньком стеариновой свечи. Рука у нее устала, и она поддерживала ее за локоть другой.
– А проволока тонкая? – спросил Саша. – Нашел… Здесь есть кусочек. Вот только очистить…
Он спрыгнул со стремянки, держа в руках обрывок провода.
– А где-то тут клещи? – спросил Саша.
Все стали оглядываться, Люда повела осторожно свечой, освещая краешек стола, пол, какой-то сундучок с покатой окованной крышкой. Но клещей не было.
– Тетя Варь, – сказал Саша, – а ну-ка поднимись. Может, сидишь на клещах?
– Как не стыдно, Сашенька… Как же это на клещах можно сидеть? – говорила тетя, поднимаясь, и вдруг растерянно ахнула.
Тут уж и мать не могла удержаться от улыбки, а Люда так смеялась, что Саша осторожно взял у нее из рук свечку и передал тете, которая была смущена и которая, как казалось Саше, нарочно теперь уже ломала эдакую глупую и толстую бабу, выставляя себя на посмешище, лишь бы не гасла на лице у сестры улыбка.
Когда лампочки в комнате вспыхнули и старый, выцветший, огромный абажур повис в желтом сиянии над столом, тетка достала из сумки большую черную бутылку кагора и, зная наперед, что сестра будет отказываться, сказала решительно:
– И я тоже выпью рюмочку.
Люда мяла, в пальцах кусочек теплого стеарина и, сидя за накрытым столом, оцепенело и зябко смотрела в пустоту белой, отглаженной до блеска скатерти. Саша и раньше успел уже заметить этот зябкий, стынущий взгляд, который вдруг сковывал девушку, уводил куда-то, цепенил лицо отрешенностью… В эти минуты, когда так вот забывалась она, Саша тайно разглядывал ее, зная, что она не заметит… И это доставляло удовольствие – следить и изучать, понимать лицо девушки, которая странным образом приходилась ему теперь сводной сестрой. У нее была гладкая, полированная кожа. И вся она, как затаенное дыхание, была тиха и золотилась над снежной скатертью… Такие девушки ему нравились, но к этой, непонятной и грустной, к этой, у которой теперь одна с ним мать на двоих, он испытывал незнакомое доселе, но, по всей вероятности, обыкновенное братское чувство… И конечно, непреодолимое любопытство.
И однажды она вдруг уловила его взгляд. Вышла из своей задумчивости, глаза ее вскинулись, она вздохнула и радостно улыбнулась Саше, который не успел отвести глаза. Он тоже ей улыбнулся.
– Что? – спросила она, вся подавшись в его сторону с виноватой, растерянной улыбкой, словно очень важное что-то не расслышала и теперь, чувствуя себя виноватой, просила повторить.
– Нет, я молчу, – сказал Саша, смущаясь. – Я думал о том…
Он смотрел на ее пальцы, которыми она мяла стеарин, и ему хотелось самому подержать этот кусочек растаявшей свечи. Он протянул руку и отобрал у нее этот кусочек.
– …Думал о том, что у вас здесь очень тихо, – говорил он, усаживаясь на свой стул и разглядывая стеарин, который, показалось ему, был горяч и нежен, как ее пальцы, как ее кожа. – А мы теперь кто? – спросил он с удивлением.
– Как? – тоже удивленно спросила Люда.
– Брат и сестра?
Она не ответила и с каким-то обжигающим подозрением оглядела Сашу.
Ночевать он так и не остался в этом доме. Когда Люда вышла запереть за ним калитку, он остановился на дорожке и спросил:
– А все-таки почему он так быстро женился?
Он сказал это с нарочитой хмуростью, уверенный, что Люда обидится и не ответит, но она охотно ответила, словно давно дожидалась этого вопроса или давно носила в себе этот постоянный вопрос и мучительный ответ. Она сказала шепотом:
– Они очень дружно жили с мамой, с моей… И мне тоже казалось очень обидным и даже ужасно! Я ругалась… А он сказал, что ему некогда ждать, потому что не молод, а вот если бы был молодым, тогда он мог бы долго не жениться… Я понимала, это просто так он сказал, чтобы я отстала, хотя я и не очень-то приставала к нему с этим… Просто он очень беспомощный, и мама… моя всегда была нянькой. Я понимаю…
Люда проводила Сашу до калитки, заперла ее на замок, и уже из-за ограды Саша спросил тоже шепотом:
– А как они жили с мамой… моей?
– Хорошо, – ответила она удивленно. – Она тоже очень заботилась, а он называл ее тоже, как маму, хотя мне и обидно было сначала, что он ее тоже, как маму мою, называл этим словом…
– Каким словом?
Люда ухватилась за штакетник калитки и доверчиво смотрела на Сашу. Было темно, и слышно было, как шумел проходящий товарный поезд и как зудела под ногами сырая земля.
– Он ее называл «лапонькой», – сказала Люда, и Саше показалось, что она и теперь сказала это с тихим удивлением.
– А он был кавалеристом? – спросил Саша.
– Не-ет. Почему кавалеристом?
– Во время войны…
– Нет, у него была броня. Он на заводе работал… А разве у него кривые ноги?
Саша засмеялся тихонько и ничего не ответил…
Все время, пока они сидели дома, а потом здесь, у калитки, Саша мял комочек стеарина и теперь, в паузе, молча взял Людину руку и прижал к указательному пальцу теплый комочек.
– Чтой-то? – спросила Люда.
– Отпечаток пальца. Теперь застынет, и будет у меня отпечаток твоего пальца.
– А зачем?
– Секрет, – сказал ей Саша таинственно. – Может, я сыщик, и мне, может, нужно найти тебя через сто пятьдесят лет…
– Через сто пятьдесят! – сказала Люда удивленно и радостно. – Мы тогда уже все помрем…
И она засмеялась, словно бы удивляясь, что и она тоже помрет.
Только на станции, дожидаясь позднего поезда, Саша почувствовал, как замерз и продрог в этот весенний и холодный еще вечер, когда, казалось, земля еще промерзала на ночь и все соки ее затаивались, останавливаясь до утра.
* * *
Поселок этот не пригород был, не Подмосковье и не сама Москва, а что-то среднее между городом и селом. Сюда можно было добраться и на автобусе и на поезде… Саша стал ездить на поезде.
Когда он приехал сюда впервые, была еще ранняя весна, и голые деревья, большие березы, старые тополя и клены серым и неприютным дымом застилали улицы, цветные, яркие дома и крыши, и земля, раскрывшись после зимы, после долгих снежных месяцев, была еще грязная, неприбранная, хранила на себе осадок пыли, окурков, какой-то серости, которая скопилась за зиму на снежных слоях и теперь пленкой легла на землю.
Но потускнели, как будто облиняли, яркие крыши и стены, когда стали распускаться деревья, когда зазеленел тот весенний грязный дым над улицами, когда хлынула потоками молодая трава, скрывая землю… На согретую землю, на траву падали красные сережки цветущих тополей, похожие на мохнатых гусениц, а тополя стояли набухшие, ветвистые, словно гигантские олени-пантачи… В зеленом бисере почек, в зеленой этой прозрачности летали маленькие птицы, зная свои какие-то выходы и входы в живых чертогах, а на березах, в черных колониях все дни неумолчно хрипели грачи.
Григорий Иванович прислал первое письмо, тоскливое и полное отчаяния. Но мать и не читая принялась сразу плакать, как только увидела конверт, а прочитав, ходила несколько дней в скорби. Но когда Саша однажды увидел, что и у Люды наплаканные глаза, он спросил с тревогой:
– Что-нибудь случилось? Ты плакала? А мама? Почему плакала-то?
Люда сидела на ступеньке крыльца, и солнце, зайдя уже за крыши, светило из-за соседних домов прямо ей в лицо. Солнечный луч, неслепкий и нежаркий, выкрасил стену дома и террасу в апельсиновый цвет, волосы девушки были как будто медные, а на лице лежали густые тени.
Саша увидел вдруг в ней нечто такое, что меняло все его представления о красоте… Словно бы он смотрел на нее сквозь туман или сама она окутана была странной неясностью, и глаз смотрящего ни на чем не останавливался, ни на чем не спотыкался. Словно бы он смотрел сквозь нее, а кожа ее, глаза, губы, волосы и все ее тело – это всего лишь туманная и непрочная, легкая оболочка, подверженная влиянию света, звуков, красок и тысяче других неузнанных еще и непонятных причин. Ему вдруг впервые стало неважным, красива она или нет. Он просто знал и чувствовал, что красива, и уже не важно было, понравится ли она другим или не понравится. Красота ее существовала для самой себя, не для других, сама по себе, как существует речка или дерево на земле.
Он озяб вдруг от этого открытия и, глядя в наплаканные глаза, нежно спросил:
– Ну что? Вы, может быть, с мамой поругались?
– Нет, – сказала Люда. – Просто я устала.
– Почему?
– Он не понимает, что мы ждем от него других писем: жалуется, говорит – не доживу… Пропадет, погибнет или сам с собой покончит…
– Ну, а ты?
– А что я? Это ведь мой отец, – сказала она обозленно. – А твоя мать – его жена. А что ты сам? Почему «что я»?! А ты? Почему ты улыбаешься? Твоя мать сходит с ума, а тебе смешно… Смешно, да? А вот она собирается к нему. Хочет ехать и жить там.
Саша усмехнулся, представив такое, и, не понимая, а вернее, не принимая злости, с которой говорила Люда, спросил:
– Почему ты решила?
– Решила она. Там что-то строят… «Буду, – говорит, – работать в столовой или, – говорит, – кондуктором…»
– Она дома?
– Она даже перестала плакать. Ты ее не отговоришь, я знаю. И ничего не докажешь. – Она улыбнулась и с насмешкой в голосе продолжала: – Ничего не докажешь! Думаешь, тебя послушает? Я ее узнала, ты прав, она упрямая ужасно…. Я ее узнала лучше, чем ты. Вот увидишь, она скоро уедет.
Саша подумал, что, если это серьезно, тогда он все ей расскажет о Григории Ивановиче, о тех яблоках, о фонтане, о Шурочке, которая умерла из-за него… И, задумавшись, понял, что уже не сможет рассказать об этом матери.
Все время казалось, что он знал об этом человеке все и стоило матери узнать то, что знал о нем он, ее сын, она прокляла бы тот час, когда увидела и полюбила гнусного человека, о котором только он да та, умершая женщина, знали всю правду. А теперь он вдруг с тоской понял, глядя на заплаканную его дочь, что знает слишком мало, чтобы поколебать слепую любовь. Да и знал ли он вообще что-либо плохое об этом человеке? Может быть, только одни догадки? Мираж?
И в этой растерянности он дурашливо сказал:
– Ну да! Все ты придумала…
Как же ему быть? Хранилась огромная какая-то тайна, которую он носил в себе, оберегая свою мать, жалея тетку, ее слабое сердце, но вдруг оказалось, что никакой такой тайны-то и не было… Что он ее словно бы сам сотворил в безумной злости к человеку, который просто не мог и не умел быть хорошим. Что ж тут поделаешь! Живут и такие.
– Но ведь ей нельзя, – сказал он Люде, которая все еще сидела на ступеньке, озаренная потухающим солнцем.
– А мне все равно, – сказала она. – Я ей говорила. Она уверена, что ему будет легче…
– Твоему отцу… А моей матери?
У Люды были воспаленные оранжевые глаза. Он увидел, как напряглись ее ноздри. Она трудно набрала воздуха в легкие и неожиданно вяло сказала:
– А мне все равно…
Поднялась, оправила платье и лениво, словно бы потягиваясь, пошла домой.
В комнатах было так же оранжево и красочно, как на улице, пахло свежим бельем и весной, и дым от папиросы синими космами шевелился в солнечном луче.
– Курим? – спросил Саша, здороваясь с матерью. – Знаешь, какого цвета твои бронхи и трахеи? Коричневого.
Мать промолчала, и лишь тихая улыбка свела ее щеки. Она похудела за последние дни, у нее провалились виски, а от бессонницы и от слез залоснилась жирной, сажевой усталостью кожа под глазами.
Он уже привык к равнодушию матери.
– Ты хоть скажи, как живешь, – говорил ей Саша.
– Как я живу? – отвечала она с насмешливой горечью и умолкала до следующего вопроса.
– А работать-то думаешь?
Она хмурила лоб, словно бы пытаясь сосредоточиться и понять, о чем ее опрашивал сын.
– А куда мне идти? – спрашивала она в забывчивости.
– Ну хотя бы кондуктором опять…
– Нет уж, – говорила она, обидчиво поджимая губы.
И опять сидели молча, пока Саша не начинал говорить. Он сказал:
– Мне вчера повестку из военкомата принесли.
– Ну и что? – спросила мать. – Ходил?
– Завтра. Написано, чтоб никуда не выезжал.
Она задумывалась, и выражение скорби старило ее лицо, как будто ее наводил на грустные раздумья этот приказ никуда не выезжать, как будто она не о сыне задумывалась, а о том далеком теперь человеке, которому, наоборот, приказали выезжать… И о себе…
– Ты какая-то чудная стала, мам, – говорил ей Саша. – Надо взять себя в руки.
Но она только усмехалась в ответ.
И все-таки Саша не чувствовал себя чужим в этом доме. Ему порой казалось, что матери приятно видеть его и слышать, потому что, когда он уходил, она вдруг как будто вспоминала о нем, как будто понимала наконец, что к ней пришел сын, а она даже не напоила его чаем с вареньем, не поговорила, не поспрашивала о жизни… И на прощанье, уже в дверях, говорила и говорила, спрашивала о своей больной и очень сдавшей сестре, о том, как они там управляются вдвоем, не голодают ли.








