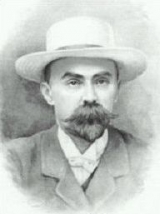
Текст книги "Н. Г. Чернышевский. Книга первая"
Автор книги: Георгий Плеханов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
В глазах современного социалиста революционные движения рабочего класса являются результатом борьбы классов в обществе, сложившемся на основе крупной промышленности. Современный социалист видит залог торжества своего дела в дальнейшем развитии этой самой промышленности. Чернышевский не так смотрел на этот вопрос. Его взгляды на него сильно окрашены самым недвусмысленным идеализмом. Вот как рассуждает он об этом предмете в своей рецензии на книгу Бруно Гильдебранда "Политическая экономия настоящего и будущего". "То, что истинно человечно, истинно разумно, найдет себе симпатию во всех народах… Разум один и тот же под всеми широтами и долготами, у всех чернокожих и светлорусых людей. Конечно, в американских степях живут другие люди, чем в русских деревнях, и на Сандвичевых островах обитают господа, не похожие на английских джентльменов; но ведь и русскому мужику, и дикарю, так же как и высокопочтенному римскому кардиналу, хочется, думаем мы, есть, а затем, чтобы есть, хочется что-нибудь иметь. Стремление к улучшению своего положения составляет существенное свойство всего человечества. Если бы новые теории были противны природе человека, они и не пошли бы дальше той страны и тех людей, которым угодно было выдумать их, не стремились бы к ним все народы образованного мира [37]37
«Современник», март 1861, Новые книги, стр. 71.
[Закрыть]. Едва ли нужно повторять, что народы образованного мира стремятся к социализму не потому, что он согласен с «природой человека» (это еще ничего не доказывает), а единственно потому, что он согласен с природой экономического состояния современного нам цивилизованного человечества". При указанных взглядах на социализм, как могли представляться Чернышевскому практические задачи социалистической партии? По цензурным условиям ему редко приходилось говорить о них в печати, но он все-таки настолько определенно высказался на этот счет, что сомнение возможно только относительно частностей: общий характер его практических стремлений достаточно ясен.
Заметим прежде всего, что Чернышевский по своему трезвому уму и всегдашнему стремлению к практической деятельности не мог принадлежать к числу тех социалистов, которые требуют, чтобы человечество целиком приняло их утопии, и считают бесплодными или даже прямо вредными все частные экономические реформы. Таковы, напр., современные анархисты, если только позволительно называть анархистов социалистами, хотя бы и не в строгом, а только в разговорном смысле слова. Чернышевский едко смеется над подобными фантазерами. "Во имя высших идеалов отвергать какое-нибудь, хотя бы и не вполне совершенное, улучшение действительности – значит слишком уже идеализировать и потешаться бесплодными теориями". По его мнению, у людей, склонных к таким потехам, "дело кончается большею частью тем, что после напряженных усилий подняться до своего идеала, они опускаются так, что уже вовсе не имеют перед собою никакого идеала". Это уже не в бровь, а прямо в глаз современным анархистам. Но дело не в том. Посмотрим, как же смотрел сам Чернышевский на реформы, полезные и возможные с социалистической точки зрения?
Известно, что современные социал-демократы также не только не отрицают значение частных экономических реформ, но очень настойчиво требуют их. Принимаемые ими в разных странах программы частных реформ или так называемых минимальных требований стоят в тесной связи с их конечными стремлениями. Они хотят, чтобы реформы, вытребованные ими у современных правительств, облегчали им приближение к конечной цели, чтобы они были последовательным рядом побед экономии Труда над экономией Капитала. Чернышевский понимал, что требуемые социалистами реформы должны быть сообразованы с их конечной целью. Но конечная цель социализма не представлялась ему с такой ясностью, с какою представляется она новейшим социал-демократам. Само торжество социализма отодвигалось в его представлениях в довольно неопределенную даль, должно было явиться результатом "вековых опытов" человечества. Поэтому и программа желательных для него частных реформ не могла отличаться определенностью. В общем можно сказать, однако, что, так как социалистический строй представлялся Чернышевскому в виде ассоциаций, то он отстаивал все, в чем видел хоть малейший намек на принцип ассоциации. С точки зрения большей легкости введения ассоциаций Чернышевский отстаивал и русское общинное землевладение. Община представлялась ему готовой исторической подкладкой для земледельческих ассоциаций. Заведение ассоциации рекомендует он русским социалистам и в романе "Что делать?". Очень интересен тот исторический факт, что проповедь ассоциаций велась одновременно в России и в Германии. В 1863 году появился роман Чернышевского, с выходом которого начинается у нас целый ряд попыток устройства производительных ассоциаций. В том же 1863 году Лассаль рекомендует немецким рабочим ассоциации как единственное средство хоть некоторого улучшения их быта. Но какая разница в постановке этого вопроса у нас и в Германии! В романе Чернышевского, ставшем на время программой русских социалистов, устройством ассоциаций занимаются отдельные, гуманные, образованные личности: Вера Павловна и ее друзья. К этому делу привлекается даже просвещенный священник Мерцалов, играющий, по его собственному выражению, роль "щита" в устроенных Верой Павловной мастерских. О политической самодеятельности класса, заинтересованного в устройстве таких ассоциаций, роман не говорит ни слова. Не говорили о ней ни слова и те люди 60-х годов, которые пытались осуществить предложенную Чернышевским программу. Напротив, первым словом Лассалевской агитации было указание рабочим на необходимость с их стороны политической самодеятельности. Лассаль требовал, чтобы рабочие, сплотившись в особую политическую партию и приобретя влияние на ход дел в стране, заставили правительство дать им необходимые для заведения ассоциаций деньга. В проекте Лассаля дело заведения ассоциаций имеет широкий общественный характер. Ассоциациям, вводимым усилиями отдельных просвещенных лиц, Лассаль не придавал ровно никакого значения. По сравнению с Лассалем Чернышевский является в своем романе настоящим утопистом. По сравнению с Чернышевским Лассаль является в своей агитации истинным представителем новейшего социализма. Это различие происходит не от того, чтобы Лассаль был в умственном отношении выше Чернышевского. Можно с уверенностью сказать, что по своим умственным силам Чернышевский ни мало не уступал Лассалю. Но русский социалист был сыном своей страны, политическая и экономическая отсталость которой придавала всем его практическим планам и даже многим теоретическим взглядам характер утопий. В своих практических планах заведения ассоциаций он был гораздо ближе к Шульце-Деличу, чем к Лассалю. Но, с другой стороны, заметим, что и Лассаль в своих практических планах является истинным представителем новейшего социализма только по сравнению с Чернышевским. Те люди, которые на самом деле были истинными представителями и основателями новейшего социализма, Маркс и Энгельс, находили, что и Лассалевские планы представляют собою не более как утопию. Они отказались поддерживать знаменитого агитатора именно потому, что не хотели питать в немецком рабочем классе склонности к экономическим утопиям. Годы, решительные для развития Чернышевского, относятся к тому времени, когда западноевропейский пролетариат, подавленный после революции 1848 года, не подавал никаких признаков политической жизни. Наблюдая его со стороны и не имев возможности по личным наблюдениям познакомиться с движениями пролетариата в предшествующую эпоху, Чернышевский, естественно, не имел повода задуматься об его исторической роли. Даже признавая в принципе, что пролетариат должен освободить себя собственными усилиями, Чернышевский, тем не менее, склонялся иногда к чрезвычайно странным практическим планам облегчения его участи. Говоря это, мы имеем в виду статью, напечатанную в майской книжке "Современника" за 1861 год, в отделе иностранной литературы. Очень возможно, даже вероятно, что статья эта не принадлежит лично Чернышевскому. Но так как она касается экономических вопросов и так как через руки Чернышевского проходило в "Современнике" все, что имело хоть какое-нибудь отношение к этим вопросам, то, разумеется, она не могла бы быть напечатана, если бы противоречила взглядам нашего автора. Во всяком случае она должна быть признана очень характерной для взглядов кружка "Современника" на социальный вопрос. В начале статьи автор высказывает очень дельные замечания о том, что пролетариат представляет собою явление, свойственное исключительно новой истории. "Только в нынешнем столетии он явился на западе Европы в виде сознательного, самостоятельного целого. До XIX столетия бедных, нуждающихся в общей помощи, было, может быть, больше, чем теперь, но о пролетариате не было речи. Он – плод новой истории". Далее автор делает справедливое замечание о том, что женский промышленный труд послужит залогом семейного освобождения женщины. Читая это, можно подумать, что имеешь дело с человеком, вполне стоящим на точке зрения современного социализма. Но разочарование является тотчас же, как только речь заходит о практических способах улучшения участи пролетариата. Именно, говоря о лионских ткачах шелковых изделий, автор видит спасение их в "децентрализации производства", в заведении мастерских вне города, в соединении ткацкого труда с сельским хозяйством. По мнению автора, соединение занятий ткацким ремеслом с сельским хозяйством сильно увеличит благосостояние рабочего. Другой источник возможного увеличения благосостояния ткачей видит он в дешевизне сырых припасов в деревнях. Вот подлинные слова его: "Для лионского рабочего начало освобождения его от хозяина заключается в устройстве своей собственной мастерской вне города. Но как завести ее? На чьи деньги? На хозяев и на фабрикантов можно надеяться в виде исключения, и вот почему нужно искать поддержки в правительстве, его деньгах. Только при кредите, открытом правительством лионскому пролетарию, он освободится от эксплуатации его труда капиталистом и получит возможность встать на свои ноги". Но автор опасается, что рабочие не захотят переселиться в деревни. "Городская жизнь для многих из них представляет приятные особенности, которых они не найдут в сельской жизни… Но это зло переходное. Нельзя ожидать, разумеется, чтобы все рабочие сразу переселились из Лиона в его окрестности; но и нет никаких оснований думать, чтобы польза такого переселения не входила все более и более в общее сознание рабочих. Несколько удачных примеров, и рабочий увидит выход из своего настоящего печального положения. Для начала будет достаточно, если образуются маленькие хозяйства и мастерские отдельных семейств, а там уж не труден переход к товариществу и к устройству на общий счет фабрик с механическими двигателями" [38]38
«Современник» 1861 г., май, Иностранн. литература, стр. 22 и 23.
[Закрыть]. Мы нисколько не удивились бы, если бы прочли подобный план в сочинениях г. Успенского или кого-нибудь из «субъективных» русских «социологов». Но в журнале Чернышевского он производит странное, тяжелое впечатление. Видно, что человеку, придумавшему такой план, равно как и людям, напечатавшим его в своем журнале, совсем еще неясно, каким это образом освобождение рабочих может быть делом самих рабочих. Для современных социал-демократов дело вполне понятно: экономическое освобождение пролетариата явится следствием его политического господства, захвата им политической власти в свои руки. Автор приведенного плана экономического освобождения лионских ткачей отводит главную роль в этом освобождении правительству Наполеона III. По этому проекту, оно должно было взять на себя почин и постепенно приучить рабочих к мысли о переселении в деревни. Таким образом рабочие явились бы пассивным предметом благодетельного воздействия бонапартовского правительства. Это коренным образом расходится со взглядами социал-демократов, не говоря уже об экономической стороне проекта, не выдерживающей никакой критики. Но появление таких проектов на страницах «Современника» было, если угодно, понятно и естественно. Мы уже видели, как смотрел Чернышевский на всеобщее избирательное право. Он не считал его необходимым орудием пролетариата в борьбе с буржуазией. Для кого неясно значение всеобщего избирательного права в этой борьбе, для того неясны и вообще все ее политические задачи, не очевидна и необходимость сплочения пролетариата в особую политическую партию с целью захвата власти в будущем. А при таких условиях даже искренний сторонник рабочего класса по необходимости будет колебаться, когда речь зайдет о практических мерах для улучшения участи рабочих. Он будет от души сочувствовать их революционному движению; но в мирное время он не откажется передать все дело улучшения их участи в руки существующих правительств: неясно понимая политические задачи рабочих, он не может ясно понять и значения их политической самодеятельности. Вообще можно сказать, что понимание современных задач пролетариата лучше всего обнаруживается в суждениях о тактике этого класса в мирное, спокойное время. Чтобы сочувствовать революционному взрыву рабочих, нужно только не быть заинтересованным в поддержании буржуазного строя. Но, чтобы составить себе ясное понятие о тактике, которой рабочие должны держаться в то время, когда революции нет и еще не предвидится, – нужно хорошо выяснить себе все задачи, все условия и весь ход освободительного движения рабочего класса. Чернышевскому все это было еще не ясно; отсюда и появление на страницах «Современника» проектов, подобных вышеприведенному.
Замечательно, что наш автор, энергически отстаивая государственное вмешательство в экономические отношения различных общественных классов, нигде не упоминает о законодательном ограничении рабочего дня. Этой стороне дела он, по-видимому, не придавал никакого значения или, лучше сказать, вовсе не задумывался над ней.
Теперь мы достаточно выяснили социалистические взгляды Н. Г. Чернышевского. Для читателей, знакомых с западным движением и с западноевропейской социалистической литературой, интересно будет, может быть, отметить здесь то обстоятельство, что наш автор видел в Прудоне "полного представителя умственного положения, до которого возвышается на Западе простолюдин". Чернышевский вовсе не поклонник Прудона. Он замечает его слабые стороны, его колебания, его непоследовательность. "Но во всем этом мы опять видим общие черты того умственного положения, в котором находится теперь западноевропейский простолюдин. Благодаря своей здоровой натуре, своей суровой житейской опытности, западноевропейский простолюдин в сущности понимает вещи несравненно лучше, вернее и глубже, чем люди более счастливых классов. Но до него не дошли еще те научные понятия, которые наиболее соответствуют его положению, наклонностям, потребностям и сообразны с нынешним положением знаний" [39]39
«Антрополог. принцип в философии», стр. 21, 24.
[Закрыть]. О каких «простолюдинах» говорит здесь Чернышевский? Имеет ли он в виду крестьян, мелких независимых ремесленников или пролетариев в собственном смысле слова? Он говорит о них вообще, не делая никакого различия между различными слоями трудящегося населения, потому что все они, как мы видели, сливались в его уме в одно общее представление о «простонародье». Не так смотрят на это дело новейшие социалисты. Еще в 1848 году Маркс и Энгельс в своем «Манифесте коммунистической партии» указали на резкое различие между крестьянами и ремесленниками, с одной стороны, и пролетариатом – с другой. Для авторов «Манифеста» крестьяне и мелкие ремесленники в том случае, когда они отстаивают экономические особенности своего положения и не переходят на точку зрения пролетариата, являются реакционерами, стремящимися повернуть назад колесо истории. Только в пролетариате видят Маркс и Энгельс истинно-революционный класс современного общества. Сообразно с этим и в Прудоне Маркс и Энгельс могли видеть, пожалуй, представителя западноевропейских простолюдинов, но простолюдинов, поставленных в особые условия мелкобуржуазного производства. Социализм Прудона казался Марксу социализмом мелкой буржуазии или, если угодно, крестьян, этих мелких буржуа земледелия. Непоследовательность и шаткость мысли Прудона Маркс объяснял не тем, что до него не дошло последнее слово науки, а тем, что предрассудки и предубеждения, вынесенные им из мелкобуржуазной среды, лишали его возможности понять это слово даже в том случае, если бы оно и дошло до него [40]40
См. «Нищету философии (пятый выпуск Библиотеки Современного Социализма»),
[Закрыть]. Различие в отношениях к Прудону Маркса и Чернышевского прекрасно рисует различие в их отношении ко всему западноевропейскому рабочему движению.
VI
Мы знаем теперь отношение Чернышевского к тем «нашим общим великим западным учителям», у которых русскому человеку и в настоящее время приходится старательно учиться. Мы знаем, что на выработку взглядов Чернышевского имела огромное влияние немецкая философия. Мы знаем также, в какой период развития немецкой философии изучал ее наш автор: в период перехода от идеализма к материализму. В этот переходный период новейшие материалистические взгляды далеко еще не дошли до той степени выработанности, ясности и последовательности, на какую возвели их впоследствии труды Маркса и Энгельса. Это очень заметно отразилось на воззрениях Чернышевского. Сравнивая их с учением той самой школы, которая развилась впоследствии из учения Фейербаха, мы находим в них много пробелов, много неясностей и непоследовательностей. Исторические и социалистические взгляды Чернышевского ни в каком случае не могут быть признаны удовлетворительными с точки зрения современной нам европейской науки. Тот, кто вздумал бы держаться их в настоящее время, был бы совершенно отсталым человеком. Но, говоря это, мы вовсе не хотим осуждать великого русского писателя. Его развитию сильно помешало то обстоятельство, что он жил в стране, отсталой во всех отношениях, до которой часто совершенно не доходили новейшие открытия и направления общественной науки. В окружавшей же его обстановке не было никаких материалов для самостоятельных открытий в этом смысле. Кроме того, нужно помнить, что переворот, сделанный в общественной науке Марксом и Энгельсом, не сразу был по достоинству оценен даже самыми даровитыми людьми Западной Европы. Лассаль находился в условиях, очень благоприятных для его общественного и политического развития, он был близко знаком с основателями новейшего социализма, ему, по-видимому, достаточно было только усвоить мысли, выработанные другими и совершенно доступные для него по обстоятельствам его жизни, и однако мы встречаемся в его сочинениях со множеством вопиющих противоречий. В своих больших сочинениях («Philosophie Heracleitos des Dunkeln», «System der erworbenen Rechte»), он является чистейшим идеалистом и толкует о саморазвитии понятий (Selbstentwicklung der Begriffe). В своих агитационных брошюрах он уже гораздо ближе к новейшему материализму, он уже почти целиком признает все его положения, но, тем не менее, и в этих брошюрах его много неясности и непоследовательности. В скольких поправках нуждается теперь главное его полемическое сочинение «Бастиа-Шульце»! Лассаля приходится признать таким же представителем переходной эпохи в развитии философской социалистической мысли, каким был и Чернышевский. Но пробелы и противоречия во взглядах Лассаля не помешали ему оказать существенную услугу развитию своей страны. Не помешала в этом и Чернышевскому неполная выработанность его взглядов. В настоящее время, стоя на точке зрения Маркса, мы можем осуждать очень многое в теоретических рассуждениях и практических планах Чернышевского. Но для его времени и для его страны даже те его взгляды, которые мы должны теперь признать ошибочными, все-таки были в высшей степени важными и благотворными, потому что они будили русскую мысль и толкали ее на тот путь, на который ей не удалось выступить в предшествующий период: на путь исследования общественных и экономических вопросов. В политической экономии, в истории, даже в этике и литературной критике Чернышевский все-таки высказал множество таких важных мыслей, которые и до сих пор еще не усвоены во всем их объеме и не разработаны, как следует, русской литературой. Чтобы определить в немногих словах значение всего, что сделал Чернышевский для развития русской мысли, достаточно будет указать на следующий факт, который признает бесспорным всякий, кто знаком с состоянием литературы за последние тридцать лет. Ни русские социалисты в огромнейшем числе своих фракций и направлений, ни легальная русская критика и публицистика не сделали ни шагу, буквально ни шагу вперед с тех пор, как прекратилась литературная деятельность Чернышевского. В его статьях вы найдете все те мысли и взгляды, распространение которых составило славу передовых писателей следующего периода. Писатели эти не сделали никаких поправок ко взглядам Чернышевского, да и не могли сделать их, потому что их миросозерцанию свойственны были еще в гораздо большей степени все те недостатки, какими отличалось миросозерцание Чернышевского. Слабая сторона взглядов Чернышевского обусловливалась тем, что он незнаком был с новейшим направлением философской мысли Западной Европы, с учением Маркса и Энгельса. Но хорошо ли усвоили это учение литературные вожаки последующего периода? Они заговорили о неприменимости к нам западноевропейских теорий, о «субъективном методе» в социологии, об особенностях русского экономического быта, об ошибках Запада, словом, явились более или менее сознательными, более или менее усердными проповедниками того народнического учения, которое, наверное, показалось бы Чернышевскому самой неудобоваримой мистикой [41]41
Аристов в своей книге о Щапове рассказывает, что Чернышевский, заинтересовавшись сочинениями Щапова, искал знакомства с ним и, встретив его у одного общего приятеля, вел с ним длинный спор. Спор этот показал Чернышевскому, что сотрудником «Современника» Щапов быть не может: так сильно расходились их взгляды. Но как относились к Щапову впоследствии те самые люди, которые считали себя горячими поклонниками Чернышевского? Щаповские взгляды на русскую историю явились составною частью народнического учения, и наши народники, продолжая «уважать» Чернышевского, даже не потрудились спросить себя, не существует ли противоречия между его взглядами и Шаповской идеализацией старинной народной жизни?
[Закрыть]. Раз свихнувшись в сторону народничества, передовые представители русской мысли не могли даже и задуматься о серьезной критике Чернышевского. Напротив, они часто с усердием, достойным лучшей участи, отстаивали именно те его взгляды, которые составляли его ошибки, показывали отсталость его от западноевропейской науки. Удивительна судьба гениальных или просто даже даровитых людей, имевших заметное влияние на умственное развитие своей страны! Их последователи и почитатели часто усваивают именно их ошибки и заблуждения и затем отстаивают их со всем энтузиазмом, возбуждаемым великим именем. Примерами подобного, на первый взгляд очень странного, пристрастия учеников к ошибкам их учителей положительно изобилует история умственного развития человечества. За что ухватилась правая сторона Гегелевской школы? За промахи и непоследовательность гениального философа. Что с особенною настойчивостью пережевывали так называемые позитивисты? Схоластическую часть учения Огюста Конта (да простят нам читатели поистине святотатственное сопоставление Конта с Гегелем). Что мешало немецким лассальянцам соединиться с фракцией Либкнехта – Бебеля? Пристрастие к политическим ошибкам и к экономическим утопиям Лассаля. Положительно, обскуранты оклеветали человеческий ум, приписывая ему вечное движение вперед и вечное недовольство существующим! В действительности, он оказывается самым ленивым изо всех консерваторов.
Но возвратимся к нашему автору. Зная теперь общий характер его взглядов, зная достоинства и недостатки свойственного ему понимания "высших идей правды, науки, искусства", мы легко можем дать себе отчет об его литературной деятельности.
Мы уже сказали, что, готовя свою диссертацию об "эстетических отношениях искусства к действительности", Чернышевский занимался переводами и другими литературными работами, главным образом для "Отечественных Записок". Появление в печати его диссертации обратило на него внимание редакции "Современника", издававшегося с 1847 г. Некрасовым и Панаевым. Чернышевскому предложили постоянное сотрудничество в этом журнале и даже отдали в его заведование весь критический отдел. Впоследствии, когда "Современнику" позволили в 1859 г. писать о политике, Чернышевский заведовал и политическим отделом. За Некрасовым и Панаевым навсегда останется та огромная заслуга, что они не сторонились, как это делали многие другие "друзья Белинского", от людей, продолжавших его дело. Само собою разумеется, что редакции не пришлось жалеть о том, что она сошлась с Чернышевским. Уже в декабрьской книжке "Современника" за 1855 год появилась первая статья из того, уже много раз упомянутого, ряда «Очерков Гоголевского периода русской литературы», который представляет собою одно из замечательнейших произведений Чернышевского и до сих пор остается лучшим пособием для всякого, желающего познакомиться с критикой Гоголевского периода. Вторая статья из этого замечательного ряда очерков была напечатана в январской, третья – в февральской, четвертая – в апрельской книжках «Современника» за следующий год. В этих четырех статьях была сделана оценка литературной деятельности Полевого, Сенковского, Шевырева и Надеждина. В июльской книжке автор перешел к Белинскому, которому и посвящены остальные пять очерков. В этих статьях имя Белинского впервые названо в печати после 1848 года, когда на Белинского стали смотреть, как на запрещенного писателя. С появлением «Очерков» можно было с отрадной уверенностью, и ни мало не преувеличивая дела, сказать, что у Белинского есть достойный преемник. С тех пор как Чернышевский выступил в качестве критика и публициста «Современника», за этим журналом снова было обеспечено преобладающее место между русскими периодическими изданиями, принадлежавшее ему при жизни Белинского. «Современнику» с интересом и уважением внимала передовая часть читающей публики, к нему естественно тяготели все свежие, нарождающиеся литературные силы. Так, в половине 1856 года в нем стал писать молодой Добролюбов. Людям нашего времени трудно даже представить себе, как велико было тогда у нас значение журналистики. Теперь общественное мнение значительно уже переросло журналистику; в 40-х годах оно еще не успело дорасти до нее. Конец же 50-х и начало 60-х годов является эпохой наибольшего согласия между общественным мнением и журналистикой и наибольшего влияния журналистики на общественное мнение. Только при таком условии и возможно было то горячее увлечение литературной деятельностью и та искренняя вера в значение литературной пропаганды, которые замечаются во всех тогдашних выдающихся писателях. Короче, это был золотой век русской журналистики. Несчастный исход Крымской войны заставил правительство сделать несколько уступок образованному обществу и совершить, по крайней мере, самые насущные, давно уже ставшие необходимыми, реформы. Вскоре на очередь поставлен был вопрос об освобождении крестьян, самым недвусмысленным образом затрагивающий интересы всех сословий. Нужно ли говорить, что Николай Гаврилович с жаром принялся за разработку этого вопроса. К 1857–1858 гг. относятся его замечательные статьи о крестьянском деле. Как много написано им по этому поводу, видно из того, что в отдельном заграничном издании статьи эти составляют большой том очень убористой печати. Теперь довольно уже хорошо известно взаимное отношение наших общественных сил в эпоху уничтожения крепостного права. Поэтому мы будем говорить о нем лишь мимоходом, лишь поскольку это нужно для выяснения роли, принятой на себя в этом деле нашей передовой журналистикой, во главе которой стоял тогда Н. Г. Чернышевский. Всем известно, что эта журналистика горячо отстаивала крестьянские интересы. Наш автор писал одну за другой статьи, в которых отстаивал освобождение крестьян с землею и утверждал, что выкуп земель, отходящих в надел крестьянам, не может представить для правительства никакой трудности. Он доказывал это положение и общими теоретическими соображениями, и самыми подробными примерными вычислениями. "Каким это образом выкуп земли может быть в самом деле затруднителен? Как может он превышать силы народа? Это неправдоподобно, – писал он в статье «Труден ли выкуп земли?» – Это противоречит основным понятиям народного хозяйства. Политическая экономия прямо говорит, что все те материальные капиталы, какие достаются известному поколению от предшествовавших поколений, составляют ценность не очень значительную по сравнению с тою массою ценностей, какая производится трудом этого поколения. Например, вся земля, принадлежащая французскому народу, со всеми зданиями и всем находящимся в них, всеми кораблями и грузами, всем скотом и всеми деньгами, всеми другими богатствами, принадлежащими этой стране, едва ли представляет стоимость во сто миллиардов франков; а труд французского народа ежегодно производит ценность в пятнадцать или более миллиардов франков, т. е. не более как в семь лет французский народ производит массу ценностей, равную ценности целой Франции, как она есть от Ла-Манша до Пиренеев. Стало быть, если бы французам нужно бы было выкупить у кого-нибудь всю Францию, они могли бы сделать это в продолжение одного поколения, употребляя на выкуп только одну пятую часть своих доходов. А у нас о чем идет дело? Разве целую Россию должны мы выкупить со всеми ее богатствами? Нет, только одну землю. И разве всю русскую землю? Нет, выкуп относится только к тем губерниям одной Европейской России, в которых укоренилось крепостное состояние" и т. д. [42]42
См. статью «Труден ли выкуп земли?» в пятом томе заграничного издания. Сочинений Н. Г. Чернышевского.
[Закрыть]. Показав затем, что земли, подлежащие выкупу, составляли бы не более шестой части пространства, занимаемого Европейской Россией, он предлагает целых восемь планов выкупной операции. По его словам, принявши один из этих планов, правительство могло бы выкупить надельные земли не только без обременения крестьян, но и с большою выгодою для государственного казначейства. В основе всех планов Чернышевского лежало соображение о «необходимости держаться возможно умеренных цен при определении величины выкупа». Мы знаем теперь, насколько наше правительство имело в виду интересы крестьянства при уничтожении крепостного права и насколько оно последовало советам Чернышевского относительно умеренности при определении выкупных платежей. Статистика показывает, что в среднем платежи, лежащие на крестьянских землях, значительно превышают их доходность. Она показывает также, что платежами обременены главным образом земли бывших помещичьих крестьян. Отсюда ясно, что если при освобождении крестьян наше правительство ни на минуту не позабыло выгод государственного казначейства, то об интересах крестьян оно думало очень мало. При выкупной операции имелись в виду исключительно только фискальные и помещичьи интересы. И это совершенно понятно, так как никому нет ни нужды, ни охоты думать об интересах того сословия (в данном случае крестьянского), которое само не может энергично и систематически отстаивать их. Но в ту пору, когда еще только шли толки о крестьянском освобождении, самые передовые люди России думали несколько иначе. Им казалось, что само правительство без большого труда могло бы понять, до какой степени его собственные выгоды совпадают с интересами крестьянства. Подобные надежды довольно долго питал, между прочим, Герцен. Питал их и Чернышевский. Отсюда происходила и та настойчивость, с которою он возвращался в своих статьях к крестьянскому вопросу, и то усердие, с которым он выяснял правительству его собственные интересы. Но Чернышевский был первым, по времени, русским писателем, понявшим некрасивую и лицемерную роль русского правительства в деле крестьянского освобождения. Уже в 1858 году появилась его статья «Критика философских предубеждении против общинного землевладения» с многозначительным эпиграфом из Фауста: «wie weh', wie, weh', wie wehe!». Обыкновенно эта прекрасная статья рассматривается как самая энергическая и самая удачная защита общинного землевладения, но мы взглянем на нее со стороны самого принципа освобождения крестьян с землею. Статья эта показывает, что уже в 1858 г. Чернышевский потерял всякую надежду на удовлетворительное решение правительством крестьянского поземельного вопроса. «Я стыжусь самого себя, – говорит он в начале этой статьи. – Мне совестно вспоминать о безвременной самоуверенности, с которою я поднял вопрос об общем землевладении. Этим делом я стал безрассуден, скажу прямо, стал глуп в своих собственных глазах… Трудно объяснить причину моего стыда, но постараюсь сделать это, как могу. Как ни важен представляется мне вопрос о сохранении общинного землевладения, но он все-таки составляет только одну сторону дела, к которому принадлежит. Как высокая гарантия благосостояния людей, до которых относится, этот принцип получает – смысл только тогда, когда уже даны другие, низшие гарантии благосостояния, нужные для доставления его действию простора. Такими гарантиями должны считаться два условия. Во-первых, принадлежность ренты тем самым лицам, которые участвуют в общинном владении. Но этого еще мало. Надобно также заметить, что рента только тогда серьезно заслуживает своего имени, когда лицо, ее получающее, не обременено кредитными обязательствами, вытекающими из самого ее получения… Когда человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких обязательств, то, по крайней мере, предполагается, что уплата по этим обязательствам не очень велика по сравнению с рентою… Только при соблюдении этого второго условия люди, интересующиеся его благосостоянием, могут желать ему получения ренты». Но это условие не могло быть соблюдено в деле освобождаемых крестьян, поэтому Чернышевский и считал бесполезным защищать не только общинное землевладение, но и самое наделение крестьян землею. У кого оставалось бы какое-нибудь сомнение на этот счет, того совершенно убедит следующий пример, приводимый нашим автором. «Предположим, – говорит он, обращаясь к своему любимому способу объяснения посредством „парабол“, – предположим, что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед. Само собою разумеется, что если я это делал собственно из расположения к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит вам и что приготовляемый из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам, и что за каждый обед, приготовленный из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях?.. Как я был глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки, и достанется на выгодных условиях?.. Лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку! Лучше пропадай все дело, которое приносит вам только разорение!» [43]43
См. пятый том женевского издания Сочинений Н. Г. Чернышевского, стр. 472–478.
[Закрыть].






