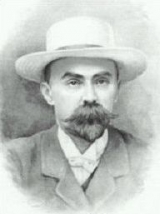
Текст книги "Н. Г. Чернышевский. Книга первая"
Автор книги: Георгий Плеханов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
Эта мысль Чернышевского тоже справедлива, хотя она и страдает некоторою отвлеченностью. История действительно не знает таких художественных произведений, которые выражали бы исключительно идею прекрасного. Этим, – кстати сказать, – опровергается также и та мысль, что Пушкинский период нашей литературы характеризуется стремлением поэзии к одной только совершенной форме. Но дело не в этом. Задача научной эстетики не ограничивается констатированием того факта, что искусство всегда выражает нетолько «идею» прекрасного, но также и другие стремления человека (к правде, любви и т. д.). Ее задача состоит, главным образом, в обнаружении того, каким образом эти другие стремления человека находят свое выражение в его понятии о прекрасном; и каким образом они, сами видоизменяясь в процессе общественного развития, видоизменяют также «идею» прекрасного. Так, например, свойственная средним векам идея прекрасного, – воплощавшаяся, скажем, в образе Мадонны, – сама сложилась под влиянием тех идеалов, которые господствовали в духовенстве, как известно, игравшем огромную роль в тогдашнем обществе. В эпоху Возрождения «идея» прекрасного, воплощаемая в том же образе, приобретает совершенно другой характер, потому что она выражает тогда стремления новых общественных слоев, имеющих совершенно другие идеалы. Это теперь общеизвестно. И Чернышевский, несомненно, принимал во внимание этот факт, когда в своей диссертации, определял прекрасное, как «жизнь». Он писал: «прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям» [309]309
Сочинения, т. X, ч. 2, стр. 89.
[Закрыть]. Но если это верно, – а это совершенно верно, – то как же происходит дело? Так ли, что искусство, с одной стороны, воплощает нашу идею прекрасного, а с другой, – и даже, как это утверждает Чернышевский, главным образом, – выражает наши стремления к правде, к доброму, к улучшению своего быта и т. д.? Нет, чаще всего бывает наоборот. Наше понятие о прекрасном само проникается этими стремлениями и само выражает их. Поэтому и не следует разлагать на отдельные элементы то, что в действительности представляет собою нечто органически целое. А Чернышевский, в силу свойственной всем «просветителям» рассудочности, иногда разлагает это органическое целое на его отдельные составные элементы [310]310
17-й тезис его «Эстетических отношений искусства к действительности» гласит: «Воспроизведение жизни – общий характеристический признак искусства составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение – объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни» (Сочинения, т. X, ч. 2, отд. I, стр. 164). Но весь вопрос заключается в том, как выражается этот приговор и в каком виде дается это объяснение: в виде художественных образов или же в виде отвлеченных положений? Как бы ни были правильны те или другие отвлеченные положения, они не относятся к области искусства. В нашей литературе это хорошо выяснил Белинский.
[Закрыть]. Поступая так, он делает теоретическую ошибку. И эта его теоретическая ошибка, действительно, могла придать и иногда придавала его критике односторонний вид. Если произведение искусства рядом с идеей прекрасного, – и, стало быть, независимо от нее, – выражает также известные нравственные или практические стремления, то критик имеет право сосредоточить свое главное внимание именно на этих стремлениях, оставляя в стороне вопрос о том, в какой мере они получили в разбираемом произведении свое художественное выражение. Когда критика поступает так, она по необходимости принимает морализирующий характер. Таким грехом она много грешила у нас в лице Д. И. Писарева, да и не его одного. По иронии судьбы в том же грехе не раз жестоко провинился сам г. Скабичевский. Впрочем, это обыкновенно случается с критикой в «просветительные» периоды, характеризующиеся преобладанием рассудочности. В ее оправдание надо сказать, что в такие периоды рассудочность свойственна не только критикам, но даже и художникам [311]311
Давид говорил о себе: je n'aime ni je ne sens le merveilleux: je ne puis marcher а l'aise qu'avec le secours d'un fait réel (Delecluze, L. David, son école et son temps. Paris 1895, p. 338. Ср. сборник «За двадцать лет», стр. 145 и следующ.). Это чрезвычайно характерно для французского «просветителя» XVIII века, каким был Давид.
[Закрыть].
Что в отзывах Чернышевского о произведениях искусства иногда бывало слишком много рассудочности, этого нельзя оспаривать. И когда мы читаем его похвалы Платоновым обличениям искусства, мы видим пред собою "просветителя" одной эпохи, естественно склонного сочувствовать тому отношению к искусству, которыми отличаются представители всех других "просветительных" эпох [312]312
Что в своих суждениях об искусстве ученик Сократа, Платон, показал себя типичным «просветителем», – это вряд ли нуждается в доказательствах.
[Закрыть]. В сущности отзыв Чернышевского о современном Платону греческом искусстве был не совсем справедлив. Хотя греческое искусство IV века уже не выражает собою мужественного гражданского идеала, вдохновлявшего Поликлета и Фидия, однако все-таки Чернышевский слишком преувеличивал, говоря, что тогдашние художники не давали ничего, кроме более или менее сладострастных картин, стихов и статуй.
Мы не можем согласиться с Чернышевским и тогда, когда он отвергает ту, усвоенную Шиллером, идею Канта, что искусство есть игра. Для Чернышевского понятие «игры» покрывается понятием пустой зачины. Но это совсем не так. На самом деле, игра становится пустой забавой только при известных условиях. «Играет» не только человек, «играет» также и животное. Еще Спенсер справедливо говорил, что, например, игра хищных животных состоит из притворной охоты и притворной драки. Это значит, что у животных содержание игры определяется той деятельностью, с помощью которой поддерживается их существование. То же мы видим и у детей. По справедливому замечанию того же Спенсера, детские игры суть не более, как театральные представления разного рода деятельности взрослых. Это особенно хорошо видно на играх маленьких дикарей. Словом, игра есть дитя труда, как прекрасно выразился В. Вундт в своей «Этике» [313]313
Ср. нашу статью «Еще об искусстве у первобытных народов» в сборнике «Критика наших критиков», стр. 380–399.
[Закрыть]. И именно потому, что она есть дитя труда, она далеко не всегда является пустою забавою. Она становится ею только у тех общественных классов или слоев, которые живут без всякого труда и которые поэтому даже в своей «деятельности» являются бездельными. Однако даже и в таких случаях игра есть в некотором роде побочное «дитя труда», потому что только при наличности известных отношений производства возможно существование в обществе класса или слоя, предающегося безделию.
Если, – как это говорит Чернышевский, – существенным признаком искусства является воспроизведение жизни, то искусство безусловно должно быть признано родственным игре, которая тоже воспроизводит жизнь не только у человека, но и у животного. Воспроизведение жизни в игре или в искусстве имеет большое социологическое значение. Воспроизводя свою жизнь в созданиях искусства, люди воспитывают себя для своей общественной жизни, приспособляют себя к ней. Различные общественные классы имеют неодинаковые потребности, они живут неодинаковою жизнью; поэтому неодинаковы и их эстетические вкусы. Классы, предающиеся безделью, выражают пустоту своей жизни и в своих произведениях искусства. Их искусство есть в самом деле не более как пустая забава; но оно является пустою забавою не потому, что оно есть совершенно подобное игре воспроизведение жизни, а только потому, что оно воспроизводит пустую жизнь. Дело не в «игре», а в том, каково содержание игры.
Взгляд на искусство, как на игру, дополняемый взглядом на игру, как на «дитя труда», проливает чрезвычайно яркий свет на сущность и историю искусства. Он впервые позволяет взглянуть на них с материалистической точки зрения. Мы знаем, что, при самом начале своей литературной деятельности, Чернышевский сделал очень удачную, по-своему, попытку применить материалистическую философию Фейербаха к эстетике. Этой его попытке нами посвящена особая работа [314]314
См. статью «Эстетическая теория Чернышевского» в сборнике «За двадцать лет».
[Закрыть]. Поэтому здесь мы только скажем, что хотя и очень удалась, по-своему, эта попытка, на ней. точно так же, как и на исторических взглядах Чернышевского, отразился основной недостаток философии Фейербаха: неразработанность ее исторической или, точнее сказать, диалектической стороны. И только потому, что не разработана была эта сторона в усвоенной им философии, Чернышевский мог не обратить внимания на то, как важно понятие игры для материалистического объяснения искусства.
Но зато в эстетике Чернышевского, – опять, как и в его исторических взглядах, – мы находим много зачатков совершенно правильного понимания предмета. Вот, например, посмотрите, как удачно выясняет он зависимость понятия о красоте от условий жизни различных общественных классов. Приводим целиком относящееся сюда и в полном смысле слова замечательное место его диссертации:
"Хорошая жизнь, жизнь, как она должна быть, у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина понятие "жизнь" всегда заключается в понятии о работе: жить без работы нельзя; да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве, при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку – первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна, – это также необходимое условие красавицы сельской; светская "полувоздушная красавица" кажется поселянину решительно "невзрачной", даже производит на него неприятное впечатление; потому что он привык считать "худобу" следствием болезненности или "горькой доли". Но работа не дает разжиреть; если сельская девушка толста, это род болезненности, знак "рыхлого" сложения, и народ считает большую полноту недостатком; у сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает – об этих принадлежностях красоты и не упоминается в наших песнях. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной нешуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно другое дело светская красавица; уже несколько поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни, крови льется в оконечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки; они – признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества, жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не старинной, хорошей фамилии. По этому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, интересная болезнь – и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к мозгу; нервная система и без того уже раздражительна от всеобщего ослабления в организме; неизбежное следствие всего этого – продолжительные головные боли и разного рода нервические расстройства; что делать, и болезнь интересна, чуть не завидна, когда она следствие того образа жизни, который нам нравится. Здоровье, правда, никогда не может потерять своей цены в глазах человека, потому что и s довольстве, и в роскоши плохо жить без здоровья; вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскошно-бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного общества, у которых материальной нужды и физической усталости не бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут "сильных ощущений, волнений страстей", которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очаровываться томностью, бледностью красавицы, если они служат признаком, что она "много жила"?" [315]315
Сочинения, т. X, ч. 2, отд. I, стр. 89–90.
[Закрыть].
Понятия людей о красоте выражаются в произведениях искусства. Понятия о ней различных общественных классов, как мы видели, очень различны, иногда даже противоположны. Тот класс, который господствует в данное время в обществе, господствует также в литературе и в искусстве. Он вносит в них свои взгляды и понятия. Но в развивающемся обществе в разное время господствуют разные классы. Притом же всякий данный класс имеет свою историю: он развивается, доходит до процветания и господства и, наконец, клонится к упадку. Сообразно с этим изменяются и его литературные взгляды, и его эстетические понятия. Поэтому в истории мы встречаемся с различными эстетическими понятиями людей: понятия и взгляды, господствовавшие в одну эпоху, оказываются устаревшими в другую. Чернышевский подметил, что эстетические понятия людей определяются в последней инстанции их экономическим бытом. Это свидетельствует об огромной проницательности его взгляда. Чтобы поставить свою эстетическую теорию на прочную материалистическую основу, ему нужно было подробнее изучить подмеченную им причинную связь эстетики с экономикой и проследить эту связь, по крайней мере, через главнейшие фазы исторического развития человечества. Этим он сделал бы величайший переворот в истории эстетики. Но, во-первых, метод, которого он держался в своих исследованиях, был недостаточно разработан для такого теоретического предприятия. А во-вторых, он как "просветитель" интересовался не столько самой теорией, сколько некоторыми ее выводами, имеющими непосредственное отношение к житейской практике. Поэтому он, бросив чрезвычайно проницательный взгляд на вопрос об отношении сознания к бытию в области эстетики, тотчас же отворачивается от этого теоретического вопроса и спешит дать своему читателю разумный практический совет. Он говорит:
"Мила живая свежесть цвета,
Знак юных дней;
Но бледный цвет, тоски примета,
Еще милей.
«Но если увлечение бледною, болезненною красотою признак искусственной испорченности вкуса, то всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь – жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах; потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек кажется нам прекрасен только потому, что у него прекрасные выразительные глаза!» [316]316
Там же, стр. 90.
[Закрыть].
Это опять верно. Но в этом верном замечании речь идет уже не столько об эстетике, какой она бывает в зависимости от экономического положения различных классов, сколько об эстетике, какой она должна быть у «образованных людей». Забота о том, что должно быть, преобладает в диссертации Чернышевского над теоретическим интересом к тому, отчего иногда бывает совершенно иначе. Вот чем объясняется тот, по-видимому, странный факт, что в диссертации этого материалиста встречается меньше истинно материалистических замечаний об истории искусства, чем, например, в «Эстетике» абсолютного идеалиста Гегеля [317]317
См. замечания Гегеля об истории голландской живописи, с которыми почти безусловно может согласиться любой из современных материалистов-диалектиков («Ästhetik», 1-er Band, S. 217, 218; В. II, S. 217–223). Подобных замечаний много рассеяно в его «Эстетике».
[Закрыть].
Но вернемся к статье о "Пиитике" Аристотеля: она составляет как бы дополнение к исследованию об "эстетических отношениях искусства к действительности". По мнению Чернышевского, Аристотель уступает Платону в возвышенности требований, предъявляемых им к искусству; его понятия о значении музыки, поэзии не так поучительны, как Платоновы, и даже, – как мы это объясняли мимоходом выше, говоря об отношениях Чернышевского к Гегелевой диалектике, – иногда страдают мелочностью. Наш автор не соглашается с Аристотелем, когда тот объясняет происхождение искусства стремлением человека к подражанию. Однако ему очень нравится взгляд Аристотеля на отношение философии к поэзии. Он говорит: "Поэзия, изображающая человеческую жизнь с общей точки зрения, представляющая не случайные и ничтожные мелочи ее, а то, что есть в жизни существенного и характеристического, чрезвычайно много имеет, как думает Аристотель, философского достоинства. Она в этом отношении даже гораздо выше, по его мнению, нежели история, которая без разбора должна описывать и важное, и неважное, и существенное, характеристическое, и случайные, не имеющие никакого внутреннего значения факты; поэзия гораздо выше истории также и потому, что представляет все во внутренней связи, между тем как история без всякой внутренней связи, по хронологическому порядку рассказывает разнородные факты, не имеющие между собою ничего общего" [318]318
Сочинения, т. I, стр. 36–37.
[Закрыть].
Как известно, этот взгляд Аристотеля нравился также и Лессингу и по той же причине: он давал теоретическую возможность предъявить к поэзии столь дорогое обоим "просветителям" требование "объяснения жизни" или, – чтобы выразиться с полною точностью, – произнесения над нею "приговора". Конечно, на самом деле, взгляд Аристотеля мог быть объяснен в том чисто теоретическом смысле, какой придал ему Гегель в своей "Эстетике" и какой мы чаще всего встречаем в касающихся этого предмета рассуждениях Белинского. Но Чернышевский, подобна Лессингу, истолковывает его в дорогом для "просветителей" практическом направлении [319]319
Нелишним будет, пожалуй, напомнить следующую оговорку Чернышевского насчет истории: «Но мнение Аристотеля об истории требует объяснения: оно приложимо только к тому виду истории, который был известен в его время – это была не собственно история, а летопись» (Сочинения, т. I, стр. 37).
[Закрыть].
В качестве "просветителя", озабоченного главным образом практическими выводами и потому не очень расположенного ко всестороннему рассмотрению теоретической основы таких выводов, Чернышевский далеко не всегда отдает историческую справедливость отвергаемым им эстетическим теориям.
Чернышевский, подобно Лессингу, не любил "теоретиков псевдоклассической школы" по причинам, которые сами по себе совершенно понятны, – и, что касается Лессинга, хорошо разъяснены Ф. Мерингом в его известной книге "Lessings-Legende", – но рассмотрение которых завело бы нас здесь слишком далеко. Он приписывает этим теоретикам подчас такие грехи, в каких они, говоря по правде, совсем не повинны, в чем он и сам мог бы легко убедиться при несколько большем внимании к исторической стороне, занимавших его эстетических вопросов. Вот яркий пример. У Платона и Аристотеля изящные искусства называются подражательными. По этому поводу Чернышевский считает нужным оттенить, что то «подражание», о котором говорят эти философы, имеет очень мало общего с тем «подражанием природе», в котором псевдоклассическая школа видела сущность искусства. "Неужели Платон и особенно Аристотель, учитель всех Ватте, Буало и Горациев, – говорит он, – поставляют сущность искусства не в подражании природе, как привыкли все мы дополнять фразу, говоря о теории подражания? Действительно, и Платон, и Аристотель считают истинным содержанием искусства, в особенности поэзии, вовсе не природу, а человеческую жизнь. Им принадлежит великая честь думать о главном содержании искусства именно то самое, что после них высказал уже только Лессинг, и чего не могли понять все их последователи. У Аристотеля в «Пиитике» нет ни слова о природе: он говорит о людях, их действиях, событиях с людьми, как о предметах, которым подражает поэзия. Дополнение: «природе» могло быть принято в пиитиках только тогда, когда процветала вялая и фальшивая описательная поэзия и неразлучная с нею дидактическая поэзия – роды, изгоняемые Аристотелем из поэзии. Подражание природе чуждо истинному поэту, главный предмет которого – человек. «Природа» выступает на первый план только в пейзажной живописи, и фраза "подражание природе" послышалась в первый раз из уст живописца" [320]320
Сочинения, т. I, стр. 38–39.
[Закрыть]. Далее Чернышевский поясняет, со слов Плиния, при каких обстоятельствах произнесена была эта фраза: когда Лизипп спросил живописца Эвпомпа, кому из великих художников надо подражать, тот ответил, что подражать надо не художникам, а самой природе. Из этих слов наш автор справедливо заключает, что образцом для художника должна служить живая действительность вообще, а не природа, в узком смысле этого слова. Но дело в том, что слова: «подражание природе» понимались в том же смысле и «теоретиками псевдоклассической школы». В доказательство мы сошлемся на Буало, которого Чернышевский называет в числе писателей, будто бы забывавших о человеке. В третьей песне своего «Art poétique» Буало дает следующий совет авторам:
Que la nature donc soit votre étude unique,
Auteurs, qui prétendez aux honneurs du comique.
Quiconque voit bien l'homme, et, d'un esprit profond,
De tant de coeurs cachés a pénétré le fond;
Qui sait bien ce que c'est qu'un prodigue, un avare,
Un honnкte homme, un fat, un jaloux, un bizarre,
Sur une scиne heureuse il peut les étaler,
Et les faire а nos yeux vivre, agir et parler.
Présentez en partout les images naives;
Que chacun y soit peint des couleurs les plus vive
La nature, féconde en bizarres portraits,
Dans chaque вme est marquée а de différents traits,
Un geste la découvre, un rien la fait paraïtre.
Mais tout esprit n'a pas des yeux pour les connaïtre.
Здесь как нельзя более ясно, что под «природой» Буало понимает именно человека. Не менее ясно это и в следующем отрывке:
Aux dépens du bon sens gardez de plaisanter.
Jamais de la nature il ne faut s'écarter.
Contemplez de quel air un pиre dans Térence
Vient d'un fils amoureux gourmandes l'imprudence;
De quel air cet amant écoute ses leèons,
Et court chez sa maitresse oublier ses chansons.
Ce n'est pas un portrait, une image semblable,
C'est un amant, un fils, un pиre véritable.
Когда Буало говорил, что ни в каком случае не следует уклоняться от природы, его слова имели, очевидно, тот смысл, что человеческая природа должна быть изображена с возможно большею верностью. Буало ставит в пример Теренция; но Теренций достоин подражания, по его мнению, именно, как художник, мастерски воспроизводивший природу человека: отца, сына, любовника и т. д. Да и не мог XVII век предпочитать изображение природы изображению человеческой жизни. Он слишком интересовался этой последней. Она сосредоточивала на себе почти все его внимание, и даже пейзажная живопись этого столетия отодвигает природу на задний план. Внимание пейзажиста обращается во Франции от человека к природе только уже в конце двадцатых годов XIX столетия; да и этот поворот означает собственно не то, что художники начали интересоваться природой больше, нежели человеком, а то, что их стали теперь интересовать другие, прежде мало интересные для них, стороны душевной жизни человека [321]321
См. статьи, посвященные французскому пейзажу в сборнике «Histoire du paysage en France». Paris 1908; там же лекции Л.Розенталя: «Le paysage au temps du romantisme» и статью ШарляСонье: «Jean-Franзois Millet». Сp. также Фромантена: «Les maïtres d'autrefois. Belgique-Hollande», 8-e édit., Paris 1896, стр. 271 и след.
[Закрыть]. Но, повторяем, для Чернышевского, как для «просветителя», не имели особенного значения эти исторические подробности. Ему важен был тот, имевший в его глазах огромное практическое значение, вывод, что «называть искусство воспроизведением действительности (заменяя современным термином неудачно передающее смысл греческого mimesis слово „подражание“) было бы вернее, нежели думать, что искусство осуществляет в своих произведениях нашу идею совершенной красоты, которой будто бы нет в действительности» [322]322
Сочинения, т. I, стр. 39.
[Закрыть]. Развивая эту свою мысль, Чернышевский утверждает, что напрасно думают, будто бы, признав своим верховным началом воспроизведение человеческой жизни, искусство тем самым вынуждено было бы делать грубые и пошлые снимки с действительности и отказаться от всякой идеализации. Чернышевский признает идеализацию, но он дает свое определение этому понятию. Идеализация, состоящая в так называемом облагорожении изображаемых предметов и характеров, равносильна чопорности, надутости и фальши: «единственная необходимая идеализация должна состоять в исключении из поэтического произведения ненужных для полноты картины подробностей, каковы бы ни были эти подробности». И это, разумеется, безусловно справедливо.
Не касаясь, – как уже разобранных нами в другом месте, – других эстетических взглядов, высказанных Чернышевским по поводу "Пиитики" Аристотеля и повторенных им в своей диссертации, мы остановимся еще только на одном. Чернышевский отмечает, что Аристотель ставил трагиков выше Гомера и находил, что поэмы этого последнего много уступают трагедиям Софокла и Эврипида в смысле художественной формы. Наш автор вполне согласен с этим взглядом греческого философа и, со своей стороны, считает нужным дополнить его только одним замечанием: он находит, что трагедии Софокла и Эврипида несравненно художественнее поэм Гомера не только по форме, но также и по содержанию. И он спрашивает, не пора ли и нам последовать примеру Аристотеля и взглянуть без ложного подобострастия на Шекспира. Лессингу, находит он, было естественно ставить великого английского драматурга выше всех поэтов, когда-либо существовавших на земле; но теперь, когда уже нет надобности восставать против слишком усердного подражания французским псевдоклассическим писателям и когда у нас есть Лессинг, Гете, Шиллер, Байрон, вполне позволительно критическое отношение к Шекспиру. "Ведь Гете признает же "Гамлета" нуждающимся в переделке? И, может быть, Шиллер не выказал неразборчивости вкуса, переделав наравне с Шекспировым "Макбетом" и Расинову "Федру". Мы беспристрастны к давно прошедшему: зачем же так долго медлить признавать и недавно прошедшее веком высшего, нежели прежнее, развития поэзии? Разве ее развитие не идет рядом с развитием образованности и жизни?" [323]323
Там же, стр. 43.
[Закрыть]
Само собою разумеется, что можно и должно относиться с критикою к Шекспиру, как можно и должно относиться с нею, например, к Гете и Толстому или Гегелю и Спинозе. Но можно ли поставить Лессинга и Шиллера или Байрона выше Шекспира, это другой вопрос. Мы не имеем возможности разбирать его здесь, но мы все-таки позволим себе сказать, что как драматург Шекспир значительно выше названных Чернышевским писателей. Беспристрастие, конечно, необходимо во всех литературных суждениях; однако оно еще не обязывает нас к признанию той мысли, что успехи поэзии всегда идут рядом с успехами жизни и образованности. Нет, далеко не всегда. Как художники Корнель и Расин несравненно выше Вольтера, а между тем французская образованность и французская жизнь XVIII века далеко опередили образованность и жизнь Франции предыдущего столетия. Или, – чтобы взять пример, который показался бы более убедительным Чернышевскому, как решительному противнику французской псевдоклассической школы, – разве не очевидно, что в эпоху того же Шекспира английский театр стоял несравненно выше, нежели в XVIII веке? А ведь английская образованность и жизнь очень далеко подвинулись вперед в промежуток, отделяющий одну от другой эти две эпохи. "Просветители" всех стран очень склонны были думать, что успехам просвещения ("образованности") всегда прямо пропорциональны были успехи всех других сторон умственной и общественной жизни народов. Это не так. В действительности, историческое движение человечества представляет собою такой процесс, в котором успехи одной из сторон не только не предполагают пропорциональных успехов всех других его сторон, но иногда прямо обусловливают собою отсталость или даже упадок некоторых из них. Так, например, колоссальное развитие западноевропейской экономической жизни, определив собою взаимное отношение между классом производителей и классом присвоителей общественного богатства, привело во второй половине XIX столетия к духовному упадку буржуазии и всех тех искусств и наук, в которых выражаются нравственные понятия и общественные стремления этого класса. Во Франции конца XVIII столетия буржуазия выступила еще как класс, исполненный умственной и нравственной энергии; но это обстоятельство не помешало поэзии, созданной ею в то время, пойти назад сравнительно с тем, чем она была прежде, когда менее развита была общественная жизнь. Поэзия вообще плохо уживается с рассудочностью, а рассудочность очень нередко является необходимым следствием и верным показателем образованности. Но Чернышевскому, как типичному "просветителю", были совершенно чужды соображения этого рода.






