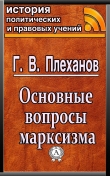Текст книги "Н. Г. Чернышевский. Книга первая"
Автор книги: Георгий Плеханов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
III
Материализм Чернышевского заметен гораздо более в его «антропологических», чем в его исторических, воззрениях. Смотря на человека как на невольный продукт окружающей его среды, Чернышевский относится с величайшей гуманностью даже к таким некрасивым проявлениям испорченной человеческой природы, в которых идеалисты видят лишь «злую волю», заслуживающую строгой кары. «Все зависит от общественных привычек, – рассуждает он, – и от обстоятельств, т. е. в окончательном результате все зависит исключительно от обстоятельств, потому что и общественные привычки произошли, в свою очередь, также из обстоятельств. Вы вините человека, – всмотритесь прежде, он ли в том виноват, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки Общества, – всмотритесь хорошенько, быть может, тут вовсе не вина его, а только беда его». «Охранители» хотели видеть в подобных словах Чернышевского защиту нравственной распущенности, но, разумеется, только доказали этим свое собственное непонимание дела.
Недостаточная выработанность материалистических взглядов Чернышевского сказалась уже в некоторых особенностях его учения о нравственности. Для него, как и для Гельвеция, даже наиболее самоотверженные поступки представляют только особый вид разумного эгоизма. По его словам, "надобно бывает только всмотреться попристальнее в поступок или чувство, представляющиеся бескорыстными, и мы увидим, что в основе их все-таки лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом". Иногда рассуждения Чернышевского по этому поводу принимают несколько странный характер. "Лукреция закололась, когда ее осквернил Секст Тарквиний: она поступила очень расчетливо". Следуют доказательства верности сделанного Лукрецией расчета. "Коллатин мог сказать жене: я считаю тебя чистой и люблю тебя по-прежнему; но при тогдашних понятиях, слишком мало изменившихся до сих пор, он не в силах был оправдать своих слов делом: волею или неволею, но он уже потерял очень значительную часть прежнего уважения, прежней любви к жене; он мог прикрывать эту потерю преднамеренным увеличением нежности в обращении с нею; но такого рода нежность обиднее холодности, горче побоев и ругательств" и т. д. Но весьма сомнительно, чтобы Лукреция перед своим самоубийством могла предаваться таким основательным расчетам. Для них нужно хладнокровие, а хладнокровной она быть не могла. Не вернее ли предположить, что в ее поступке рассудок играл гораздо меньшую роль, чем чувство, сложившееся под влиянием тогдашних общественных привычек и отношений. Человеческие чувства и привычки так приспособляются обыкновенно к существующим общественным отношениям, что совершаемые под их влиянием поступки могут показаться подчас плодом самых основательных расчетов, между тем как в действительности вовсе не были вызваны расчетливостью. Вообще во взглядах Чернышевского на разумный эгоизм заметно свойственное всем "просветительным периодам" (Aufklärungsperiode) стремление искать в рассудке опоры для нравственности и в более или менее основательной расчетливости отдельного лица объяснения его характера и поступков. Но уже в вышеприведенных словах Чернышевского заключается опровержение подобных крайностей рассудочности. Поступки отдельного лица представляют собою результат общественных привычек, общественные же привычки складываются не под влиянием расчетов рассудка, а в силу исторического развития общества. При правильной постановке вопроса он должен быть поставлен именно в эти пределы: что такое нравственность отдельного среднего человека? Результат его расчетливости или бессознательный плод общественных отношений? Наконец, следует еще спросить, в силу каких влияний общества на отдельную личность может развиться и развивается в ней интерес к общему благу? Такие вопросы имеют большое общественное значение. Спорить же о том, как назвать подобный интерес к общественному благу, – альтруизмом или благородным эгоизмом, – мы не видим надобности.
Сообразно с преувеличенным значением, придаваемым Чернышевским человеческой расчетливости, он и исторические события объясняет иногда сознательным расчетом пользы там, где для объяснения их нужно обращаться к несознанным людьми силам экономического развития. С первого взгляда подобные объяснения Чернышевского могут навести на мысль о том, что он в своих исторических теориях совершенно стал на точку зрения новейшего материализма. Но при внимательном отношении к делу оказывается совершенно противное. Кто видит в исторической деятельности людей лишь влияние сознательного расчета, тот еще далек от понимания всей силы и всего значения экономии. В действительности ее влияние распространяется даже на такие поступки людей и на такие привычки различных общественных классов по поводу которых нельзя и заикаться о сознательном расчете. Мы уже видели, что главнейшие, наиболее влиятельные факторы экономического развития до сих пор стоят вне всякого влияния сознательного расчета. Мы видели также, что все общественные отношения все нравственные привычки и все умственные склонности людей складываются под посредственным или непосредственным действием этих слепых сил экономического развития. Ими определяются, между прочим и все виды человеческой расчетливости, все проявления человеческого эгоизма. Следовательно, нельзя говорить о сознательном расчете пользы, как о первичном двигателе общественного развития Подобный взгляд на историю противоречит учению новейшего материализма подобный исторический материализм еще очень наивен.
Впрочем, исторические взгляды Чернышевского еще не сведены в систему и часто противоречат один другому. Без большого труда можно выбрать из его сочинений и сопоставить такие взгляды на историю, которые покажутся принадлежащими совершенно различным писателям. И подобных противоречий нельзя объяснить предположением о постепенном изменении образа мыслей нашего автора. Он приступил к литературной деятельности в такую пору своего умственного развития, когда взгляды его, в главнейших чертах, уже окончательно сложились. Поэтому встречающиеся нам противоречия и непоследовательность его исторических взглядов приходится отнести на счет неясности и шаткости общей точки зрения его на историю человечества.
Вот несколько примеров в подтверждение сказанного. В своих "Очерках политической экономии" Н. Г. Чернышевский, объяснив законы существующего в современных передовых странах "трехчленного распределения продуктов" и делая из своих объяснений краткий заключительный вывод, высказывает следующий чрезвычайно замечательный взгляд на внутренние пружины новейшей истории Европы: "Мы видели, что интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе. Против сословия, которому выделяется рента, средний класс и простой народ всегда были союзниками. Мы видели, что интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы. Как только одерживают в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и сословие работников, история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народом"[17]17
Курсив наш. «Очерки политической экономии» (по Миллю), Сочинения Н. Г. Чернышевского, т. IV, стр. 205.
[Закрыть]. Под этими строками охотно подписался бы любой из современных материалистов-диалектиков. Тем более охотно, что приведенный взгляд Чернышевского на причину борьбы «среднего сословия» с «народом» в другом месте его «Очерков» поясняется еще указаниями на гибель мелкой промышленности и мелкой поземельной культуры и на неотвратимое торжество крупных капиталистических предприятий как в промышленности, так и в земледелии. Точно так же любой из современных материалистов-диалектиков, с некоторыми только оговорками, признал бы справедливость следующего взгляда Чернышевского на историю политической и философской мысли. «Политические теории, да и всякие вообще философские учения, создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали их основатели, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ. Мы не будем говорить о мыслителях, занимавшихся специально политической стороной жизни. Их принадлежность к политическим партиям слишком заметна для каждого: Гоббс был абсолютист, Локк был виг, Мильтон – республиканец, Монтескье – либерал в английском вкусе, Руссо – революционный демократ, Бентам – просто демократ, революционный или нереволюционный, смотря по надобности; о таких писателях нечего и говорить. Обратимся к тем мыслителям, которые занимались построением теорий более общих, к строителям метафизических систем, к собственно так называемым философам. Кант принадлежал к той партии, которая хотела водворить в Германии свободу революционным путем, но гнушалась террористическими средствами. Фихте пошел несколькими шагами далее: он не боится и террористических средств. Шеллинг – представитель партии, запуганной революцией, искавшей спокойствия в средневековых учреждениях, желавшей восстановить феодальное государство, разрушенное в Германии Наполеоном I и прусскими патриотами, оратором которых был Фихте. Гегель – умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выводах, но принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы, в надежде не допустить доразвития революционный дух, служащий ему орудием к ниспровержению слишком ветхой старины. Мы говорим не то одно, чтобы эти люди держались таких убеждений, как частные люди, – это было бы еще не очень важно, но их философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы системы» [18]18
«Антропологический принцип в философии», стр.2, 3.
[Закрыть]. Оставляя в стороне частности взглядов на того или другого мыслителя, можно сказать вообще, что в приведенных словах обнаруживается очень глубокое понимание тех общественных условий, под влиянием которых совершается развитие философской и политической мысли. Современный материалист-диалектик прибавил бы к ним только то, что и сама политическая борьба, определявшая собою направление человеческой мысли, велась не во имя каких-нибудь отвлеченных соображений, а под непосредственным влиянием нужд и стремлений тех классов или тех слоев общества, к которым принадлежали борющиеся партии. Против этого едва ли стал бы спорить Чернышевский. В его взглядах на историю экономической науки довольно ясно высказывается сознание зависимости понятий людей от окружающей их социальной обстановки. В своей рецензии на книгу Рошера «Начало народного хозяйства» наш автор указывает на тот «психологический закон», в силу которого «почти у каждого – простого ли человека, оратора ли, писателя, в разговорах ли, в речах ли, в книгах ли, все равно – оказывается теоретически хорошим, несомненным, вечным все то, что практически выгодно для группы людей, представителем которой он служит. Этим психологическим законом надо объяснить и тот факт, что политико-экономам школы Адама Смита казались очень хороши, достойны вечного господства те формы экономического быта, которые господствовали или стремились к господству в конце прошлого и в начале нынешнего века. Писатели этой школы были представителями биржевого или коммерческого сословия в обширном значении этого слова: банкиров, оптовых торговцев и вообще промышленных людей. Нынешние формы экономического устройства выгодны для коммерческого сословия, выгоднее для него всяких иных форм; потому школа, бывшая представительницей его, и находила, что формы эти самые лучшие по теории… Начали думать о вопросах политической экономии люди, бывшие представителями не того сословия, которому как раз пригодны нынешние экономические формы, а представители массы, и явилась в науке другая школа, которую называют, неизвестно на каком основании, партией утопистов» [19]19
«Современник», 1861 г., апрель, Новые книги, стр. 431–432.
[Закрыть]. Здесь сознание того влиянии, которое имеет борьба классов на развитие науки, высказывается с поразительной ясностью. Но очень ошибся бы тот, кто заключил бы отсюда, что сознание это никогда не покидало Чернышевского. Между простым пониманием или признанием известного принципа и последовательным проведением его через всю систему взглядов – целая бездна. Прекрасно понимая значение борьбы классов в человеческих обществах, Чернышевский все-таки держался такого взгляда на «прогресс», который гораздо ближе к учению Бокля, чем к учению новейших материалистов. Чтобы дать о нем понятие, мы сделаем довольно большую выписку из чрезвычайно интересной статьи его «О причинах падения Рима», написанной по поводу выхода русского перевода «Истории цивилизации в Европе» Гизо. В этой статье Чернышевский энергически восстает против того очень распространенного мнения, по которому Западная Римская Империя погибла вследствие своей внутренней неспособности к дальнейшему развитию, между тем как варвары принесли с собою новые семена прогресса. Мы не хотим пока рассматривать, прав ли наш автор в своих нападках на это мнение. Для нас теперь важен единственно только взгляд его на ход прогресса. Вот этот взгляд. «Да подумайте только, что такое значит прогресс и что такое значит варвар? – восклицает наш автор. – Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний… Развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики совершенствуются всякие фабрикации, мастерства и т. д… Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего. Наконец, всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и чем больше людей выучивается читать, получает привычку и охоту читать книги… тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни было – значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране. Стало быть, основная сила прогресса – наука; успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний. Вот что такое прогресс: – результат знания. Что же такое варвар? Человек, еще погрязший в глубочайшем невежестве; человек, который занимает средину между диким зверем и человеком сколько-нибудь развитого ума… Какая польза для общественной жизни, если учреждения, дурные или хорошие, но все-таки человеческие, все-таки имеющие в себе хоть что-нибудь, хоть несколько разумное, – заменяются животными обычаями?»
Мы видим, что здесь и речи нет ни о внутренних социальных отношениях Рима, причинивших его слабость и указанных тем же Гизо в первой статье его "Essais sur l'histoire de France", ни о тех формах общежития, которыми обусловливалась сила германских варваров в эпоху завоевания Западной Империи. Чернышевский забыл даже знаменитое изречение: latifundia perdidere Italiana (латифундии погубили Италию). В его формуле прогресса (как стали выражаться у нас впоследствии) нет самостоятельного места для внутренних отношений той или иной "прогрессирующей" страны. Все дело сводится к количеству и распространению знаний, и ему даже в голову не приходит здесь спросить себя, не зависит ли история знаний от истории социальных отношений цивилизованных стран. "Говорят, обществу стеснительны были укоренившиеся формы, – рассуждает он далее, – значит в обществе была прогрессивная сила, была надобность в прогрессе". Но ведь иное дело надобность в прогрессе, иное дело – присутствие в обществе "прогрессивной силы", способной удовлетворить этой надобности. Нельзя смешивать этих двух понятий, совершенно различных по своему характеру и содержанию: одно из них есть чисто отрицательное ("надобность в прогрессе" указывает лишь на стеснительность существующих форм), другое – положительное, так как присутствие в обществе прогрессивной силы, способной совершить необходимую переделку форм общежития, предполагает известную степень умственного, нравственного и политического развития того класса, или тех классов, на которых формы эти обрушиваются своими невыгодными сторонами. Если бы эти понятия были тождественны, то дело человеческого прогресса упрощалось бы до крайности, и мы не встречали бы в истории печального зрелища обществ, падающих под тяжестью таких форм общежития, которые, при всей несомненной своей вредоносности, не могли быть устранены, потому что не было в народе живых сил, способных совершить это дело. Само собою разумеется, что мы не говорим здесь о формах, вредных решительно для всех классов данного общества. Подобные формы устраняются, можно сказать, сами собою. Но чаще всего особенно вредными для дальнейших успехов общества оказываются иные формы, невыгодные для большинства и очень выгодные для привилегированного меньшинства. Устранить подобные формы можно только в том случае, если страдающее большинство обладает хоть некоторою способностью к политической самодеятельности. А оно не всегда обладает этою способностью. Способность эта вовсе не есть необходимое свойство угнетенного большинства. Она сама создается экономией данного общества. Казалось бы, не было ничего выгоднее для римских пролетариев, как поддержать законопроекты Гракхов. Но они не поддержали и не могли поддержать их, потому что социальная обстановка, в какую ставило их экономическое развитие Рима, не только не содействовала их политическому развитию, но, напротив, постоянно понижала его уровень. Что же касается высших классов, то, во-первых, смешно было бы ожидать от них политических действий, враждебных их экономическим интересам, а, во-вторых, и сами они развращались все более и более под влиянием другой стороны того самого хода экономического развития, который, создавая римский пролетариат, превращал его в кровожадную и тупую чернь. В конце концов, дело пришло к тому, что римляне, эти всемирные завоеватели, оказались неспособными к военной службе, и легионы пополнялись теми самыми варварами, которые и положили, наконец, предел существованию заживо разложившейся империи. Таким образом в падении Рима, вопреки объяснениям Чернышевского, нет ничего случайного, так как оно представляло собою естественный конец давно уже начавшегося историко-экономического движения.
Мы вовсе не хотим утверждать, подобно многим, в особенности немецким писателям, что германцы принесли с собою какой-то особенный дух и особенные склонности, обеспечившие за ними первое место в дальнейшей истории человечества. Мы говорим только, что слабость Рима в борьбе с варварами была причинена и подготовлена ходом его экономического развития, уничтожившего класс мелких землевладельцев, которые некогда составляли его силу. Мелкие крестьянские участки слились в огромные латифундии, населенные толпами рабов. Но рабы – плохая опора для государства: свезенные со всех концов мира, разноплеменные и разноязычные, они не составляли народа в собственном смысле слова. Они были и оставались сбродом (если только можно назвать так массу людей, сошедшихся не по доброй воле) и, разумеется, вовсе не думали об интересах римского государства. Чернышевский замечает, правда, что рабство постепенно смягчалось в Римской Империи, а под конец стало заменяться колонатом. Но, во-первых, распоряжения императоров относительно колоната означали не более, как стремление государства обеспечить за собою часть прибавочного продукта, создаваемого подневольным трудом земледельца. Облегчить его положение переход к колонату решительно не мог в то время, когда все слои римского общества были буквально раздавлены государственными податями и поборами [20]20
См. упомянутую первую статью Гизо в его "Essais sur l'histoire de France; см. также «Untersuchungen auf dem Gebiete der National-Oekonomie des klassischen Alterthums» Родбeртуса.
[Закрыть]. Во-вторых, само собою ясно, что колоны и адскриптиции не могли заменить собою свободных земледельцев. Наконец, даже в численном отношении рабы и колоны, по крайней мере в деревнях, уступали населению старой Италии свободных земледельцев. Еще Тит Ливий удивлялся, каким образом некоторые округи Италии, в которых в его время встречались только немногие пастухи с их стадами, могли, во время своей независимости, выставлять многочисленные и храбрые армии для борьбы с Римом. Дело объясняется просто: во время своей независимости округи эти жили при совершенно иных экономических отношениях, которым и были обязаны своим многочисленным, сильным и бодрым населением. Тогда в них еще крепки были родовые учреждения, обеспечивавшие благосостояние всех членов общины и сообщавшие им независимый и воинственный дух. Такие же учреждения существовали и у германцев, и именно им обязаны были варварские орды своею силою и крепостью. Выражаясь короче, можно сказать, что под конец существования Римской Империи в ней господствовали такие экономические отношения, которые доводили до минимума силу ее сопротивления. Наоборот, тогдашние учреждения германцев доводили их силу нападения до максимума. Вот и все: дело в экономии, а не в духе и не в каких-нибудь таинственных свойствах расы.
Если бы при объяснении исторической судьбы различных стран мы вынуждены были ограничиваться одними отвлеченными соображениями об их "прогрессе" и о количестве накопленных в них знаний, то мы никогда не могли бы понять, например, истории Греции, где наиболее образованные, "прогрессивные" страны одна за другою сходят со сцены, уступая место все менее и менее образованным и "прогрессивным". Чем объяснить такое явление? Ходом развития экономических и, главным образом, поземельных отношений в Греции. В наиболее "прогрессивных" странах развитие это раньше привело к скоплению поземельной собственности в немногих руках, к страшному увеличению численности рабов, к обессилению и деморализации низшего класса свободных граждан. Прямо пропорционально этому явлению уменьшалась и государственная сила "прогрессивных" греческих стран. В менее "прогрессивных" странах процесс этот начался позже и совершался медленнее, поэтому и государственная сила их падала медленнее, даже возрастала в известных периодах этого процесса (как бывало и в более "прогрессивных" странах); поэтому они и могли играть выдающуюся роль, когда более "прогрессивные" страны уже окончательно ослабели под гибельным влиянием безысходной в то время (а не в наше, когда у нее есть выход) борьбы классов. Но и менее «прогрессивные» страны, в конце концов, слабели, благодаря тому же указанному процессу; одна за другой они допевали свою песенку и также сходили со сцены, пока, наконец, железная рука Рима не положила предела самостоятельному существованию Греции. Когда пришли римляне, то греческих стран, за небольшими исключениями, буквально некому было защищать. Это обстоятельство отмечено было еще Полибием и Плутархом.
В исторических взглядах нашего автора случайности отводится вообще очень широкое место. Даже современный нам экономический строй, характер, законы и тенденции которого он довольно хорошо выясняет вслед за школой Смита – Рикардо, представляется ему продуктом исторических случайностей. «По истории оказалось, – говорит он, в цитированной уже рецензии на книгу Рошера, – что нынешние экономические формы возникли под влиянием отношений, противоречащих требованиям экономической науки, несовместимых ни с успехами труда, ни с расчетливостью потребления, – словом сказать, представляют собою результат причин, враждебных и труду, и благосостоянию. Например, в Западной Европе экономический быт основался на завоевании, на конфискации и монополии» [21]21
«Современник», апрель, 1861, Новые книги, стр. 434.
[Закрыть]. Никто не скажет, что завоевания, конфискации и монополии не имели места в истории Западной Европы. Но ведь они имели место и в древней Греции, и в Индии, и в Китае, и, однако, экономический строй этих стран очень существенно отличался или отличается от экономического строя современной Европы. Чем создалось это различие? Не тем ли, что все эти завоевания, конфискации и «монополии», далекие от того, чтобы определить собою направление экономического развития, сами, напротив того, определялись им в своих формах и дальнейших социальных следствиях? Направление и ход экономического развития древней Греции, или Индии, или Китая, не похож был на направление и ход экономического развития средневековой и новой Европы, – поэтому и завоевания со всеми их последствиями привели там к другим порядкам, чем в Западной Европе. Ввиду решающего значения, приписываемого Чернышевским завоеванию в деле создания экономического строя современной Европы, нам невольно припоминаются слова Энгельса: «Даже в том случае, если мы исключим всякую возможность грабежа, насилия и обмана, если мы допустим, что всякая частная собственность первоначально основывалась на личном труде ее обладателя и затем, во все дальнейшее время, только равные стоимости обменивались на равные, то, тем не менее, с дальнейшим развитием производства и обмена, мы необходимо придем к современному капиталистическому способу производства, к монополизированию средств производства и существования в руках одного малочисленного класса, к пригнетению другого, составляющего огромнейшее большинство, класса до положения лишенных всякой собственности пролетариев, к периодической смене производственной горячки и торговых кризисов и ко всей современной анархии в производстве» [22]22
«Развитие научного социализма», приложение, стр. 58.
[Закрыть]. Так смотрят на это дело современные материалисты-диалектики. Но Чернышевский смотрел еще совершенно иначе.
Относя различные существовавшие в истории формы экономического быта на счет завоевания и считая их противоречащими "требованиям экономической науки", наш автор естественно не мог придавать большой цены их изучению. Знакомый с так называемым историческим методом в экономической науке лишь по трудам таких его представигелей, как Вильгельм Рошер и прочие Citatenprofessoren, он относился к нему очень пренебрежительно и считал его плодом реакции против освободительных стремлений рабочего класса. "Против средневековых учреждений, несогласных с выгодами коммерческого сословия, ратовали… во имя разума; а тут вот как на грех явились люди, начавшие говорить: по разуму действительно следует быть тому, чего желаете вы, только сверх того требуется по разуму еще многое другое; вы произносите только начало формулы, а конец ее вот каков; словом сказать, перед лицом мыслителей непоследовательных явились мыслители последовательные… Что тут делать?.. Если разум говорит против тебя, хватайся за историю, она выручит". Сообразно с таким происхождением исторического метода теоретическая задача передовых представителей рабочего класса сводилась, в борьбе их против "непоследовательных мыслителей", лишь к тому, чтобы обнаружить возникновение современного экономического строя из "завоевания, конфискаций и монополий". Социалисты и делают это, по мнению Чернышевского. В их руках "история изобличает то, на защиту чего была приглашена" [23]23
«Современник», апрель, 1861, Новые книги, стр. 432-433-434.
[Закрыть]. Но еще раньше выступления Чернышевского на путь литературной деятельности, еще в эпоху его предшественников, т. е. Белинского и его кружка, лучшие теоретические представители рабочего класса пользовались историей не для одних только полемических ссылок на завоевания и конфискации. Маркс и Энгельс поставили изучение экономической истории человечества на твердую научную почву, показавши ее внутреннюю необходимость и строгую законосообразность [24]24
Опираясь на историю, Рошер и его единомышленники являются принципиальными противниками революционного способа действий. В их понятиях эволюция совершенно исключает революцию. Это взгляд столь же ошибочный, как и взгляд некоторых революционеров, восстающих против эволюции. Обе эти крайности совершенно исключают правильное понимание истории. Вооруженные диалектическим методом, новейшие социалисты иначе смотрят на дело. Для них эволюция есть такой же необходимый момент в процессе исторического развития человечества, как и революция. Эволюция подготовляет революцию, революция облегчает дальнейшее течение эволюции. Принятый в особенности германскими учеными «исторический метод» совершенно произвольно ограничивает поле зрения науки одним из этих моментов, эволюцией, и потому должен быть признан антинаучным. Об его «ученых» представителях и теперь еще можно с полным правом сказать то, что говорил о них Маркс в 1844 году: они оправдывают низости, совершаемые сегодня, низостями вчерашнего дня; объявляют мятежом всякий протест крепостного против кнута, если только это кнут исторический; история показывает им, как израильский бог Моисею, только «заднюю» свою; при всяком куске, вырезываемом из народного сердца, эти верноподданные Шейлоки ссылаются на исторический вексель и проч. Все это справедливо как нельзя более. Однако революционер Маркс, в таких сильных и метких выражениях разоблачивший сервилизм официальных представителей «исторического метода», не только не игнорировал исторической эволюции, но первый показал ее действующие пружины и ее строгую законосообразность.
[Закрыть]. Но по всему видно, что Чернышевский незнаком был с этим направлением, выросшим из теорий его учителя Фейербаха, как теории Фейербаха выросли из системы Гегеля.
Отрицая исторический метод, наш автор пользовался в своих экономических исследованиях другим методом, который он называл гипотетическим. Мы характеризуем его собственными словами Чернышевского. «Этот метод состоит в том, – говорит он в своих замечаниях на первую книгу Политической Экономии Милля, – что, когда нам нужно определить характер известного элемента, мы должны на время отлагать в сторону запутанные задачи и приискивать такие задачи, в которых интересующий нас элемент обнаруживал бы свой характер самым несомненным образом, приискивать задачи самого простейшего свойства. Тогда, узнав характер занимающего нас элемента, мы можем уже удобно распознать ту роль, какую играет он и в запутанной задаче, отложенной нами на время. Например, вместо многосложной задачи: были ли войны с Францией в конце прошлого и начале нынешнего века полезны для Англии, берется простейший вопрос: может ли война быть полезна не для какой-нибудь шайки, а для многочисленной нации? Теперь, как же решить этот вопрос? Дело идет о выгоде, то есть о количестве благосостояния или богатств, об уменьшении или об увеличении его, то есть о величинах, которые измеряются цифрами. Откуда же возьмем мы цифры? Никакой исторический факт не дает нам этих цифр в том виде, какой нам нужен, то есть в простейшем виде, так, чтобы они зависели единственно от определяемого нами элемента, от войны… Итак, из области исторических событий мы должны перенестись в область отвлеченного мышления, которое вместо статистических данных, представляемых историею, действует над отвлеченными цифрами, значение которых условно и которые назначаются просто по удобству. Например, оно (отвлеченное мышление) поступает так. Предположим, что общество имеет 5.000 человек населения, в том числе 1.000 взрослых мужчин, трудом которых содержится все общество. Предположим, что 200 из них пошли на войну. Спрашивается, каково экономическое отношение этой войны к обществу? Увеличила или уменьшила она благосостояние общества? Лишь только мы произвели такое простейшее построение вопроса, решение становится столь просто и бесспорно, что может быть очень легко отыскано каждым и не может быть опровергнуто никем и ничем… По термину „предположение“, „гипотеза“, самый метод называется гипотетическим» [25]25
Опираясь на историю, Рошер и его единомышленники являются принципиальными противниками революционного способа действий. В их понятиях эволюция совершенно исключает революцию. Это взгляд столь же ошибочный, как и взгляд некоторых революционеров, восстающих против эволюции. Обе эти крайности совершенно исключают правильное понимание истории. Вооруженные диалектическим методом, новейшие социалисты иначе смотрят на дело. Для них эволюция есть такой же необходимый момент в процессе исторического развития человечества, как и революция. Эволюция подготовляет революцию, революция облегчает дальнейшее течение эволюции. Принятый в особенности германскими учеными «исторический метод» совершенно произвольно ограничивает поле зрения науки одним из этих моментов, эволюцией, и потому должен быть признан антинаучным. Об его «ученых» представителях и теперь еще можно с полным правом сказать то, что говорил о них Маркс в 1844 году: они оправдывают низости, совершаемые сегодня, низостями вчерашнего дня; объявляют мятежом всякий протест крепостного против кнута, если только это кнут исторический; история показывает им, как израильский бог Моисею, только «заднюю» свою; при всяком куске, вырезываемом из народного сердца, эти верноподданные Шейлоки ссылаются на исторический вексель и проч. Все это справедливо как нельзя более. Однако революционер Маркс, в таких сильных и метких выражениях разоблачивший сервилизм официальных представителей «исторического метода», не только не игнорировал исторической эволюции, но первый показал ее действующие пружины и ее строгую законосообразность.
[Закрыть].
Такого метода Чернышевский держится во всех своих экономических исследованиях, которые принимают, благодаря этому, совершенно особенный, до крайности отвлеченный характер. Известно, что главное экономическое сочинение нашего автора представляет собою частью перевод, частью изложение политической экономии Милля, сопровождаемое очень обширными замечаниями и самостоятельными дополнениями. Читая это сочинение, интересно следить за тем, как принятый автором метод исследования постоянно увлекает его из области действительных, существующих экономических отношений в область отвлеченного мышления. В том, что касается существующих отношений, Чернышевский редко оспаривает Милля. Он большею частью довольствуется его анализом, который, как известно, оставляет желать очень многого по своей неясности и непоследовательности. Он не расходится с Миллем даже в таких существенных вопросах, как вопросы о стоимости, о цене, о деньгах, о законе рабочей платы и т. п. Милль совершенно прав в том, что касается существующего, говорит обыкновенно Чернышевский, но посмотрим, так ли должно быть, того ли требует здравая экономическая теория? "Предположим" и т. д. – следует обыкновенно блестящая критика существующих отношений, критика, опирающаяся, однако, исключительно только на совершенно отвлеченные соображения и предположения. Недостатки метода кидаются, таким образом, в глаза, и его, конечно, не одобрит ни один из современных научных противников капитализма, так как противники эти опираются теперь не на требования отвлеченной "теории", а на те внутренние противоречия существующего ныне строя, которые в своем дальнейшем развитии необходимо должны повести к его устранению.