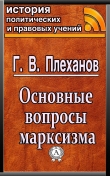Текст книги "Н. Г. Чернышевский. Книга первая"
Автор книги: Георгий Плеханов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
XII
Содержания «Что делать?» мы излагать не будем. Кто не читал и не перечитывал этого знаменитого произведения? Кто не увлекался им, кто не становился под его благотворным влиянием чище, лучше, бодрее и смелее? Кого не поражала нравственная чистота главных действующих лиц? Кто после чтения этого романа не задумывался над собственною жизнью, не подвергал строгой проверке своих собственных стремлений и наклонностей? Все мы черпали из него и нравственную силу, и веру в лучшее будущее.
И доверенность великую
К бескорыстному труду…
Наши обскуранты не раз указывали на отсутствие в романе художественных достоинств, на его очевидную тенденциозность. С внешней стороны упреки эти справедливы: роман действительно очень тенденциозен, художественных достоинств в нем очень мало. Но пусть укажут нам хоть одно из самых замечательных, истинно художественных произведений русской литературы, которое по своему влиянию на нравственное и умственное развитие страны могло бы поспорить с романом «Что делать?»! Никто не укажет такого произведения, потому что его не было, нет и, наверное, не будет. С тех пор как завелись типографские станки в России и вплоть до нашего времени, ни одно печатное произведение не имело в России такого успеха, как «Что делать?». Извольте после этого указывать на тенденциозность автора, извольте повторять, что он не художник! Читающая публика очень основательно заметит вам, что ей до этого нет дела, что всякая беллетристика хороша, кроме скучной, – роман же Чернышевского вызывал в ней восторг, а не скуку; этого с нее совершенно достаточно. Наконец, господа обскуранты, ведь вы также не чуждаетесь тенденциозности в своих беллетристических произведениях. Вы также не прочь написать тенденциозный роман или повесть. Вся беда в том, что ваших тенденциозных произведений никто не читает, что ими никто не увлекается. Как вы думаете, откуда происходит это различие? Не показывает ли оно, что тенденция тенденции рознь и что бывают такие тенденции, которые нисколько не мешают успеху окрашенных ими произведений?
В чем заключалась тайна колоссального, неслыханного успеха "Что делать?"? Именно в характере его тенденции, в полной своевременности распространения у нас высказанных автором мыслей. Сами по себе мысли эти были не новы, Чернышевский целиком взял их из западноевропейской литературы. Проповедью свободных и, главное, искренних, честных отношений в любви мужчины к женщине гораздо раньше его занималась Жорж Занд во Франции [65]65
Заметим кстати, что «Wahlverwandtschaften» Гете и некоторые из его драм также представляют собою слово в защиту свободной любви. Это хорошо понимают многие немецкие историки немецкой литературы, которые, не дерзая хулить такого авторитетного писателя и в то же время не смея согласиться с ним по своему филистерскому благонравию, лепечут обыкновенно нечто совершенно непонятное на счет странных будто бы парадоксов великого немца.
[Закрыть]. Лукреция Флориани по нравственным требованиям, предъявляемым ею к любви, ничем не отличается от Веры Павловны. Идеи Жорж Занд еще в сороковых годах встречали у нас самое горячее сочувствие. Белинский был страстным поклонником этой писательницы. В своих статьях он не раз проводил ее взгляды на свободу и искренность в любовных отношениях. Известно, как упрекал он пушкинскую Татьяну в том, что, любя Онегина, но в то же время будучи «другому отдана», она не последовала влечению своего сердца и продолжала жить с нелюбимым стариком-мужем. Лучшие из «людей сороковых годов» в своих отношениях к женщине держались тех же принципов, каким следовали Лопухов и Кирсанов. Но до появления романа «Что делать?» эти принципы разделялись только небольшой кучкой «избранных», масса читающей публики совсем не понимала их. Даже Герцен не решился высказать их во всей полноте и ясности в своем романе «Кто виноват?». С выходом «Что делать?» – вопрос был поставлен до последней степени ясно и резко. Никакие сомнения не могли более иметь места. Мыслящим людям оставалось: или руководствоваться в любви принципами Лопухова и Кирсанова, или, склоняясь пред святостью брака, прибегать, в случае появления у них нового чувства, к старому испытанному средству тайных амурных похождений, или, наконец, совершенно подавлять в себе всякое любовное чувство, ввиду принадлежности своей другому, уже нелюбимому человеку. И выбор приходилось делать совершенно сознательно. Чернышевский так разъяснил этот вопрос, что естественная прежде необдуманность и непосредственность любовных отношений сделались совершенно невозможными. На любовь распространился контроль сознания, сознательный взгляд на отношения мужчины к женщине сделался достоянием широкой публики. И это было особенно важно у нас в эпоху шестидесятых годов. Пережитые Россией реформы перевернули вверх дном не только ее общественные, но и семейные отношения. Лучи света проникли в такие закоулки, которые до того времени оставались совершенно темными. Русские люди вынуждены были оглянуться на себя, посмотреть трезвыми глазами на свои отношения к ближним, к обществу и семье. В семейных отношениях, в любви и дружбе стал играть большую роль новый элемент – убеждения, которые имелись прежде лишь у самой маленькой кучки «идеалистов». Различие в убеждениях служило поводом к неожиданным разрывам. Женщина, «отданная» известному человеку, нередко с ужасом открывала, что ее законный «обладатель» есть обскурант, взяточник, низкопоклонный льстец перед начальством. Мужчина, с наслаждением «обладавший» прежде красавицей женою и неожиданно для него самого затронутый потоком новых идей, часто с отчаянием видел, что его прелестная игрушка интересуется вовсе не «новыми людьми» и не «новыми взглядами», а новыми нарядами да танцами, да еще чинами и жалованьем мужа. Все объяснения и увещания оказываются напрасными, красавица превращается в настоящую мегеру, как только муж попробует заикнуться, что он «служить бы рад», но что «прислуживаться тошно». Как быть? Что делать? Знаменитый роман показывал, как быть и что делать. Под его влиянием люди, считавшие себя прежде законной собственностью других, начинали повторять вместе с его автором: о грязь, о грязь, кто смеет обладать человеком! – и в них просыпалось сознание человеческого достоинства, и они, часто после жесточайших душевных и семейных бурь, становились на собственные ноги, устраивали свою жизнь сообразно со своими убеждениями и сознательно шли к разумной человеческой цели. Уже ввиду одного этого можно сказать, что имя Чернышевского принадлежит истории, и будет оно мило людям, и будут вспоминать его с благодарностью, когда уже не будет в живых никого из лично знавших великого русского просветителя.
Обскуранты обвиняли Чернышевского в том, что он проповедовал будто бы в своем романе «эмансипацию плоти». Нет ничего нелепее и лицемернее этого обвинения! Возьмите любой роман из великосветской жизни, припомните любовные похождения дворянства и буржуазии во всех странах и у всех народов, – и вы увидите, что Чернышевскому не было никакой надобности проповедовать давно уже совершившуюся эмансипацию плоти. Его роман проповедует, наоборот, эмансипацию человеческого духа, человеческого разума. Никто из людей, проникнувшихся направлением этого романа, не будет иметь склонности к будуарным похождениям, без которых жизнь не в жизнь «светским» людям, проникнутым лицемерным уважением к ходячей морали. Гг. обскуранты прекрасно понимают строго нравственный характер произведения Чернышевского и сердятся на него именно за его нравственную строгость. Они чувствуют, что люди, подобные героям «Что делать?», должны считать их величайшими развратниками и испытывать к ним глубочайшее презрение.
Некоторые замечают также, что хорошо было Лопухову и Вере Павловне проявлять свои возвышенные чувства, когда у них не было детей: будь у них дети, им пришлось бы идти по избитой дороге в своих любовных отношениях. Чернышевский и сам говорит, что если бы у Веры Павловны были дети, то она, может быть, поступила бы иначе. Он прекрасно понимал, что вопрос об отношениях мужчины к женщине тесно связан с вопросом о семье, без которой люди не могут жить в существующем теперь обществе. Он знал, что для того, чтобы любовь была вполне свободна, нужно перестроить все семейные, а следовательно, и все общественные отношения. Но он не остановился перед этой мыслью, потому что иное дело те любовные отношения, в которые люди будут вступать впоследствии, иное дело та человечность и разумность, которые уже в настоящее время возможны в браке между развитыми людьми. Если бы потомство Веры Павловны и Лопухова умножилось, как песок морской, то и тогда они остались бы разумными и гуманными, а следовательно, и не отравляли бы друг другу жизни за невольные, не зависевшие от их воли уклонения чувства. Чернышевский, может быть, даже нарочно изобразил в своем романе простейший случай: возникновение нового чувства у замужней бездетной женщины. Уяснив на этом случае взаимные обязанности порядочных людей, он затем мог уже ожидать, что понявшие его читатели сами решат, как должны вести себя в подобных случаях имеющие детей брачные пары: под влиянием различных частных соображений они могут поступать различно; но раз они поняли взгляд Чернышевского, они никогда уже не поведут себя подобно людям старого закала.
XIII
Мы знаем, – распространение в России великих идей правды, науки, искусства составляло главную, можно сказать, единственную цель в жизни нашего автора. В интересах такого распространения написал он и роман «Что делать?» Ошибочно было бы рассматривать этот роман исключительно только как проповедь разумных отношений в любви. Любовь Веры Павловны к Лопухову и Кирсанову – это только канва, по которой располагаются другие, более важные мысли автора. Мы уже говорили об ассоциациях, заведенных Верой Павловной. Заставляя ее браться за эту деятельность, автор хотел указать своим последователям на практические задачи социалистов в России. В снах Веры Павловны яркими красками рисуются социалистические идеалы автора. Картина социалистического общежития нарисована им целиком по Фурье. Чернышевский не предлагает читателям ничего нового. Он только знакомит их с теми выводами, к которым давно уже пришла западноевропейская мысль. Здесь опять приходится заметить, что взгляды Фурье уже в сороковых годах известны были в России. За фурьеризм судились и были осуждены «Петрашевцы». Но Чернышевский придал идеям Фурье небывалое до тех пор у нас распространение. Он ознакомил с ними широкую публику. Впоследствии у нас даже поклонники Чернышевского пожимали плечами, говоря о снах Веры Павловны. Снившиеся ей фаланстеры казались потом некоторым довольно наивной мечтой. Говорили, что знаменитый писатель мог бы побеседовать с читателем о чем-нибудь более к нам близком и более практичном. Так рассуждали даже люди, называвшие себя социалистами. Признаемся, мы совсем не так смотрим на это дело. В снах Веры Павловны мы видим такую черту социалистических взглядов Чернышевского, на которую, к сожалению, не обращали до сих пор достаточного внимания русские социалисты. В этих снах нас привлекает вполне усвоенное Чернышевским сознание того, что социалистический строй может основываться только на широком применении к производству технических сил, развитых буржуазным периодом. В снах Веры Павловны огромные армии труда занимаются производством сообща, переходя из Средней Азии в Россию, из стран жаркого климата в холодные страны. Все это, конечно, можно было узнать и из Фурье, но что этого не знала русская читающая публика, видно даже из последующей истории так называемого русского социализма. В своих представлениях о социалистическом обществе наши революционеры нередко доходили до того, что воображали его в виде федерации крестьянских общин, обрабатывающих свои поля тою же допотопною сохою, с помощью которой они ковыряли землю еще при Василии Темном. Но само собою разумеется, что такой «социализм» вовсе не может быть признан социализмом. Освобождение труда может совершиться только в силу освобождения человека от «власти земли» и вообще природы. А для этого последнего освобождения безусловно необходимы те армии труда и то широкое применение к производству современных производительных сил, о которых говорил в снах Веры Павловны Чернышевский и о которых мы, в своем стремлении к «практичности», совершенно позабыли.
Что социалистические взгляды Чернышевского не были поняты очень многими из его читателей, – видно из прекрасной в литературном отношении статьи Д. И. Писарева: «Мыслящий пролетариат», представляющей собою разбор «Что делать?» – Писарев в восторге от Веры Павловны, Лопухова и Кирсанова. Для него они являются истинными представителями «базаровского типа», поставленными в наиболее подходящую для них обстановку [66]66
Впрочем, сам Чернышевский едва ли смотрел на своих героев, как на представителей «базаровского типа». «Современник» видел в Базарове карикатуру на «молодое поколение» (См. известную статью М. А. Антоновича: «Асмодей нашего времени» в мартовской книжке «Современника» 1862 г.).
[Закрыть]. Это – новые люди в полном смысле слова. Но как представляет он себе характер и деятельность новых людей? Он схватывается прежде всего за то, что все они занимаются естественными науками. Естественные науки были, как известно, для Писарева альфой и омегой знания. Занимайся одной из этих настоящих наук, трудись, устрой разумно свои отношения к жене и друзьям – и ты тем самым станешь «мыслящим пролетарием», будешь работать на пользу других, пока еще не мыслящих пролетариев, будешь вполне «солидарен» с ними. О том, что у «мыслящего» пролетария могут быть иные, более широкие, задачи по отношению к остальным пролетариям – в статье нет ни слова. Конечно, хорошо завести, подобно Вере Павловне, ту или другую ассоциацию, но главное не в этом, а в разумном устройстве личной жизни и в занятии естественными науками. Рахметова Писарев даже вовсе не понимает. Он, пожалуй, и не прочь и похвалить Рахметова (нельзя не похвалить его, его хвалит сам Чернышевский), но, не понимая этого типа, он невольно обнаруживает свою антипатию к нему. Настоящими, идеальными «новыми людьми» для Писарева все-таки остаются Вера Павловна, Лопухов и Кирсанов. Между тем, по мнению Чернышевского, Рахметов так же относится к Лопухову и его ближайшим друзьям, как огромный дворец относится к обыкновенному дому. Рахметов и выведен для того, чтобы показать относительную заурядность людей, подобных Лопухову. Лопухов – человек личных отношений. Он очень сочувствует социализму, но занимается общественными делами лишь мимоходом, лишь когда случится. Рахметов посвящает общественному делу все свое время и все свои помышления. Он совсем не знает личных печалей и радостей. Он даже решился никогда не сходиться с женщиной. Поэтому он совершенно застрахован от историй, подобных той, в которой обрисовался характер Лопухова и Кирсанова. Это – человек идеи. Только на служении идее имогут обнаружиться богатые силы этого железного характера. В личных отношениях он тяжел, если хотите – просто невыносим, как это без церемонии говорит ему Вера Павловна. Да он и сам сознает это и нимало не огорчается подобным сознанием. Большому кораблю – большое плавание.
Чернышевский присутствовал при зарождении у нас нового типа "новых людей" – революционера. Он радостно приветствовал появление этого типа ине мог отказать себе в удовольствии нарисовать хотя бынеясный его профиль. Вместе с тем он с грустью предвидел, как много мук и страданий придется пережить русскому революционеру, жизнькоторого должна быть жизнью суровой борьбы и тяжелого самоотвержения. Ивот Чернышевский выставляет перед нами в Рахметове настоящегоаскета. Рахметов положительно мучает себя. Он совсем "безжалостный до себя", по выражению егоквартирной хозяйки. Он решается даже попробовать, сможет ли вынестипытку, и сэтой целью лежит всю ночь навойлоке, утыканном гвоздями. Многие, и в том числе Писарев, видели в этом простое чудачество. Мы согласны, что некоторые частности в характере Рахметова могли быть изображены иначе. Но вся совокупность его характера все-таки остается вполне верной действительности. В каждом из выдающихся русских революционеров была огромная доля рахметовщины.
Теперь революционер из "интеллигентной" среды почти совершенно сыграл свою роль. В нем уже нет оригинальности, он повторяется, мельчает. На смену ему должны придти, – и, конечно, придут, – революционеры из рабочей среды, эти истинные "дети народа". Но он имел свою, полную славы, историю, и потому нельзя не подивиться чуткости Чернышевского, который сумел так хорошо подметить и так верно изобразить по крайней мере главнейшие черты только что нарождавшегося тогда типа.
XIV
Сенат постановил лишить Чернышевского прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на 14 лет, а затем поселить в Сибири навсегда. В окончательном приговоре срок каторжной работы был сокращен до 7 лет. 13 июня 1864 года на Мыстинской Площади на Песках происходило чтение приговора над великим русским социалистом. Бледный, исхудалый, измученный, он был выставлен к «позорному» столбу и стоял молча, отвернувшись спиной к чиновнику, читавшему приговор. Над осужденным проделан был обряд преломления шпаги, и затем руки его были продеты палачом в кольца, прикованные к эшафотному столбу. В эту минуту на эшафот упал букет, и в толпе, переполнявшей Мыстинскую Площадь, раздались крики сочувствия к осужденному… Чернышевского отправили в Сибирь.
Известный Муравьев-Вешатель хотел было притянуть его к Каракозовскому делу, но Александр II почему-то воспротивился этому, и Чернышевский остался в Сибири. Там он пробыл 20 лет, при чем, по настоянию шефа жандармов, графа Шувалова, его миновали все законы смягчения. По окончании 7-летней каторжной работы он был поселен в Вилюйске, Якутской области, где единственными его собеседниками могли быть только сторожившие его казаки и жандармы. В этом новом заключении в отдаленном и до крайности нездоровом сибирском захолустье Чернышевский прожил до самого 1883 года, когда ему позволили переехать на житье в Астрахань. Нужно удивляться, как вынес всю массу обрушившихся на него преследований этот физически бессильный, слабогрудый человек
Мы не станем говорить здесь о довольно многочисленных попытках освобождения Чернышевского, так как они достаточно известны публике.
Тотчас по возвращении из Сибири Чернышевский снова деятельно принялся за литературную работу. Он прилежно переводил "Всемирную историю" Вебера и написал несколько статей для периодических изданий. Замечательно, что одной из последних статей, написанных нашим автором до ссылки, были "Материалы для биографии Н. А. Добролюбова", и одной из первых больших статей, написанных им по возвращении из ссылки, было продолжение тех же "Материалов". Очевидно, что воспоминание о безвременно умершем, даровитом и любимом товарище никогда не покидало Чернышевского.
О статьях, написанных им после ссылки, мы поговорим во второй статье. Теперь скажем только, что хотя по языку и манере легко было узнать в этих статьях Чернышевского, но в них уже нет прежнего блеска и прежней глубины его мысли. Его статья о Дарвине положительно слаба, слаба до крайности, до того, что производит самое тяжелое впечатление. Читая ее, чувствуешь, что имеешь дело с писателем, уже окончательно разбитым и надломленным. Небольшая доля свободы, предоставленная ему перед смертью, не могла уже воскресить прежнего Чернышевского. Прежний Чернышевский был убит приговором Сената, и никогда русское правительство не совершило большего преступления по отношению к умственному развитию России. Вот почему, заканчивая эту первую статью, мы с величайшим сочувствием повторим слова Герцена, написанные им, как только ему стал известен; приговор по делу Чернышевского: "Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую подкупную журналистику, которая накликала это гонение, раздула его из личностей. Она приучила правительство к убийствам военнопленных в Польше, а в России – к утверждению сентенций диких невежд Сената и седых злодеев Государственного Совета… А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами!".
Г. В. ПЛЕХАНОВ.
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКIЙ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
1910.
Предисловие
Предлагаемая работа состоит из двух частей: первая – только теперь появляется в печати; первый отдел второй части тоже написан заново, второй же ее отдел («Политико-экономические взгляды Чернышевского») представляет собой перепечатку моих статей о Чернышевском, появившихся вскоре после смерти нашего великого писателя, в одном трехмесячном обозрении [67]67
Книжки которого появлялись, однако, не периодически и с немалым они зданием по обстоятельствам, от редакции поистине не зависевшим.
[Закрыть], а потом вышедших, с некоторыми необходимыми для немецкой публики дополнениями, в немецком переводе у известного издателя Дитца в Штутгарте.
Я печатаю теперь этот второй отдел второй части почти без всяких изменений. Только кое-где сделаны мною «примечания» к настоящему изданию. Я не считал себя вправе подвергать этот отдел переработке, да, по правде сказать, и не видел в этом нужды. О праве на переработку я говорю потому, что отдел en question является своего рода историческим документом: он характеризует собой взгляды некоторого, – правда, очень малочисленного тогда, – слоя нашей интеллигенции в самом начале 90-х годов прошлого века. Слой этот, решительно разорвавший со всеми преданиями утопического социализма, считал своею обязанностью распространять учение Маркса, с точки зрения которого он и смотрел на русскую действительность. Это казалось тогда страшной и непростительной ересью всем декадентам нашего утопизма, группировавшимся под знаменами народничества и «субъективной социологии». Покойный С. Н. Кривенко печатно распространялся в половине 90-х годов на ту тему, что самым подходящим занятием для защитников этого взгляда было бы разведение деревенских кабаков и сельского ростовщичества. А г. В. В., – в некотором роле тоже покойник, хотя он и здравствует до сих пор, – с торжеством провозгласил около того же времени, что ни один уважающий себя журнал не напечатает ничего, отзывающегося некоторою симпатией к указанному еретическому взгляду. Это был период бойкота, непосредственно предшествовавший тому периоду, когда идеи марксизма приобрели в нашей печати, вопреки зловещему пророчеству г. В. В., чрезвычайно широкое распространение и…, по большей части, чрезвычайно вульгарный, «куцый» вид. Атакуемый и бойкотируемый всеми теми, которые мнили себя обладателями наилучших «формул прогресса», немногочисленные русские марксисты вынуждены были, во-первых, прибегнуть к оружию полемики, чтобы отражать непосредственно нападение людей, боровшихся с ними при помощи этих формул, а, во-вторых, становиться на преимущественно критическую точку зрения даже там, где при других обстоятельствах им можно и должно было бы смотреть на дело с точки зрения исторической.
Это обстоятельство отразилось и на статьях, перепечатываемых теперь во втором отделе второй части предлагаемой работы. В то время, когда писались эти статьи, наши народники и субъективисты усердно противопоставляли Чернышевского Марксу и твердили, что тому, кто усвоил себе экономическую теорию автора примечаний к Миллю, нет ни малейшей надобности трудиться над усвоением теории автора "Капитала". Мне самому не раз приходилось слышать такое мнение и оспаривать его в устных стычках с нашими многочисленными противниками. Поэтому, когда скончался Н. Г. Чернышевский и когда естественно возник вопрос о подведении итогов его литературной деятельности, я решился критически разобрать его экономические взгляды и показать, что они принадлежат к той эпохе в истории социализма, которая должна теперь считаться уже отжившей. Это навлекло на меня не мало горьких упреков со стороны некоторых, не по разуму усердных, поклонников Чернышевского, не имевших ни малейшего понятия ни об истории политической экономии, ни об истории социализма, ни об истории русской литературы в ее отношении к литературам Западной Европы. Против меня и моих ближайших единомышленников выдвинуто было то, – не раз выдвигавшееся и после, – обвинение, что мы отказываемся от «наследства 60-х годов». И как знать? Может быть, и теперь иной предубежденный против марксизма вообще или против меня в частности читатель укажет на второй отдел второй части этой книги, как на доказательство моего неумения ценить названное наследство. И именно потому, что это возможно, я не счел себя вправе перерабатывать этот отдел: зачем отнимать вещественные доказательства у того, кто захотел бы выступить против меня в роли обвинителя?
А кроме того, в переработке и не было никакой серьезной нужды. Если указанные мною выше обстоятельства повлияли в свое время на мои статьи об экономических взглядах Чернышевского, то они повлияли на них исключительно только с внешней, а не с внутренней стороны: со стороны изложения, а не со стороны содержания. Я и теперь твердо убежден, – как убежден был в начале 90-х годов, – что хотя и весьма замечательны по-своему экономические взгляды Чернышевского, но все-таки они представляют собою критику буржуазной экономии с точки зрения утопического социализма. Я и теперь думаю, – как думал в начале 90-х годов, – что критика буржуазной экономии с утопической точки зрения, вполне естественная в русской литературе в начале 60-х годов, была бы совершенно неестественной и непозволительной в настоящее время, когда каждый из нас может и должен ознакомиться с «Капиталом». Значит с этой, самой существенной, стороны мне нечего было изменять в своих статьях.
Остается вопрос о частностях. Я мог убедиться с течением времени, что мое отношение к тому или другому отдельному экономическому взгляду Чернышевского было неправильно. Поэтому я был обязан заново пересмотреть все мои критические замечания на его отдельные взгляды. Смею сказать, что я исполнил эту свою обязанность. Однако, внимательно перечитав мои статьи, я увидел, что и с этой стороны мне нечего изменять, кроме некоторых отдельных выражений. Поэтому, изменив эти выражения, я, что касается всего остального, говорю словами Понтия Пилата: еже писах, писах!
Под впечатлением смерти Н. Г. Чернышевского я, в вышеупомянутом "трехмесячнике", цитировал следующее место из его "Очерков Гоголевского периода русской литературы":
«Если у каждого из нас есть предметы, столь близкие и дорогие сердцу, что, говоря о них, он старается наложить на себя холодность и спокойствие, старается избежать выражений, в которых бы слышалась его слишком сильная любовь, наперед уверенный, что, при соблюдении всей возможной для него холодности, речь его будет очень горяча, – если, говорим мы, у каждого из нас есть такие дорогие сердцу предметы, то критика Гоголевского периода занимает между ними одно из первых мест, наравне с Гоголем… Потому-то будем говорить о критике Гоголевского периода как можно холоднее, в настоящем случае нам не нужны и противны громкие фразы: есть такая степень уважения и сочувствия, когда всякие похвалы отвергаются, как нечто, не выражающее всей полноты чувства».
По этому поводу я говорил, что я отношусь к гениальному критику Гоголевского периода, – т. е. к В. Г. Белинскому, – с таким же глубоким уважением и с такою же горячею любовью, какую питал к нему Чернышевский, так что в этом отношении мне ничего нельзя ни убавить из сделанной выписки, ни прибавить к ней. Но я замечал, что предметом такой же горячей любви и такого же глубокого уважения является для меня сам Чернышевский. «Вот почему, – прибавлял я, – мы последуем его собственному примеру и, говоря о нем, постараемся остаться как можно более холодными и спокойными, так как, действительно, есть такая степень уважения и сочувствия, когда всякие похвалы отвергаются, как нечто, не выражающее всей полноты чувства».
Нечего и говорить, что мое отношение к Н. Г. Чернышевскому не изменилось до сих пор. Я и до сих пор продолжаю питать благоговейное уважение к нему, как к человеку и литературному деятелю. Некоторые читатели, – из проницательных, как выразился бы сам Н. Г., – находят такое отношение к человеку и писателю несовместимым с критикой его точки зрения. Я смотрю на это иначе, но я не нашел бы нужным оспаривать мнение проницательных читателей, если бы я не считал, что некоторые замечания по его адресу будут полезны для выяснения роли Н. Г. Чернышевского в истории развития нашей общественной мысли.
Мне говорили, что Маркс ставил Чернышевского гораздо выше, нежели ставлю его я. Но откуда же собственно известно, как именно смотрел Маркс на экономические взгляды Чернышевского? Тот факт, что он называл его великим ученым и что он собирался писать о нем, "чтобы вызвать сочувствие к нему в Западной Европе" [68]68
См. письма Маркса к г. Николаю – ону. «Минувшие годы» 1908 г., № 1, стр. 56.
[Закрыть], еще отнюдь не показывает тождества его точки зрения на экономическую науку с точкой зрения Чернышевского. Более того, резко отрицательное отношение Маркса к Дж. Ст. Миллю, – книгу которого Чернышевский счел полезным перевести для русских читателей, хотя бы и снабдив ее своими критическими примечаниями, – может служить, по крайней мере, одним прямым доказательством того, что не было полного согласия во взглядах автора «Капитала», с одной стороны, и Чернышевского – с другой. Но я прекрасно понимаю, что одного подобного доказательства слишком еще мало для людей, не умеющих или не желающих идти к решению интересующего нас вопроса самым коротким и верным путем, т. е. путем сравнения «собственным умом» «Капитала» Маркса с экономическими сочинениями Чернышевского. Поэтому я укажу на одно в высшей степени важное косвенное доказательство.
Оно состоит вот в чем.
В письме к г. Николаю – ону, от 9 ноября 1871 года, Маркс говорит: "С сочинениями Добролюбова я отчасти уже знаком. Я сравниваю его как писателя с Лессингом и Дидеро" [69]69
Там же, стр. 51.
[Закрыть]. На это необходимо обратить внимание.
Миросозерцание Добролюбова ни в чем существенном не отличалось от миросозерцания Н. Г. Чернышевского. Поэтому мы имеем полное право сказать, что этот отзыв Маркса о Добролюбове относится также – в смысле общей характеристики миросозерцания – и к Чернышевскому. В чем же состоит существенное содержание этого отзыва? В том, что сочинения Добролюбова заставили Маркса вспомнить о великом французском «просветителе» Дидеро и о великом немецком «просветителе» Лессинге. Но если читатель даст себе труд ознакомиться с содержанием предлагаемой книги, то он увидит, что я именно называю Чернышевского «просветителем» и утверждаю, что его точка зрения была чрезвычайно близка к точке зрения французских «просветителей» XVIII столетия. Это очень похоже на отзыв Маркса о сочинениях Добролюбова. Правда, французские «просветители» не были социалистами. Но это частность, не имеющая значения там, где речь идет об общем миросозерцании данного автора. Ни один понимающий дело человек не откажется признать, что все французские социалисты утопического периода в своем основном взгляде на движущие силы общественного развития целиком стояли на точке зрения «просветителей» XVIII века. Теперь спрашивается: стоял ли Маркс на этой точке зрения? Неизбежный ответ: он покинул ее, чем и совершил переворот в общественной науке.