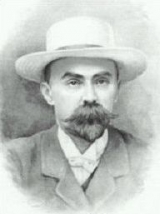
Текст книги "Н. Г. Чернышевский. Книга первая"
Автор книги: Георгий Плеханов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
В герое "Аси" Чернышевский увидел типичного представителя образованной части нашего дворянства. Никакого сословного предубеждения в пользу дворянства он не имел, да и не мог иметь. "Мы не имеем чести быть его родственниками, – говорит он о герое "Аси", намекая на свое недворянское происхождение, – между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам близких" [338]338
Там же, стр. 100.
[Закрыть]. Но он признается, что имеет некоторые культурные предубеждения в пользу дворянства; ему кажется, – «пустая мечта, но все еще неотразимая для нас мечта», замечает он, – будто бы изображенный в повести Тургенева дворянин оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он является представителем нашего просвещения. Поэтому Чернышевский все еще желает добра «нашему герою и его собратам» и хочет дать им хороший совет. В их историческом положении готовится решительная перемена, и от их собственной воли зависит, как сложится их дальнейшая судьба. «Поймете ли вы требование времени, сумеете ли воспользоваться тем положением, в которое вы поставлены теперь, – говорит Чернышевский, обращаясь к „этим достопочтенным людям“, – вот в чем теперь для вас вопрос о счастьи или несчастьи навеки» [339]339
Там же, стр. 101.
[Закрыть]. Требования же времени заключались, по его мнению, в уступках крестьянству. Чернышевский усовещевает «достопочтенных» господ словами евангелия: «Старайся примириться с твоим противником, пока еще не дошли вы с ним до суда, а иначе отдаст тебя противник судье, а судья отдаст тебя исполнителю приговоров, и будешь ты ввергнут в темницу И не выйдешь из нее, пока не расплатишься за все до последней мелочи» (Матф., гл. V, стих. 25 и 26) [340]340
Там же, стр. 102.
[Закрыть].
Ясно и без пояснений, что всякий теоретический вывод относительно способности данного общественного класса или слоя к определенному практическому действию всегда нуждается до известной степени в проверке путем опыта и что, вследствие этого, он может считаться достоверным a priori лишь в известных, более или менее широких, пределах. Так, например, можно было с полною достоверностью предсказывать, что даже и более образованная часть дворянства не согласится принести свои интересы в жертву крестьянам. Такое предсказание совсем не нуждалось в практической проверке. Но когда нужно было определить, в какой мере способно образованное дворянство сделать крестьянам уступки в своих собственных интересах, тогда уж никто не мог с полною достоверностью сказать наперед: оно не перейдет в этом направлении такого-то предела. Тут всегда можно было предположить, что оно при известных обстоятельствах пойдет несколько дальше его, обнаружив несколько более правильное понимание своих собственных выгод. Практику, каким является в интересующем нас случае Чернышевский, не только можно, но и должно было попытаться убедить дворян в том, что их собственные выгоды требуют некоторых уступок освобождаемым крестьянам. Таким образом то, что могло показаться в его статье противоречием, – требование благоразумного и решительного шага от людей, неспособность которых к решительности и благоразумию тут же признается и объясняется, как необходимый продукт обстоятельств, – на самом деле противоречия в себе не заключало. Подобные мнимые противоречия можно найти также и в политической практике людей, стоящих на твердой почве материалистического объяснения истории. Однако тут приходится сделать весьма существенную оговорку. Когда материалист с известной осмотрительностью применяет свои теоретические выводы на практике, он все-таки может поручиться за то, что в этих его выводах есть некоторый элемент самой неоспоримой достоверности. И это потому, что, когда он говорит: «все зависит от обстоятельств», он знает, с какой стороны надо ждать появления тех новых обстоятельств, которые изменят волю людей в желательном для него направлении; ему хорошо известно, что их, в последнем счете, надо ждать со стороны «экономики», и что чем вернее его анализ общественно-экономической жизни общества, тем достовернее его предсказание насчет будущего развития общества. Не то с идеалистом, который убежден в том, что «миром правят мнения». Если «мнения» представляют собою наиболее глубокую причину общественного движения, то обстоятельства, от которых зависит дальнейшее развитие общества, приурочиваются главным образом к сознательной деятельности людей, а возможность практического влияния на эту деятельность обусловливается большею или меньшею способностью людей к логическому мышлению и к усвоению новых истин, открываемых философией или наукой. Ко эта способность сама зависит от обстоятельств. Таким образом идеалист, признавший материалистическую истину о том, что характер, а также, конечно, и взгляды человека зависят от обстоятельств, попадает в заколдованный круг: взгляды зависят от обстоятельств, обстоятельства – от взглядов. Из этого заколдованного круга никогда не вырывалась мысль «просветителя» в теории. На практике же противоречие разрешалось обыкновенно усиленным призывом ко всем мыслящим людям, независимо от того, при каких обстоятельствах такие люди жили и действовали. То, что мы говорим теперь, может показаться ненужным, а потому скучным отступлением. Но на самом деле это отступление было для нас необходимо. Оно поможет нам понять характер публицистической критики 60-х годов.
Если практические упования "просветителя" приурочиваются к уму и доброй воле мыслящих людей, т. е., в сущности, тех же "просветителей", то очевидно, что критика, желающая поддержать этих людей, потребует от художественной литературы прежде всего точного изображения общественной жизни со всеми ее достоинствами, недостатками, «положительными» и «отрицательными» явлениями. Только точное изображение всех сторон жизни может дать «просветителю» необходимый фактический материал для его приговоров над этой жизнью. Но это не все. Известно, что критика 60-х годов требовала от художественной литературы более внимательного отношения к «отрицательным», нежели к «положительным» сторонам жизни. Она обосновывала свое требование тем соображением, что в нашей общественной жизни «отрицательные» явления преобладают над «положительными». Само по себе это соображение было, конечно, верно. Однако оно еще ровно ничего не объясняло. В 70-х годах «отрицательные» явления также преобладали у нас над «положительными», как и в 60-х; а между тем наши народники уже не довольствовались изображением отрицательных сторон нашей общественной жизни, находя, что художники обязаны изображать также положительные стороны ее. Это относилось, по крайней мере, к тем художникам, которые ставили себе целью изображение народной жизни, к так называемым беллетристам-народникам. Многие читатели 70-х годов предпочитали Н. Златовратского Н. Успенскому только потому, что Златовратский, как им казалось, отводил в своих сочинениях много места отрадным для народников явлениям в крестьянской жизни (изображению общинных инстинктов крестьянина), между тем как Н. Успенский останавливался больше на печальных явлениях (на изображении развивающегося в крестьянстве индивидуализма). Поэтому как читатели, так и «передовые» критики 70-х годов были, – как мы сейчас увидим это на одном очень ярком примере, – несправедливы к той нашей беллетристике пред-шествовавшего десятилетия, которая занималась народною жизнью Они находили, что эта беллетристика не только не уважала народа, но даже презирала его. Это было не так, тут было явное недоразумение. Но это недоразумение в высшей степени характерно, и мы должны раскрыть его психологическую причину.
Если народники семидесятых годов требовали от беллетристики изображения отрадных явлений крестьянской жизни, то это можно назвать, выражаясь отчасти языком Писания, началом материалистической премудрости. Народники уже сознавали, – очень смутно, но все-таки уже сознавали, по крайней мере, начинали сознавать, – что миром правят только те мнения, в которых выражается объективный ход развития этого мира. Этим и объясняется усиленный интерес народников к "отрадным" явлениям крестьянской жизни: они надеялись найти в явлениях объективное ручательство за будущее торжество своих идеалов. Потому-то и огорчал их Н. Успенский, показывавший им, что это объективное ручательство далеко не так прочно, как они хотели бы думать. А "просветитель" 60-х годов не искал никаких объективных ручательств за торжество идеала: в его глазах совершенно достаточным ручательством за это торжество являлась сила истины, отвлеченная правильность "мнения". И чем беспощаднее обнажала современная ему беллетристика недостатки народной жизни и народного характера, тем охотнее он рукоплескал ей, потому что тем больше видел он в ней указаний на то, что должно быть исправлено им, "просветителем". Эта черта "просветительской" психологии нашла свое выражение и в критике.
В 1861 году вышло отдельное издание рассказов Н. В. Успенского, о которых Чернышевский написал статью «Неначало ли перемены?», помещенную в ноябрьской книжке «Современника» за тот же год. Он хвалил рассказы Н. В. Успенского за то, что в них не было никакого «прикрашиванья народных нравов и понятий». Таким прикрашиваньем грешили, по его словам, Тургенев и Григорович в своих повестях из народного быта. Он сравнивал отношение этих писателей к народу с отношением Гоголя к Акакию Акакиевичу. Гоголь умалчивает о недостатках своего героя, потому что считает его недостатки совершенно непоправимыми. «Акакий Акакиевич был смешной идиот… Но говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно и бессовестно… Сам для себя он ничего не может сделать, будем же склонять других в его пользу. Но если говорить другим о нем все, что можно бы сказать, их сострадание к нему будет ослабляться знанием его недостатков. Будем же молчать о его недостатках» [341]341
Сочинения, т. VIII, стр. 342.
[Закрыть]. Совершенно так же относились к народу Григорович, Тургенев и все их подражатели. Народ являлся у них в виде Акакия Акакиевича, о котором можно только сожалеть и порицать которого было бы жестоко. Говорится только об его несчастиях: «Посмотрите, как он кроток и безответен, как безропотно переносит он обиды и страдания! Как он должен отказывать себе во всем, на что имеет право человек! Какие у него скромные желания! Какие ничтожные пособия были бы достаточны, чтобы удовлетворить и осчастливить это забитое существо, с таким благоговением смотрящее на нас, столь готовое проникаться беспредельною признательностью к нам за малейшую помощь, за ничтожнейшее внимание, за одно ласковое слово от нас! Читайте повести из народного быта г. Григоровича и г. Тургенева со всеми их подражателями – все это насквозь пропитано запахом „шинели“ Акакия Акакиевича» [342]342
Там же, стр. 342.
[Закрыть]. И все это до чрезвычайности благородно. Но народу пользы от этого не было никакой. Польза была только для нас, наслаждавшихся сознанием своей доброты. В лице Н. В. Успенского Чернышевский приветствовал появление нового слоя образованных русских людей, умеющих относиться к народу уже не так, как относилось к нему чувствительное и снисходительное барство. Чернышевский многого ждал от этого слоя вообще и от литературы, которую он мог бы создать, в частности. Эта литература будет смотреть на крестьянина такими же трезвыми глазами, как и на людей других званий и состояний. Чернышевский старается убедить своих читателей, что так и должно быть. «Забудемте же, – говорит он, – кто светский человек, кто купец или мещанин, кто мужик, будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по человеческой психологии, не дозволяя себе утаивать перед самими собою истину ради мужицкого звания» [343]343
Там же, стр. 345.
[Закрыть].
Чернышевский признает, что Н. Успенский "выставил русского простолюдина простофилею", которому трудно связать в голове две отдельные мысли. "Но какой же мужик превосходит нашего быстротою понимания? – спрашивает он. – О немецком поселянине все говорят то же самое, о французском то же, английский едва ли не стоит еще ниже их. Французские поселяне заслужили всесветную репутацию дикою неповоротливостью ума. Итальянские поселяне прославились совершенным равнодушием к итальянскому делу" [344]344
Там же, стр. 356.
[Закрыть]. Но о крестьянах излишне и говорить: им, по словам Чернышевского, «натурально играть в истории дикую роль», так как они еще «не вышли из того исторического периода, от которого сохранились Гомеровы поэмы, Эдда и наши богатырские песни» [345]345
Там же, стр. 356. Предлагаем эти слова просвещенному вниманию г. Иванова-Разумника, который считает Чернышевского одним из родоначальников русского народничества.
[Закрыть]. Огромное большинство людей всех сословий и всех стран живет рутиною и обнаруживает крайнюю несообразительность, едва только случится ему выйти из круга обычных своих представлений: «После каждого спора спросите у кого хотите из споривших, умные ли вещи говорили его противники и понятливы ли, восприимчивы ли были они к его мыслям. Из тысячи случаев только в одном скажет нам человек, что против его мнений говорили умно, с толком. Значит, в остальных случаях непременно одно из двух: или действительно бестолковы люди, с которыми спорил спрошенный человек, или сам он бестолков. А ведь эта дилемма захватывает всю тысячу, за исключением одного» [346]346
Там же, стр. 356.
[Закрыть].
Тут перед нами тот же самый взгляд на массу, как на отсталую часть действующей армии, с которым мы подробно ознакомились в одном из предыдущих отделов. Действительное участие в движении принимает лишь мыслящее меньшинство, – интеллигенция, согласно позднейшей терминологии, – которому необходимо знать все свойственные массе недостатки, чтобы со временем устранить их. Чернышевский ошибался, думая, что в подобном отношении к массе не было ничего высокомерного. В нем несомненно был свой и даже очень сильный элемент высокомерия, совершенно, впрочем, неизбежный для всех тех, которые стоят на точке зрения исторического идеализма.
Но, как бы то ни было, чрезвычайно интересно то, что один из самых выдающихся критиков последующего десятилетия, уже цитированный нами выше, г. Скабичевский, коренным образом разошелся с Чернышевским в оценке рассказов Н. Успенского. Г. Скабичевский находит, что в них народ представляется в невообразимо безобразном виде. "Забитость, тупоумие, отсутствие всякого человеческого образа и подобия в героях Н. Успенского одуряет вас. – говорит он, – когда вы читаете его очерки. Вы видите перед собою людей, которые в жизни своей ничем более не руководствуются, как только грубою, скотскою чувственностью, ни к чему не стремятся, как лишь нажить копейку или спустить ее в кабак; да и в этих стремлениях, что шаг ступят, то сделают какую-нибудь невообразимую глупость" [347]347
Скабичевский, цитир. сочинение, стр. 227.
[Закрыть].
Этот отзыв г. Скабичевского, – подобно очень и очень многим другим его отзывам, – совсем неправилен. Произведения Н. Успенского не свободны от некоторых преувеличений. Это так. Но отсюда еще далеко до того взгляда на крестьян, какой приписал ему г. Скабичевский. Мы спросили бы его, например, в самом ли деле очень глупа, груба и скотоподобна крестьянка-мать, выведенная Н. Успенским в рассказе "Старуха" [348]348
Соч. Н. В. Успенского, Москва 1881 г., т. I.
[Закрыть]. Мы спросили бы его, действительно ли "невыразимо безобразна баба, фигурирующая в рассказе «Катерина» [349]349
Там же, т. II.
[Закрыть]. Удивительно, что г. Скабичевский не заметил некоторых потрясающих и поистине превосходных сцен в длинном рассказе «Саша» [350]350
Там же, т. I, стр. 417, 512.
[Закрыть]. Н. Успенский, конечно, не занимает в нашей литературе того места, которое принадлежит в истории голландской живописи Теньеру и Остаду (как это думал П. В. Анненков). Во-первых, он не был равен им по таланту, а во-вторых, он совсем иначе, нежели они, относился к изображаемой им действительности. Это был типичный представитель эпохи 60-х годов, взявшийся за изображение народного быта. Он отнюдь не задавался целью издеваться в своих произведениях над русским крестьянином. Что он по-своему сильно сочувствовал ему, в этом легко убедится всякий, кто даст себе труд внимательно прочитать его сочинения. Но он сочувствовал народу, именно по-своему, т. е. как «просветитель», т. е. как человек, не чувствующий никакой надобности в идеализации отсталой массы. Если он видел безобразные черты в характере крестьянина, то он, нисколько не смущаясь, передавал их в своей картине, относя их на счет «обстоятельств», речь о которых так часто идет у Чернышевского. «Понятно. – говорит он в своих „Записках сельского хозяина“, – что крестьянин, воспитанный в рабстве, не мог вдруг сделаться свободным в настоящем значении этого слова; лишь только крепостной туман и чад рассеялись, мы увидели нашего мужика обезображенным… крестьянин по-прежнему беден – и ему долго, долго еще нужно поправляться после крепостного разгрома… Да и как поправляться? Начинать с ничего – дело крайне мудрое» [351]351
Сочинения, т. II, стр. 201.
[Закрыть]. Высказать такое мнение вовсе не значит издеваться над народом. Но это мнение не могло быть симпатичным народнику, – или «субъективисту», зараженному всеми предрассудками народников, – который был твердо убежден в том, что крестьянин начинает не «с ничего», а с общины, ждущей только благодетельного толчка со стороны народолюбивой интеллигенции, чтоб начать быстро развиваться в направлении социалистического идеала. Но Н. Успенскому случалось высказываться еще решительнее. Он писал, например: "от теперешних крестьян, недавно бывших жертвами крепостного состояния, ждать нечего – не воскреснуть им!.. атрофию едва ли когда-нибудь будет лечить медицина, потому что эта болезнь основывается на органическом повреждении…" [352]352
Там же, т. II, стр. 202.
[Закрыть]. С этим уже совсем трудно было согласиться «людям 70-х годов». Отсюда и происходило главным образом недоброжелательное отношение критики этой эпохи к Н. В. Успенскому.
Читатель спросит, пожалуй: а легко ли было согласиться с совершенно безнадежным взглядом Н. В. Успенского на "теперешних крестьян" самому Чернышевскому, который, по-видимому, считал тогда возможным широкое движение в народе, недовольном условиями отмены крепостного права. На это мы ответим, что, разумеется, это было бы не легко для него, если б он счел себя обязанным безусловно согласиться с Н. В. Успенским. Но в том-то и дело, что он с ним не безусловно соглашался. Он считал совершенно правдивыми очерки Н. В. Успенского, но он не делал из них безнадежного вывода. Он говорил: "Рутина господствует над обыкновенным ходом жизни дюжинных людей и в простом народе, как во всех других сословиях, в простом народе рутина так же тупа, пошла, как во всех других сословиях. Заслуга г. Успенского состоит в том, что он отважился без всяких утаек и прикрас изобразить нам рутинные мысли и поступки, чувства и обычаи простолюдинов. Картина выходит вовсе не привлекательная: на каждом шагу вздор и грязь, мелочность и тупость. "Но не спешите выводить из этого никаких заключений о состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете улучшения судьбы народа, или ваших опасений, если вы до сих пор находили себе интерес в народной тупости и вялости. Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергических усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого данного народа" [353]353
Соч. Н. Г. Чернышевского, т. VII, стр. 357.
[Закрыть].
Обстоятельства, от которых в последней инстанции все зависит, могут сложиться так, что даже апатичная масса станет способна к энергичным усилиям и отважным решениям. А в ожидании того момента, когда эти обстоятельства примут благоприятный оборот, нужно внимательно изучать отсталую массу. Инициатива отважных решений никогда не будет принадлежать массе простонародья; но необходимо знать свойства людей, составляющих эту массу, "чтобы знать, какими побуждениями может действовать на них инициатива" [354]354
Там же, стр. 346.
[Закрыть]. И чем точнее будет беллетристика воспроизводить свойства народной массы, тем более она облегчит дело тех людей, которым придется при благоприятных обстоятельствах взять на себя инициативу великих решений.
Теперь мы попросим читателя вспомнить, что в одном из тезисов своей диссертации Чернышевский, указав на воспроизведение жизни, как на главный признак искусства, прибавляет: "часто произведения искусства имеют и другое значение – объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни". То, что приведено нами, хотя бы только из одной статьи "Не начало ли перемены?", ясно показывает, до какой степени литературная критика в лице Чернышевского склонна была дорожить воспроизведением жизни преимущественно как материалом для ее объяснения и для суждения о ней (для составления приговора об явлениях жизни). И та же склонность Чернышевского обнаруживается решительно во всех других его литературных статьях. Вот что говорит он, например, в рецензии на сборник стихотворений А. Н. Плещеева ("Современник", 1861 г., № 3).
Он с неудовольствием вспоминает то время, когда наша критика относилась к Плещееву с пренебрежением и даже недоброжелательством. "Дико вспомнить теперь об этом, – говорит он. – Неужто благо родные чувства, благородные мысли, которыми веяло от каждой страницы небольшой книжки г. Плещеева, были таким ежедневным явлением и тогдашней русской поэзии, чтобы можно было с пренебрежением отвернуться от них? Да и когда же это бывает можно и позволительно?" У Плещеева, по его словам, не было большой поэтической силы, и его стремления и надежды отличались порядочною неопределенностью. Но в нем было много искренности, а выражать свои надежды с большею точностью он не мог по независящим от него условиям. Наконец, все мы вовсе не так высоко и безукоризненно развиты, чтобы можно было назвать бесполезным искренний голос, заступающийся, хотя бы в общих чертах, за лучшую сторону человеческой природы. "Есть много самых обыкновенных понятий, врожденных человеку чувств, – заключает наш автор, – о которых тем не менее надо беспрестанно напоминать, чтобы они не забывались. Это и везде нужно, не говоря уже о нашем не сформировавшемся обществе. Поэты с таким благородным и чистым направлением, как направление г. Плещеева, всегда будут полезными для общественного воспитания и найдут путь к молодым сердцам. Трудно употребить лучше его в дело те поэтические способности, которыми он обладает" [355]355
Там же, стр. 121.
[Закрыть].
Поэзия должна воспитывать людей для лучшего будущего, она должна будить в них бодрость и веру в свои силы. Так смотрел Чернышевский. Ввиду этого неудивительно, что он, по его словам, в книжке Плещеева с особенным удовольствием перечитал прекрасный гимн, начинающийся знаменитыми словами:
Вперед, без страха и сомненья,
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!
Такая поэзия не могла не нравиться «просветителям». Известно, что их пристрастие к ней вызывало насмешку со стороны людей, считавших себя тонкими ценителями художественных произведений. Теперь у нас, по-видимому, опять наступает эпоха пренебрежительного отношения к тем чувствам, которые выражались, между прочим, в гимне Плещеева.
Поэтому мы считаем не лишним сказать несколько слов по поводу обвинений, выдвигавшихся сторонниками чистого искусства против "просветительских" тенденций в нашей литературной критике. Гг. сторонники чистого искусства утверждали, – и теперь, кажется, не прочь повторять это, – что наши "просветители" пренебрегали духовными интересами человечества и выше всего ставили интересы желудка. Это, как мы уже сказали в другом месте, просто нелепая неправда. "Просветители" думали, что искусство, содействуя распространению здравых понятий в обществе, принесет прежде всего умственную пользу людям. И этой пользой они дорожили больше всего. Материальная выгода была в их глазах простым результатом умственного развития народа: известно, что щуке не так-то легко проглотить карася, когда он не "дремлет" Чтобы приблизить время пробуждения карасей, "просветители" готовы были на всякие самопожертвования, а их обвиняли в том, что они дорожат только "печными горшками". Эту нелепую неправду могли высказывать только люди, испытывавшие более или менее смутное опасение насчет того, что содержимое их собственных печных горшков будет уж не так вкусно и обильно, когда проснувшиеся караси начнут принимать свои меры против щучьих подвигов. Так было в эпоху Чернышевского; так остается и до сих пор. Люди, осмеивающие теперь гражданские мотивы поэзии, чаще всего, – не говорим всегда: есть исключения, вызываемые простым недомыслием, – облекают в "сверхчеловеческий" костюм самые вульгарные эксплуататорские стремления.
Говоря это, мы совсем не хотим, однако, отрицать, что принципы, лежавшие в основе литературной критики 60-х годов и разработанные преимущественно Чернышевским, могли в своем крайнем развитии привести к весьма односторонним выводам. К таким выводам критика 60-х годов не раз приходила в лице Д. И. Писарева. Но, во-первых, нельзя делать Чернышевского ответственным за Писарева; а во-вторых, даже Писарев был очень далек от того сугубого вздора, который нередко приписывали ему его "эстетические" противники.
Заканчивая первую из своих двух, так много нашумевших, статей, озаглавленных "Пушкин и Белинский", Писарев говорил: "Расходясь с Белинским в оценке отдельных фактов, замечая в нем излишнюю доверчивость и слишком сильную впечатлительность, мы в то же время гораздо ближе наших противников подходим к его основным убеждениям" [356]356
Сочинения Д. И. Писарева, т. V, стр. 63.
[Закрыть].
В начале второй из этих статей он повторял: "Критика Белинского, критика Добролюбова и критика "Русского Слова" оказываются развитием одной и той же идеи, которая с каждым годом более и более очищается от всяких посторонних примесей" [357]357
Там же, стр. 66.
[Закрыть].
Какие "основные убеждения" Белинского и какие "посторонние примеси" к ним имел он в виду, говоря это? Чтоб ответить на это, необходимо сделать небольшую историческую справку.
В своей статье о Державине Белинский говорил: "Задача истинной эстетики состоит не в том, чтобы решить, чем должно быть искусство, а в том, чтобы определить, что такое искусство. Другими словами: эстетика не должна рассуждать об искусстве, как о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, который может осуществиться только по ее теории, нет, она должна рассматривать искусство, как предмет, который существовал давно прежде и существованию которого она сама обязана своим существованием". Это была поистине гениальная мысль, вполне достойная человека, воспитавшегося на Гегелевской диалектике. Однако иное дело мысль, а иное дело ее осуществление. Чтобы решить ту задачу, которую Белинский задавал эстетике, нужно было со всех сторон обнаружить связь искусства с общественной жизнью и уметь объяснить эту последнюю с научной, т. е. с материалистической, точки зрения. А этого не мог сделать и сам Гегель. Иронически раскланявшись с Гегелевском колпаком, Белинский в своих литературных суждениях стал иногда отклоняться от золотого правила, высказанного им в статье о Державине; он стал подчас рассуждать уже не столько о том, что такое искусство, сколько о том, чем оно должно быть. Короче: он стал по временам высказываться, как "просветитель". И с этой стороны Чернышевский явился самым замечательным продолжателем его дела. В качестве "просветителя", Чернышевский интересовался гораздо меньше теорией искусства, нежели теми практическими выводами, которые из нее могут быть сделаны. Но философия Фейербаха давала, как ему казалось, возможность примирить практику с теорией; поставить практические соображения о том, чем должно быть искусство, на прочную основу теории, открывающей его истинную сущность. Практическая задача эстетики заключается в реабилитации действительности. Это положение, обоснованное Чернышевским с помощью философии Фейербаха, руководило им во всех его критических отзывах. Это положение само по себе, – т. е. если отвлечься от той чисто теоретической задачи, которую Белинский задавал когда-то эстетике, – не заключает в себе ровно ничего ошибочного. Но, раз признав это положение, позволительно, не греша против логики, спросить себя: да нужна ли для реабилитации действительности именно эстетика, т. е. наука о прекрасном? Нельзя ли достигнуть той же цели с помощью других наук, например, естествознания? И возможна ли эстетика как наука?
Этими вопросами и задался Д. И. Писарев. И он решил их, как известно, совсем не в пользу эстетики. Он объявил, что существование эстетике как науки невозможно, и что если Чернышевский посвятил свою диссертацию именно эстетике, то он сделал это "только для того, чтобы радикально уничтожить ее и навсегда отрезвить тех людей, которых морочит философствующее и тунеядствующее филистерство" [358]358
Сочинения Д. И. Писарева, Спб. 1894, т. IV, стр. 499.
[Закрыть].
Против возможности эстетики как науки Писарев выставил следующее соображение, казавшееся ему непоколебимым. "Эстетика, или наука о прекрасном, имеет разумное право существовать только в том случае, если прекрасное имеет какое-нибудь самостоятельное значение, независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. Если же прекрасно только то, что нравится нам, и если вследствие этого все разнообразнейшие понятия о красоте оказываются одинаково законными, тогда эстетика рассыпается в прах. У каждого отдельного человека образуется своя собственная эстетика, и, следовательно, общая эстетика, приводящая личные вкусы к обязательному единству, становится невозможной. Автор «Эстетических отношений» ведет своих читателей именно к этому выводу, хотя и не высказывает его совершенно открыто" [359]359
Там же, та же стр.
[Закрыть]. Идеалисту это соображение в самом деле должно казаться непоколебимым. Если искусство своими произведениями только напоминает нам о том, что интересно для нас в жизни; если прекрасным существом кажется человеку то существо, в котором он видит жизнь, как он ее понимает, то совершенно законным представляется идеалисту тот вывод, что понятие о прекрасном зависит в последнем счете только от личных вкусов, бесконечное разнообразие которых не дает возможности взглянуть на них с научной точки зрения, т. е. с точки зрения закономерности их развития. Писарев, рассуждавший в этом случае, как чистокровный идеалист, упустил из виду только то, что Чернышевский задался целью применить к эстетике материалистическую философию Фейербаха. А для материалиста, – поскольку он остается материалистом и не делает в своих взглядах уступок идеализму, – «мнение» не есть самая глубокая причина перемен, совершающихся в общественной жизни. Перемена и разнообразие «мнений» сами определяются известными переменами в ней. А это дает возможность взглянуть и на развитие мнений с точки зрения закономерности. Как ни разнообразны вообще человеческие мнения, но ошибочно было бы утверждать, что у каждого человека есть свое особое миросозерцание и свои различные взгляды на все общественные явления. Нет, в каждое данное время люди данного класса имеют одинаковое, – в известных пределах, – миросозерцание и, опять-таки в известных пределах, одинаково смотрят на общественные явления. А если внутри данного класса данной эпохи и замечается неодинаковость мнений; если в его собственной среде наблюдаются разные оттенки миросозерцания или происходит борьба старого миросозерцания с новым, то и это обстоятельство, очень не редкое в истории, отнюдь не мешает нам смотреть на развитие мнений с точки зрения науки, т. е. закономерности, т. е. необходимости. Сознание людей определяется их бытием; их мнения – их общественными отношениями. Признавая в качестве последователя материалистической философии причинную зависимость сознания от бытия, Чернышевский и доказывает в своей диссертации, что представление о «хорошей жизни», представление о жизни, как она должна быть, лежащее в основе понятия о прекрасном, изменяется у людей сообразно с их классовым положением в обществе. Этим он не только не разрушает эстетики как науки, а, напротив, ставит ее на прочное материалистическое основание и, по крайней мере, намечает в общих чертах, где надо искать решения той задачи, которую еще Белинский поставил перед людьми, интересовавшимися теорией эстетики. Правда, Чернышевский знаметил решение этой задачи именно только в самых общих чертах и в своей литературной критике он уже к нему не возвращался, занимаясь борьбою с «фантастическими мечтами» во имя «действительности». В своей литературной критике он до конца ногтей был «просветителем» или, – как выражается Писарев, говоря о французских «просветителях» XVIII века, – популяризатором отрицательных доктрин. И тут он, как и в исторических своих рассуждениях, покидал материализм и переходил на идеалистическую точку зрения. Писарев, желавший отстаивать и далее развивать его взгляды, видел в нем только «просветителя», т. е. только идеалиста. И потому он в самом деле не мог увидеть в его диссертации ничего, кроме разрушения эстетики. Он не подозревал, да и не мог подозревать, что во взгляде Чернышевского на эстетические отношения искусства к действительности есть своя материалистическая сторона, говорящая в пользу возможности эстетики, как науки. Если бы кто-нибудь указал ему на это, то он, вероятно, сказал бы, презрительно пожав плечами, что в этом случае Чернышевский еще не успел отделаться от шелухи гегелизма, как не умел, в свое время, отделаться от нее Белинский [360]360
См. статью «Пушкин и Белинский». Соч., т. V, стр. 78–79.
[Закрыть].






