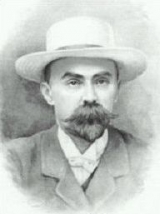
Текст книги "Н. Г. Чернышевский. Книга первая"
Автор книги: Георгий Плеханов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
Ход его рассуждений таков. Он начинает с того положения Фейербаха, что человек есть то, что он ест. Когда питание человеческого организма совершается надлежащим образом, – когда внешние условия обеспечивают ему хороший ход функций, – увеличивается сила мозга, а с увеличением силы мозга растет способность человека к умственному развитию, к выработке правильных понятий. А эта способность и есть главная пружина исторического движения. Таким образом Чернышевский остается последовательным материалистом до тех пор, пока не уходит из области вопросов «общего физиологического содержания». А как только перед ним встают вопросы «специально относящиеся к человеческой жизни», его физиологический материализм настежь открывает дверь для исторического идеализма. Пример Чернышевского едва ли не лучше, нежели какой-либо другой, показывает, как мало еще годился материализм в том виде, какой он имел у Фейербаха, для объяснения исторического развития.
Мы уже не раз говорили, что идеалистический характер исторических взглядов Чернышевского отнюдь не мешал ему давать материалистическое объяснение некоторым отдельным историческим явлениям. И мы не стали бы повторять это здесь, если бы не видели себя вынужденными сделать некоторую, весьма естественную, по нашему мнению, оговорку. Тот, кто стал бы искать в сочинениях нашего автора материалистического объяснения отдельных исторических событий, должен остерегаться ошибки, в которую очень легко бывает иногда впасть вследствие известного внешнего сходства идеалистических приемов Чернышевского с приемами материалистического объяснения истории.
Дело в том, что сообразно с преувеличенным значением, придаваемым Чернышевским человеческой расчетливости, он и исторические события объясняет иногда сознательным расчетом пользы там, где для объяснения их нужно обращаться к неподчиненным контролю человека силам экономического развития. С первого взгляда подобные объяснения Чернышевского могут иногда навести на мысль о том, что он в своих исторических теориях совершенно стал на точку зрения новейшего материализма. Но при внимательном отношении к делу оказывается совершенно противное. Кто видит в исторической деятельности людей лишь влияние сознательного расчета, тот еще остается чистым идеалистом и тот еще очень далек от понимания всей силы и всего значения "экономики". В действительности ее влияние распространяется даже на такие поступки людей и на такие привычки различных общественных классов, по поводу которых нельзя и заикаться о сознательном расчете. Главнейшие и наиболее влиятельные факторы экономического развития до сих пор стоят вне всякого контроля сознательного расчета. Все общественные отношения, все нравственные привычки и все умственные склонности людей складываются под посредственным или непосредственным действием этих слепых сил экономического развития. Ими определяются, между прочим, и все виды человеческой расчетливости, все проявления человеческого эгоизма. Следовательно, нельзя говорить о сознательном расчете пользы, как о первичном двигателе общественною развития. Подобный взгляд на историю противоречит учению новейшего материализма. В нем сказывается основная черта исторического идеализма: убеждение в том, что «мнения правят миром» [292]292
Кто знает взгляды Р. Оуэна, тот знает, что он тоже приписывал преувеличенное значение расчету пользы.
[Закрыть].
Этого убеждения Чернышевский держался в последнем счете до конца жизни. Поэтому мы и относим его к представителям исторического идеализма. И кто знаком с его сочинениями, тот вряд ли откажется признать, что в истории всемирной литературы немного было писателей, у которых исторический идеализм имел бы такую яркую окраску, какую он приобрел у Чернышевского. Но интересно, что именно у Чернышевского, восстававшего против оптимизма Гизо, исторический идеализм в свою очередь принял оригинальный оттенок оптимизма. Это хорошо видно в его рассуждениях об исторической роли насилия.
Насилие, как мы знаем, сильно вредит тем племенам и народам, которые ему подвергаются. Но оно вредит не только им: не менее сильно вредит оно и самим насильникам. История показывает, по словам Чернышевского, что совершенно ошибочен был расчет тех наций, которые думали извлечь себе пользу из нанесения вреда человечеству. "Завоевательные народы всегда кончали тем, что истреблялись и порабощались сами" [293]293
Соч., т. VI, 233.
[Закрыть].
Мы могли бы спросить, много ли надежды на то, что "истребятся и поработятся сами", например, те англичане, которые поселились на Австралийском материке, почти совсем истребив чернокожих туземцев? Нам кажется, что этим англичанам пока еще не грозят ни истребление, ни порабощение. А если и придется им когда-нибудь испытать участь истребляемых и порабощаемых народов, то их несчастье вряд ли будет иметь какую-нибудь связь с теми несправедливыми действиями, какие они позволили себе по отношению к австралийским туземцам. Это так очевидно, что нет нужды распространяться об этом. У Чернышевского выходит, что в истории порок всегда несет заслуженное им наказание. На самом деле, известные нам исторические факты не дают никакого основания для этого, может быть, отрадного, но во всяком случае наивного взгляда. Нас может интересовать только вопрос о том, как мог он возникнуть у нашего автора. А на этот вопрос можно ответить указанием на ту эпоху, когда жил Чернышевский. Это была эпоха общественного подъема, имевшая, можно сказать, нравственную потребность в таких взглядах, которые подкрепляли бы веру в неминуемое поражение зла.
В сочинениях, написанных Чернышевским по возвращении из Сибири, тоже встречаются поразительно меткие замечания, насквозь пропитанные духом материалистического объяснения истории. Немало таких замечаний найдет читатель, например, в приложении к VII тому Вебера («О расах»), к VIII («О классификации людей по языку») и, наконец, – и особенно, – в уже цитированном нами приложении к IX тому («О различиях между народами по национальному характеру»).
ОТДЕЛ ТРЕТИЙ
Литературные взгляды Н. Г. Чернышевского
ГЛАВА ПЕРВАЯЗначение литературы и искусства
Умственный прогресс человечества служит, по мнению Чернышевского, самой глубокой пружиной исторического движения. Литература является выражением умственной жизни народов. Поэтому можно было бы, пожалуй, ожидать, что Чернышевский припишет литературе главную роль в истории цивилизации. На самом деле это было не так. Главную роль в истории цивилизации Чернышевский отводил не литературе, а науке. Он говорил об этой последней: «творя тихо и медленно, она творит все; создаваемое ею знание ложится в основание всех понятий и потом всей деятельности человечества, дает направление всем его стремлениям, силу всем его способностям» [294]294
См. его работу: «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность». Сочинения, т. III, стр. 585.
[Закрыть]. Не то с литературой. Ее роль в историческом процессе никогда не бывала совершенно маловажна, но она почти всегда бывала второстепенна.
"Так, например, – говорит Чернышевский, – в древнем мире мы не замечаем ни одной эпохи, в которой историческое движение совершалось бы под преобладающим влиянием литературы. Несмотря на все пристрастие греков к поэзии, ход их жизни обусловливался не литературными влияниями, а религиозными, племенными и военными стремлениями, впоследствии, кроме того, политическими и экономическими вопросами. Литература была, подобно искусству, лучшим украшением, но только украшением, а не основною пружиною, не главною двигательницею их жизни. Римская жизнь развивалась военного и политическою борьбою и определением юридических отношений; литература была для римлян только благородным отдыхом от политической деятельности. В блестящий век Италии, когда она имела Данте, Ариосто и Tacco, также не литература была основным началом жизни, а борьба политических партий и экономические отношения: эти интересы, а не влияние Данте, решали судьбу его родины и при нем, и после него. В Англии, гордящейся величайшим поэтом христианского мира и таким числом первостепенных писателей, какого не найдется, быть может, в литературах всей остальной Европы, вместе взятых, – в Англии от литературы никогда не зависела судьба нации, определявшаяся религиозными, политическими и экономическими отношениями, парламентскими прениями и газетного полемикою: собственно так называемая литература всегда имела только второстепенное влияние на историческое развитие этой страны. Таково же было положение литературы почти всегда, почти у всех исторических народов" [295]295
Там же, стр. 586.
[Закрыть].
Чернышевский знает лишь очень не много случаев, составляющих исключение из указанного им общего порядка. Между этими немногими случаями одно из самых важных мест занимает немецкая литература второй половины XVIII и первых годов XIX века: "От начала деятельности Лессинга до смерти Шиллера, в течение пятидесяти лет, развитие одной из величайших между европейскими нациями, будущность стран от Балтийского до Средиземного моря, от Рейна до Одера, определялась литературным движением. Участие всех остальных общественных сил и событий в национальном развитии должно назвать незначительным сравнительно с влиянием литературы. Ничто не помогало в то время ее благотворному действию на судьбу немецкой нации; напротив, почти все другие отношения и условия, от которых зависит жизнь, не благоприятствовали развитию народа. Литература одна вела его вперед, борясь с бесчисленными препятствиями" [296]296
Тамже, стр. 586–587.
[Закрыть].
Такой же исключительно важной представлялась, по-видимому, Чернышевскому и роль русской литературы со времени Гоголя. До Гоголя литература эта находилась еще в тех периодах своего развития, которые можно назвать подготовительными: каждый предыдущий период имел в ней значение не столько по безусловному достоинству ознаменовавших его литературных явлений, сколько по тому, что подготовлял собою следующий период. Чтобы пояснить эту его мысль, достаточно будет указать, как понимал он отношение Пушкинского периода нашей литературы к Гоголевскому. На Пушкина он смотрел совершенно так, как смотрел на него Белинский в последний период своей деятельности. Он очень высоко ставил его поэзию, но считал ее преимущественно поэзией формы. Выработка совершенной формы и была той исторической задачей, которая выпала на долю Пушкинского периода нашей литературы. Когда задача эта была решена, в нашей литературе начался новый период, ознаменовавшийся тем, что главным делом стало содержание, а не форма, как это было прежде. Этот период связывается с именем Гоголя. В течение Гоголевского периода наша литература начала становиться тем, чем она должна быть, т. е. выражением народного самосознания. В том же направлении она развивалась и потом, когда под влиянием Гоголя у нас возникла так называемая натуральная школа. Чернышевский очень высоко ценил это новое направление в нашей литературе. Однако оно далеко не вполне удовлетворяло его. В своих «Очерках Гоголевского периода русской литературы» он оговаривается:
"Чтобы не подать повода к недоразумению, будто мы без меры превозносим новое на счет старого, скажем здесь кстати, что и настоящий период русской литературы, несмотря на все свои неотъемлемые достоинства, имеет существенное значение более всего только потому, что служит приготовлением к дальнейшему будущему развитию нашей словесности. Мы настолько верим в лучшее будущее, что даже о Гоголе, не сомневаясь, говорим: будут у нас писатели, которые станут настолько же выше его, насколько выше своих предшественников стал он. Вопрос только в том, скоро ли придет это время. Хорошо было бы, если б нашему поколению суждено было дождаться этого лучшего будущего" [297]297
Сочинения, т. II, стр. 172, примечание.
[Закрыть].
Утверждая, что литература должна быть выражением общественного самосознания, Чернышевский высказывает ту мысль, которая, перейдя к нам из Германии, уже со времен Надеждина и Белинского играла большую роль в нашей литературной критике. Но у него она сразу принимает свойственный всем "просветительным" периодам рассудочный характер. Собственно говоря, нет такой литературы, которая не служила бы выражением самосознания общества или данного слоя общества, ее породившего. Даже в те эпохи, когда безраздельно владычествует так называемая теория искусства для искусства, и когда художники, по-видимому, поворачиваются спиною ко всему тому, что имеет какое-нибудь отношение к общественным интересам, литература не перестает выражать вкусы, взгляды и стремления господствующего в обществе класса. Тот факт, что в ней получает преобладание названная теория, свидетельствует лишь о том, что в господствующем классе или, по крайней мере, в той части его, к которой обращаются художники, царствует индифферентизм по отношению к великим общественным вопросам. Но и такой индифферентизм представляет собою лишь одну из разновидностей общественного (или классового, или группового) настроения, т. е. сознания. В этом смысле несомненно, что наша литература Пушкинского или даже Карамзинского периода выражала собою наше общественное сознание. Но, по Чернышевскому, она начинает выражать его лишь со времен Гоголя. Только с этих пор наши художники перестают, по его словам, заниматься исключительно формою своих произведений и начинают придавать значение их содержанию. Это кажется несправедливым, потому что ведь нельзя же думать, что Пушкин был равнодушен к содержанию, например, своего "Евгения Онегина". Но между "Евгением Онегиным", с одной стороны, и "Ревизором" или "Мертвыми душами", с другой, есть огромная разница в отношении художника к изображаемым явлениям. Пушкин не прочь пожурить своих героев за их светскую пустоту, ограниченность, эгоизм и т. д.; но в его «Онегине» нет даже намека на то коренное отрицание изображаемого им общественного быта, какое находится, хотя и без ведома автора, в названных произведениях Гоголя. Вот этот-то элемент отрицания старых общественных порядков и называется у Чернышевского началом общественного самосознания. Если он ожидал в будущем, как мы только что видели, появления таких писателей, которые станут настолько же выше Гоголя, насколько Гоголь был выше своих предшественников, то это было у него равносильно убеждению в том, что со временем наши великие художники далеко превзойдут автора «Мертвых душ» сознательностью своего отрицательного отношения к устарелым общественным и семейным порядкам. Самой главной обязанностью литературной критики являлось, в его глазах, распространение в среде художников этой сознательности. Чем больше стала бы эта сознательность распространяться между русскими художниками, тем более созревала бы наша литература для той великой роли, которую она должна была, по мнению Чернышевского, сыграть в тогдашнее переходное время.
Впоследствии Писарев приписал Чернышевскому намерение разрушить эстетику. Он ошибся. Как далек был от такого намерения Чернышевский, показывают следующие строки из его статьи о "Пиитике" Аристотеля, вышедшей в 1854 году в русском переводе Ордынского ("Отечественные Записки", 1854 год, № 9). "Эстетика – наука мертвая! Мы не говорим, чтоб не было наук живей ее; но хорошо было бы, если б мы думали об этих науках. Нет, мы превозносим другие науки, представляющие гораздо менее живого интереса. Эстетика наука бесплодная! В ответ на это спросим: помним ли мы еще о Лессинге, Гете и Шиллере, или уж они потеряли право на наше воспоминание с тех пор, как мы познакомились с Теккереем? Признаем ли мы достоинство немецкой поэзии второй половины прошедшего века?" [298]298
Сочинения, т. I, стр. 28–29.
[Закрыть].
Задавая порицателям эстетики иронический вопрос о том, признаем ли мы достоинство немецкой поэзии второй половины XVIII столетия, Чернышевский как бы напоминает им, что бывают эпохи, когда литература играет великую общественную роль. Но немецкая литература указанного периода вовсе не была равнодушна к эстетическим вопросам. Напротив, она очень много занималась ими в то время, и только потому, что она много занималась ими, она могла с успехом исполнить великую роль, выпавшую на ее долю. Не надо забывать, что самым замечательным деятелем в немецкой литературе этого времени был, по мнению Чернышевского, Лессинг: "Все значительнейшие из последующих немецких писателей, даже Шиллер, даже сам Гете в лучшую эпоху своей деятельности, были учениками его" [299]299
Сочинения, т. III, стр. 589.
[Закрыть]. А Лессинг был, главным образом, теоретиком литературы и искусства; область, в которой он сделал больше всего, была областью эстетики.
Чернышевский говорит, что если поэзия, литература, искусство признаются предметами большой важности, то и общие вопросы теории литературы должны иметь огромный интерес. "Словом, – прибавляет он, – нам кажется, что весь спор против эстетики основывается на недоразумении, на ошибочности понятий о том, что такое эстетика и что такое всякая теоретическая наука вообще" [300]300
Сочинения, т. I, стр. 28.
[Закрыть].
Чернышевский спрашивает читателя: "кто по вашему мнению выше: Пушкин или Гоголь?". Решение этого вопроса зависит, по его словам, от понятия о сущности и значении искусства. И эти понятия получают правильный вид еще в сочинениях Аристотеля и Платона. Вот почему Чернышевский и находит нужным ознакомить читателя с эстетическими теориями этих мыслителей. В качестве решительного противника философского идеализма наш автор, разумеется, не мог сочувствовать философии Платона, взятой во всей ее совокупности. Но это не мешало ему с горячим сочувствием относиться к той точке зрения, с которой смотрел на искусство великий греческий идеалист.
Чернышевский говорит: "не с ученой или артистической, а с общественной и нравственной точки смотрел он на науку и искусство, как и на вое. Не человек живет для того, чтобы быть артистом или ученым (как думали многие великие философы, между прочим, Аристотель), а наука и искусство должны служить для блага человека" [301]301
Там же, стр. 13.
[Закрыть].
И эта точка зрения должна была, по словам нашего автора, привести Платона к отрицательному взгляду на искусство, которое в его время почти исключительно служило забавою, прекрасною и благородною, но все-таки забавою для людей, которые от нечего делать любовались на более или менее сладострастные картины или статуи и упивались более или менее сладострастными стихами. Вопрос об искусстве решался для Платона именно тем фактом, что оно было не более, как забава. И, когда Платон видел в нем простую забаву, он не клеветал на него. В доказательство этого Чернышевский ссылается на "одного из серьезнейших поэтов", Шиллера, который, конечно, не враждебно относился к искусству. По мнению Шиллера, Кант совершенно справедливо называет искусство игрою (das Spiel), потому что, только игран, человек вполне человек.
Чернышевский находит полемику Платона против искусства чрезвычайно суровою; но он видит в ней много верного. "И легко было бы показать, – замечает он, – что многие из строгих обличений Платоновых продолжают быть справедливыми и в отношении к современному искусству" [302]302
Там же, стр. 32.
[Закрыть]. Едва ли нужно прибавлять, что этим обстоятельством в весьма значительной степени объясняется его горячее сочувствие к строгим Платоновым обличениям.
Платон восставал против искусства за его бесполезность для человека. Наш автор не менее Платона готов порицать бесполезное для человека искусство. По его мнению, та мысль, что искусство и не должно быть полезным, что оно существует само для себя, "есть такая же странная мысль, как "богатство для богатства", "наука для науки" и т. д. Все человеческие дела должны служить на пользу человеку, если хотят быть не пустым и праздным замятием: богатство существует для того, чтоб им пользовался человек, наука для того, чтоб быть руководительницею человека; искусство также должно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на бесплодное удовольствие" [303]303
Там же, стр. 33.
[Закрыть].
В чем же заключается польза, приносимая человеку искусством?
Обыкновенно говорят, что эстетические наслаждения смягчают сердце и возвышают душу человека. Чернышевский считает эту мысль справедливою, но он не хочет выводить из нее серьезное значение искусства. Конечно, он согласен с тем, что, выходя из картинной галереи или из театра, человек чувствует себя добрее и лучше, по крайней мере, на то непродолжительное время, пока не изглаживаются полученные им эстетические впечатления; но он напоминает, что ведь сытый человек добрее голодного. Стало быть, с этой стороны нет разницы между влиянием искусства и тем влиянием, которое имеет на человека удовлетворение его физических потребностей. "Благодетельное влияние искусства как искусства (независимо от такого или иного содержания его произведений), – говорит Чернышевский, – состоит почти исключительно в том, что искусство – вещь приятная; подобное же благодетельное качество принадлежит всем другим приятным занятиям, отношениям, предметам, от которых зависит "хорошее расположение духа". Здоровый человек гораздо менее эгоист, гораздо добрее, нежели больной, всегда более или менее раздражительный и недовольный, хорошая квартира также больше располагает человека к доброте, нежели сырая, мрачная, холодная; спокойный человек (т. е. находящийся не в неприятном положении) добрее, нежели раздосадованный и т. д." [304]304
Там же, стр. 33.
[Закрыть]. При внимательном отношении к делу нетрудно убедиться, что польза, приносимая искусством как одним из источников довольства, хотя и несомненна, но все-таки ничтожна в сравнении с пользою, приносимою другими благоприятными отношениями и условиями жизни. И не в этом заключается великое значение искусства. Оно заключается в том, что искусство распространяет в массе людей, так или иначе заинтересованных им, большое количество сведений; что оно знакомит их с понятиями, вырабатываемыми наукой. Впрочем, говоря это, Чернышевский имеет в виду собственно поэзию, – которую он называет самым серьезным из искусств, – потому что другие искусства очень мало делают, по его замечанию, в указанном смысле. Без всякого сомнения, только очень немногие беллетристы задаются целью распространять знание между своими читателями. Но так как они по своему образованию все-таки стоят выше, нежели большинство их читателей, то эти последние все-таки узнают многое из их произведений. Чернышевский убежден в том, что даже самые пошлые беллетристические произведения значительно расширяют у своих читателей круг свойственных им знаний. «Забавляя» читающую публику, поэзия приносит пользу ее умственному развитию. Вот почему она приобретает серьезное значение в глазах мыслителя. И вот почему она, вопреки Платону, имеет это значение даже тогда, когда не заботится о нем.
Итак, Чернышевский вовсе не разрушает эстетики. Напротив, он опирается на нее для того, чтобы выяснить художникам великое значение искусства, заключающееся в распространении тех понятий, которые вырабатываются наукою. Другими словами: наш автор не разрушает эстетики, а только подвергает коренному пересмотру ее теорию. После того, что мы от него слышали о Платоновом взгляде на искусство, мы без труда поймем, почему он нашел нужным и полезным сослаться на своих "великих учителей в деле эстетического суда", – Платона и Аристотеля, – при решении вопроса, кто выше: Пушкин или Гоголь. И нас уже совсем не удивят следующие строки: "Если сущность искусства действительно состоит, как нынче говорят, в идеализации; если цель его – доставлять сладостное и возвышенное ощущение прекрасного, то в русской литературе нет поэта равного автору "Полтавы", "Бориса Годунова", "Медного Всадника", "Каменного Гостя" и всех этих бесчисленных, благоуханных стихотворений; если же от искусства требуется еще нечто другое, тогда…" – Чернышевский прерывает эту свою фразу недоумевающим вопросом от имени читателя, предубежденного в пользу старых эстетических понятий: "Но в чем же, кроме этого, может состоять сущность и значение искусства?" [305]305
Там же, стр. 29.
[Закрыть]. Мы знаем, в чем состоят они, по мнению Чернышевского, и мы сами можем дополнить прерванную фразу: Если цель искусства состоит не только в том, чтобы доставлять сладостные к возвышенные ощущения прекрасного, то «Ревизор» и «Мертвые души» выше «Каменного гостя» и «Полтавы», и Гоголь выше Пушкина, а те писатели, которые превзойдут Гоголя сознательностью своего отношения к жизни, будут еще выше Гоголя. По поводу изложенного здесь взгляда, г. Скабичевский писал впоследствии в своей «Истории новейшей русской литературы»:
"Это отождествление искусства с наукой и придание искусству служебной роли иллюстрирования научных, философских и публицистических изысканий было роковою ошибкою, которая повела за собою весьма крупные последствия. Первым делом, она вывела критику из той роли, которая наиболее ей свойственна как ценительнице художественных произведений и которую критика исполнила с таким блестящим успехом в эпоху Белинского… Но затем теория тождества науки и искусства и служебной роли последнего по отношению к первой, воспринятая молодыми и незрелыми умами, последовательно, по наклонной плоскости, должна была дойти до полного отрицания искусства, что мы и видели в публицистах "Русского слова", с Писаревым во главе" [306]306
Стр. 65–66.
[Закрыть].
Приписав Чернышевскому «теорию тождества науки и искусства», г. Скабичевский с изумлением спрашивает: «в таком случае, какую же роль должна играть так называемая творческая фантазия?» [307]307
Там же, стр. 65.
[Закрыть]. И нельзя не согласиться, что "в таком случае" для творческой фантазии в самом деле не было бы места. Но «такой случай» придуман самим г. Скабичевским. Чернышевский вовсе не «отождествляет» искусства с наукою. Как человек, знакомый с эстетикою Гегеля, он, подобно Белинскому, прекрасно понимает, что ученый излагает свою мысль с помощью логических доводов, между тем как художник воплощает ее в образах, т. е. прибегает к «творческой фантазии». И г. Скабичевский не сделал бы своей ошибки, если бы он в свою очередь лучше знал те философские источники, из которых почерпали свои эстетические взгляды Белинский и Чернышевский.
Возьмем пример. Роман "Что делать?" более чем на целой половине своих страниц проповедует те же самые мысли, какие излагает статья "Антропологический принцип в философии". Но в романе мысли эти воплощаются в образах, а в статье они доказываются с помощью логических доводов. Ясно, стало быть, что когда Чернышевский взялся за роман, он должен был обратиться к своей творческой фантазии. Мы знаем, что, по мнению многих, Чернышевский обнаружил в своем романе мало творческой силы, но это уж вопрос другой, нас здесь не касающийся и решаемый, мимоходом сказать, большинством читателей крайне легкомысленно: Чернышевский сам заявил, что у него совсем нет никакого художественного таланта, и этому поверили слишком охотно. В действительности, его роман не лишен некоторых, правда небольших, художественных достоинств; в нем много юмора и наблюдательности; наконец, он пропитан таким горячим энтузиазмом к истине, что он и до сих пор читается с большим интересом. Нужно много предубеждения, основывающегося на распространенных у нас теперь и в корне ошибочных эстетических теориях, чтобы презрительно пожимать плечами по поводу этого романа, как это делают многие из нынешних, даже "передовых" читателей. Но, повторяем, это вопрос другой. Несомненно то, что в романе Чернышевский апеллировал к своей творческой силе, а в статье – к своей логике. Этого достаточно, чтобы обнаружить перед нами, как грубо ошибся г. Скабичевский.
А впрочем, приведем еще пример. Толстой в таких своих произведениях, как "Смерть Ивана Ильича" или "Хозяин и работник", без всякого сомнения, хотел изложить те самые взгляды, к которым он пришел, размышляя над "смыслом жизни". Но, излагая эти взгляды, он, – подобно тому, как это сделал Чернышевский в своем романе, – прибегал к своей творческой фантазии, а не к тем или другим теоретическим доводам. Ну, и что же? Кто скажет, что Толстой не дал развернуться своей творческой силе в этих своих сочинениях? Кто откажется отнести их к числу самых выдающихся художественных произведений? Г. Скабичевский видит отождествление там, где отождествления не было и в помине.
Совершенно неудовлетворительна, по своей крайней неопределенности, и та мысль г. Скабичевского, что мнимая ошибка Чернышевского вывела критику из той роли, которую она играла в эпоху Белинского. Этот последний в самом деле был "ценителем художественных произведений". Но эстетическая теория Чернышевского, – как таковая, – отнюдь не исключает их оценки. Справедливо то, что критики, ее державшиеся, склонны были забывать вопрос о художественных достоинствах разбираемых ими произведений, сосредоточивая главное свое внимание на идеях этих произведений. Справедливо и то, что, например, у Писарева эстетическая теория Чернышевского получила карикатурный вид. Но это объясняется общественными условиями того времени, в которых Чернышевский, разумеется, совершенно не повинен. Сама по себе, его эстетическая теория не исключала интереса к эстетическим достоинствам художественных произведений. Этого достаточно для того, чтобы показать нам, как неловко подошел г. Скабичевский к ее критике.
Одной из главных отличительных черт эстетической теории Чернышевского является та мысль, что "прекрасное" не исчерпывает собою содержания искусства. Эту мысль он подробно развивает в своей диссертации об "Эстетических отношениях искусства к действительности" и к ней же не раз возвращается он в своих "Очерках Гоголевского периода русской литературы".
"В каждом человеческом действии, – говорит он там, – принимают участие все стремления человеческой натуры, хотя бы одно из них и являлось преимущественно заинтересованным в этом деле. Потому и искусство производится не отвлеченным стремлением к прекрасному (идеею прекрасного), а совокупным действием всех сил и способностей живого человека. А так как в человеческой жизни потребности, например, правды, любви и улучшения быта гораздо сильнее, нежели стремление к изящному, то искусство не только всегда служит до некоторой степени выражением этих потребностей (а не одной идеи прекрасного), но почти всегда произведения его (произведения человеческой жизни, этого нельзя забывать) создаются под преобладающими влияниями потребностей правды (теоретической и практической) любви и улучшения быта, так что стремление к прекрасному, по натуральному закону человеческого действования, является служителем этих и других сильных потребностей человеческой натуры. Так всегда производились все создания искусства, замечательные по своему достоинству. Стремления, отвлеченные от действительной жизни, бессильны; потому, если когда стремление к прекрасному и усиливалось действовать отвлеченным образом (разрывая свою связь с другими стремлениями человеческой природы), то не могло произвесть ничего замечательного даже и в художественном отношении. История не знает произведений искусства, которые были бы созданы исключительно идеею прекрасного: если и бывают и бывали такие произведения, то не обращают на себя никакого внимания современников и забываются историею, как слишком слабые, – слабые даже и в художественном отношении" [308]308
Сочинения, т. II. стр. 213–214.
[Закрыть].






