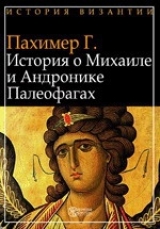
Текст книги "История о Михаиле и Андронике Палеофагах"
Автор книги: Георгий Пахимер
Жанры:
Античная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
13. Еще же больше было таких, которые предлагали свое мнение в пользу слепца. «Справедливо ли поступим мы, говорили они, в отношении к этому пришлецу, – Иоанн ли он, или нет? Приняв его, мы полагали за него свои души, бросали и жен и собственность, только бы спасти человека, искавшего нашей защиты: как же теперь переменимся и выдадим его? Что скажем в свое оправдание тем, которые будут укорять нас в предательстве? То ли, что он увлек нас против воли? Но мы решились страдать за своего повелителя по собственному желанию. То ли, что он возмутил наше спокойствие? Но за наше усердие всякий укорит скорее нас, чем его. То ли, что он выдал себя за царя и прибег к нашей защите? Но, во-первых, кто же в этом деле знает правду? Они, вместо истинного, легко могут показать другого и обмануть нас: и, однако ж, как убедиться, что это будет другой, а не истинный? Во-вторых, пусть и так: но ведь всем свойственно приобретать большее, и старающемуся о большем вожделенно получить его. Если же это справедливо, то и величие дает немалую пищу честолюбию. Как же мы, слагая с себя укоризну в том, что вдруг принялись за дело и решились на опасность, положим пятно на него, и вместо того, чтобы спасать его, предадим на величайшую опасность? Да хотя бы он и в самом деле совершил нечто страшное, – один уже умоляющий вид его должен расположить нас в его ползу: ибо мы обязаны смотреть не на то, чему подвергается он, а на то, что делать нам». Когда это было сказано, – некоторым выдать просителя показалось делом крайне бесчестным. Непрестанно вести войну, думали они, и опасно и нелепо (ибо нельзя же было преодолеть всех, а не преодолев необходимо было воевать); но и примириться под условием выдачи странника находили они делом преступным и, в отношении к этому пришлецу, очень несправедливым, если бы вверившись им, он предан был смерти. Итак, избран средний путь: они отказались выдать самозванца и соглашались, если угодно, заключить мир без этого условия; а не то, – положили сражаться до конца. Между тем время шло, и тогда как одни не могли ничего сделать, а другие не знали, что отвечать, пришлецу позволено было бежать к персам, с которыми заключены условия и взято клятвенное обещание, что он не пострадает. С поселянами, заключившими мир, военачальники обошлись кротко, а с прочими поступили жестоко, наказали их налогами тяжкими и большими, чем какие могли они выставить; изгнать же их из той страны, – хотя и рады были бы подвергнуть их такому великому наказанию, – не решились, чтобы те высоты не остались без поселенцев, могущих удерживать набеги персов. Окончив так дело с трикоккиотами [51]51
Горные жители назывались трикоккиотами, вероятно, от имени занимаемой ими страны. У Птолемея и Страбона есть τρικόριον и τρικόρνιον, но τρικόκκιον не встречается.
[Закрыть] и союзниками их, войска возвратились домой.
14. Между тем событие с юным Иоанном, слишком важное для того, чтобы могло оставаться скрытым, наконец, дошло и до сведения патриарха. Услышав о совершившемся, он принял известие с негодованием, не знал, что делать, и не мог удержаться от скорби. Рассудив, что ему о таких делах не безопасно молчать и оставить виновного без наказания, он пригласил к себе бывших при нем иерархов, горько жаловался прежде всего на то, что его обманули, изъявлял свое негодование, что чрез нарушение клятв попираются божественные законы, и, наконец, спрашивал, что следует делать, чтобы ложь не посмевалась над истиною и преступник не считал себя счастливым, не получив наказания. «Мы должны», говорил он, «сделать со своей стороны справедливое, хотя бы это было и понапрасну, лишь бы только, негодуя на совершившееся преступление, выразить нам ненависть к злу». Когда патриарх высказал это, бывшие при нем крайне вознегодовали и показали омерзение к такому поступку, но объявили, что все зависит от него и что они последуют за ним, какую бы меру он ни придумал. Припоминая данные клятвы, патриарх стенал и, присовокупив, что после этого не станут и другие исполнять то, к чему обязались под клятвою, принял на себя один сделать, что следовало. Он хотел наказать не телесно (это было бы ему несвойственно), но сколько нужно подействовать на душу, и от этого не отказывался. А такое наказание обыкновенно производится мечом духовным, т. е. словом Божиим, которое отделяет достойного от недостойного, и одного благословляет, а другого отлучает от целости тела Христова. Решив это в самом себе, тогда как и другие были убеждены в справедливости его решения, и только удерживались страхом, как бы не сделано было с ними какого насилия, он чрез посланных обличил преступника и вместе, в наказание его души, объявил ему отлучение. Здесь иной мог бы укорить патриарха за сделанное; так как в его поступке не соблюдено формальности: но с другой стороны он мог быть и оправдан; так как поступить иначе не представлялось никакой возможности. Возможность укоризны представлялась в том, что, наложив на царя отлучение, патриарх дозволил, однако ж, клиру петь для него, так что чрез священнодействие и сам находился в общении с ним, даже сам священнодействовал, и на литургии открыто поминал того, кого связал духовными узами. А оправданием ему служит то, что для такого лица достаточно было и этого наказания; потому что, если бы прибавить нечто больше того, то угрожала бы опасность привести все в хаос, как это было в Эмпедокловой [52]52
Эмпедоклова сфера есть образное представление философской системы Эмпедокла. Идея его философии была такова, что всякое образование в мире или сферосе (шаре) производится чрез борьбу любви и вражды, и потому в нем нет покоя, но беспрестанная война. Вражда стремится все отделять и разъединять, а любовь все разъединенное сдружает и соединяет. Разумеется, что чрез взаимодействие этих враждебных начал мир или сферос должен держаться в хаотическом состоянии. Такой хаос, по мысли Пахимера, был бы и в Римской империи, если бы патриарх прервал всякое сношение с Палеологом.
[Закрыть] сфере, и самовластного царя вызвать на что-нибудь безумное. Ведь, если бы большой дом с трудом переносит малое несчастье, а малый – великое; то на величайший дом наложить величайшее несчастье, не смягчив его надлежащим образом, значило бы, чрез унижение его гордости, сделать ему немалый вред, что могут засвидетельствовать Эдиподы, пиршества Фиеста и путешествия Одиссея. Когда патриарх наказал царя за его преступление, – он волею-неволею принял наказание и, уступив место справедливому гневу, молчал, не бранился (да и не следовало), а только оправдывал, как мог, свои поступки. Покорившись неизбежной необходимости, он старался скрывать свою досаду и просил себе времени для покаяния, после которого мог бы получить прощение; ибо надеялся, что если немножко помолчит, а потом покажет вид, что раскаялся, и станет просить разрешения, то разрешение тотчас же и последует.
15. Между тем свои дела исправлял он с некоторою сдержанностью. Червь совести точил его сердце, как кость, и он казался смиренным, хотя, боясь подвергнуться презрению и лишиться необходимого влияния, считал нужным выказывать царское величие. Флот его плавал и трииры, приставая к островам, немало их взяли; взятые же, быв немедленно ограждены крепостями, из подданства латинянам переходили во власть римлян. В числе таких островов был взят Наксос, завоеван Парос, приобретены в разные времена Кос и Карист с Ореем, заняты также, между прочим, высоты Пелопоннеса близ Монемвасии и, вместе с Спартою и Лакедемоном, присоединены к Римской империи.
16. Тогда царь, братьям своим вверив области западные, а деспоту Иоанну войска восточные вместе с скифским, приказал им занять некоторые места на суше, проследить земли иллирийцев и трибаллов, проникнуть до берегов Пенея, сделать набег на собственно так называемую Элладу и сразиться с деспотом Михаилом. Теперь деспоту уже нельзя было ссылаться на то, что, так как царь находится вне отечества, то подданный его имеет право владеть теми местами. А севастократора Константина посадил он на корабли и послал в Монемвасию, передав ему все, что в римском войске было из Македонии и Персии; ибо войско итальянское, негодное для войны с итальянцами, повел с собою деспот. С деспотом находились и другие многие вельможи, и Михаил Кантакузин, бывший впоследствии великим коноставлом, и племянники его – Тарханиоты, и несколько иных, присовокупившихся к царю, западных сановников. А с севастократором были, кроме прочих, великий доместик, Алексей Филес, а вместе с ним и Макрин, тогдашний царский постельничий. Флот весною поплыл в Арктур и во многом имел успех. Его вели Филантропин и протостратор Алексей, муж почтенный и храбрый, не возведенный еще на степень великого дукса только потому, что другой тогда имел это достоинство, – брат прежнего царя Ласкариса, уже престарелый и дряхлый, живший в Константинополе и спокойными своими советами, сколько мог, помогавший Михаилу в управлении общественными делами. Филантропин же был ближний царя, потому что племянник его, сын Марфы, Михаил, женат был на его дочери. Он управлял морскими силами и, снарядив флот, весною поплыл в море, впоследствии же, по смерти Ласкариса, «в воздаяние за свои труды», как будет сказано, получил достоинство великого дукса. Так эти-то трое, управляя каждый своею частью, устрояли в то время дела запада. Деспот теснил деспота Михаила и отнимал у него область, как издавна принадлежавшую империи. Прежде мог он ссылаться и ссылался на то, что, если сам царь не владеет царским престолом (который был в Константинополе), то нет надобности отнимать у него остальное; ибо лучше было бы отнять престол у итальянцев, чем у него страны западные, совершенно близкие и почти смежные с Фессалоникою. Так он отговаривался прежде, а теперь говорил: можно ли ему отказаться и отдать ту страну, которую предки его приобрели своими трудами, потом и едва ли не кровью, и оставили в наследство детям? Она отнята, прибавлял он, у итальянцев, а не у римлян, и потому справедливее было бы передать ее по преемству итальянцам, как приобретенное их храбростью наследство; ибо хорошо сказано, что нет ни у кого собственности, кроме той, которая приобретена оружием. В таких состязаниях проводили время вверенные деспоту римские войска. А севастократор, находясь в Монемвасии и ее окрестностях, ежедневно сражался с принцем, потому что не довольствовался частью острова, но хотел владеть всем и, пользуясь содействием великого доместика Филеса и постельничего Макрина, подвизался, сколько мог.
17. Этот постельничий был муж отличный, воинскими делами приобрел известность у самых врагов и внушал им страх; так что, когда севастократор удалился оттуда, управление войском вверено было тем мужам, и они в сражении часто имели успех; но однажды, потеряв битву, оба взяты были в плен. Тогда как они там содержались, великий доместик вскоре умер. Теща его Евлогия, объявляя об этом царю, выходила из себя в жалобах, что постельничий выдал ее зятя, и нарочно позволил взять себя в плен, копая яму своему товарищу; в доказательство же справедливости этого обвинения приводила то, что он условился с принцем и дал обещание жениться на дочери царя Феодора Ласкариса, которая жила там вдовою, чтобы вместе с тем предать страну принцу и противостоять царю. Эти слова Евлогии, с такими прибавлениями, показались брату ее вероятными; потому что царь и прежде слышал о постельничем много подобного. Притом обвинение подкреплялось и доблестями обвиняемого, соображая которые, можно было считать вероятным, что принц со столь отличным человеком действительно вошел в сношения и вместе с ним замыслил такое дело. А брак с дочерью бывшего царя представлялся весьма достаточным побуждением для Макрина, потому что вводил его в родство с величайшими домами и сильно раздражал гордость Михаила, начинавшего подозревать, что Макрин ненавидит свою жену. Посему, приняв вероятное за истинное, он хотел немедленно наказать Макрина, несмотря на то, что этот заключен был неприятелями в темнице. В обмен за него, выслал он к принцу важнейших итальянских вельмож и, возвратив его, ослепил. Таково было воздаяние за отличные подвиги, которые он совершил на войне в мужественной борьбе с неприятелями. Так это происходило. Между тем протостратор Алексей Филантропин, приставая со своими кораблями к островам (а на кораблях его для сражения назначено было мужественное племя гасмуликийское, называемые же проселонами [53]53
Проселонаминазывались, вероятно, матросы – προςελαύνοντες.
[Закрыть] употреблялись для гонки судов), и к тому ж имея у себя под рукою лаконцев, которых державный выселил из Пелопоннеса, опустошил с ними те острова и привез царю много неприятельского богатства.
18. Но с чего взяли, будто царь оставался дома в совершенной праздности и не занимался делами? Совсем нет. Этот человек обладал умом истинно царственным и не доводил себя до такого унижения. Он часто отправлял посольства к папе и сопровождал их дарами; потому что всегда подозревал там опасность, так как итальянцы никогда не были спокойны: обезопасив же себя, сколько мог, с этой стороны, смело принимался и за другие дела. А частыми посольствами и приемом послов смягчал он не только папу, но и многих кардиналов, и других сильных у него людей. Что же касается болгар, то царь и их не оставлял в покое, но затрагивал изблизи. Ненависть к нему Константина была очевидна; потому что Ирина подстрекала своего мужа отмстить за ее брата, отрока Иоанна, который, – о правосудие! – совершенно невинно пострадал от тайной интриги. Такая ненависть со стороны болгар заставила царя взаимно ненавидеть и их, – за царапину царапина. Когда Римская империя граничила Орестиадою и дальше не простиралась, когда по ту сторону ее были владения болгарские, царь часто посылал туда свои войска и, к удивлению, сам располагал ими: ибо где прежде случалось ему быть, там он за-знать действовал чрез посылаемых им лиц, указывая, где стать лагерем, как сразиться, откуда сделать нападение, – из засады, или открыто, днем или ночью; если же сам не знал местности, то, приказывал описывать ее людям знающим, и потом опять управлял всеми движениями, угрожая судом всякому ослушнику. Итак, часто посылая туда войска, он многое там подчинил себе, – взял Филиппополь [54]54
У Птоломея Филиппополь называется также Адрианополем и Тримонцием: но Адрианополь город отдельный от Филиппополя. Последний у Плиния называется Paronopolis, у Страбона Калибе, и находится при реке Гебре во Фракии; а у турков носит имена Филибе и Пресрем, и от Адрианополя, по направлению к Западу, отстоит на 100 миль. Hofmann. Lex.
[Закрыть], занял крепость Стенимах [55]55
Στένη или Стенеями назывались укрепленные замки в горных ущельях. По этому Стенимах, вероятно, была крепость, находившаяся в одном из ущелий Гемуса, или Балканов.
[Закрыть], – и овладел всем краем, до внешней стороны Гемуса. В то же время завоеваны были им, или, как говорили, преданы ему Мильцою большие города – Месемврия и Анхиал; да и все окрестности их, испытав однажды перемену, охотно подчинились Михаилу. Потерпев такие потери, Константин защищаться тогда не мог, однако ж, был раздражен этими обстоятельствами и выжидал времени, которое справедливо называют душою дел, – чтобы отмстить за себя достойным образом.
19. При таком ходе событий, царь, однако ж, ежедневно возмущен был духом; потому что совесть не давала ему покоя: связанный такими узами, все вменял он ни во что. Не видя ни основания к своему оправданию, ни дерзости отвергнуть суд, он в этих затруднительных обстоятельствах обратился к посредникам, – людям духовным и близким к патриарху, с усердною мольбою – снять с просителя те узы и предписать кающемуся какое угодно врачевство: он готов был исполнить все, что ни повелит ему патриарх; сделанное же раз уже невозвратимо. Явившись к патриарху, они изложили пред ним и речи царя, и многое от себя в его пользу; но патриарх не внял их прошению и даже не хотел его слышать. Я пустил за пазуху голубя, сказал он; а этот голубь превратился в змею и смертельно уязвил меня. Этими двумя противоположными животными характеризовал он одного и того же царя, указывая тем не на природу, конечно, а на душевные свойства. Кроме того, патриарх говорил и многое другое в этом роде, давая знать, что ни в каком случае не снимет отлучения с царя, хотя бы угрожали ему ужасными бедствиями, даже самою смертью. Возвратившись назад и объявив волю патриарха, посланные повергли царя еще в большую безвыходность. Тогда он, подумав, что личное ходатайство, бывает, по пословице [56]56
Эта пословица в подлиннике: ατοπρόσωπον ντιφάρμακον. Но в общем собрании греческих пословиц ее, кажется, нет.
[Закрыть], вернейшим противоядием (так повествуется в басне о Горгоне), решился идти сам и, с чувством раскаяния, просить себе разрешения. Много раз являлся он к патриарху и, когда просил его для исцеления язвы назначить врачевство, тот действительно требовал употребления врачевства, только не прямо, а прикровенно и неопределенно. Один хотел узнать ясно, что ему сделать, чтобы выполнить его требование; а другой опять говорил неопределенно: «употреби врачевство, – и я приму тебя». Но после того как царь многократно просил врачевства, а патриарх не высказывался ясно, – первый сказал ему: «Да кто знает, согласишься ли ты принять меня, если я сделаю и больше?» На это патриарх отвечал: великие грехи требуют и великого врачевания. А царь, желая проникнуть в его мысль сказал: «Что же? Не велишь ли мне отказаться от царства?» и – говоря это, для дознания его мыслей, хотел снять с себя меч и подать его патриарху. Когда же патриарх быстро протянул руку, как бы взять подаваемое, а меч еще не совсем отвязан был от бедра, – царь тотчас запел палинодию и стал укорять св. отца, говоря, что он покушается на его жизнь, если хочет этого. После сего снял он со своей головы калиптру и, не стесняясь присутствием многих, видевших это, упал к ногам патриарха. Но патриарх с гневом отверг его, не замечая, как крепко обнимал он его колена. Так-то робко преступление! Так почтенна добродетель! Когда же царь с усильною мольбою последовал за патриархом и вынуждал у него прощение, последний, вошедши в свою келию, тотчас затворил за собою двери пред самым его лицом и отпустил его ни с чем. Много раз принимаясь за такие попытки, много делая и терпя, но без всякого успеха, царь, наконец, пришел в сильный гнев и, пред многими обвиняя патриарха в жестокости, выставлял на вид, будто он велит ему оставить государственные дела, не собирать податей, не требовать пошлин, не принимать никакого участия в судопроизводстве, вообще – сложить с себя всякую власть. Так-то, говорил он, врачует нас духовный наш врач! Даже нередко прибавлял он, что если патриарх пренебрегает церковными правилами, предписывающими покаяние, то пора мне обратиться к римскому папе и у него искать помилования. В таком состоянии, раздраженный и суровый, он опять приступил к управлению государственными делами и уже не решался снова умолять патриарха, ибо знал, что не будет иметь успеха, но старался расположить обстоятельства для отмщения.
20. В то время сделал он еще одну попытку на запад. Не могло быть, нельзя было и думать, чтобы западные правители оставались в покое. Поэтому деспот Иоанн нисколько не медлил воспользоваться как митрополиею, так и географическим положением Фессалоники. Несмотря на то, что дела на востоке были трудны, царь снова посылает на запад многочисленное войско и вверяет его деспоту. Двинувшись с величайшею быстротою, деспот собрал свои силы в Фессалонике и готовился начать войну с Михаилом. Еще никто порядочно не слышал о его прибытии, а он уже давал о себе знать, – нападал на области и возвращался с богатейшею добычею. Войска его зимовали в окрестностях Вардария – с тем, чтобы, с открытием весны, снова начать нападения. Михаил объят был немалым страхом. Он уже и по одной молве боялся деспота и трепетал, припоминая участь войска итальянского, которое прислал тогда в помощь своему зятю родственник его, сын Фредерика, Манфред. Поэтому, не имея смелости противустать Иоанну, он прибег к мирным переговорам и, чрез послов умоляя деспота забыть прежний обман, уверял его клятвою в верности на будущее время. Михаил домогался также видеть его самого и просил верить в твердость и искренность личного их объяснения. Деспот принял это посольство, так как имел на то позволение от царя, и требовал от него клятвы. Потом Михаил, сошедшись с ним в назначенный день, обнял его с непритворным чувством, (хотя и в этот раз скрывал свой обман), и отпустил его домой.
21. Между тем царь, отозвав деспота Иоанна из Фессалоники, и ненадолго удержав его при себе, отправил потом с войском на восток – воевать с персами. Для этого человека война была истинным наслаждением, – делом, прямо достойным славы. Это был военачальник, в собственном смысле летучий: то он, слышно, здесь, то вдруг является там, где его вовсе не ожидали. Оставив и обоз, и многочисленные когорты, и прислугу, он, при наступлении вечера, садился на быстрых коней и перелетал туда, где присутствие его никому и на ум не приходило. А чтобы постоянным движением и тряскою на коне не изнурить тела, он обвязывал и стягивал себя широким поясом; поэтому всегда смотрел отважным храбрецом и на всех наводил страх, слышали ли о нем, или видели его; воинов же своих ласкал словами, поощрял дарами, а что важнее всего, – относился к ним не деспотически, а братски, словом – был человек набожный, кроткий, добродетельный без притворства, и щедростью на подарки превосходил всех. В то же время отличался он и целомудрием; так что никогда не слыхивали, чтобы им содержима была какая-нибудь женщина с целью наложничества, кроме одной законной жены, несмотря на то, что эта единственная его жена была ему неверна и от незаконной связи родила дочь, которую он выдал замуж за иверца Давида Мепе. Был он умерен и во всем прочем и воздержен до крайности, весьма любил порядок в доме и до всего доходил сам; оказывал истинные знаки своей благорасположенности и внимания к домашней прислуге, чем приучал ее к точному и добросовестному исправлению обязанностей; так что, по смерти его, эти слуги признаны были достойными занять важнейшие должности при дворе самого царя. А что сказать о его нестяжательности, или, лучше, презрении к деньгам? Он все отдавал своим воинам, хотя мог иметь целые бочки золота и весьма обогатиться, потому что совершал много славных войн и, во всех странах показывая опыты воинского своего искусства, мог из своих добыч многое обратить в собственность. Иные за признак величайшей мудрости принимают уменье увеличивать свое имущество, не трогая ничего чужого, и это почитают плодом крайней умеренности. А он на все предлоги к обогащению по случаю смотрел, как на жадность к богатству, и потому отвергал, ненавидел их; услаждался же одною славою, которую предпочитал всему, потому что за умершими следует только слава подвигов в настоящей жизни. Не Солонов или Ликургов закон, а закон христианского Законодателя – Христа, Творца, Владыки и Господа повелевает нам из своего имущества давать другим, и обещает за то гораздо большие блага. Так должно веровать всякому, кто верует во Христа – не потому только, что крестился в Него, а потому, что живет истинно так, как обещался. Крестившийся и уверовавший, не веруя учению Христову на самом деле, показывает, что он и прежде не веровал, хотя и высказывал свою веру. Закон Христов обещает воздать нам сторицею за всякое дело благотворительности. Да и помимо этой награды, одна вечная слава, – даже судя по-человечески, – сильна убедить благоразумного человека – не предаваться любостяжательности, но раздавать свое имущество нуждающимся. Я исключаю отсюда заботливость людей – сберегать часть своего имения на необходимые нужды, особенно, когда не представляется случая раздать его другим. Так-то деспот Иоанн рассуждал об этом предмете и свои мысли старался осуществить на деле. Но впоследствии окружили его единомышленники монаха Нила, который пришел из Сицилии и, ко вреду римского государства, стал учить людей быть воздержными и осторожными в деле благотворительности, чтобы кто-нибудь, обладая достаточным имуществом, и только притворно выпрашивая себе милостыню у нищелюбца, не умеющего располагать своим богатством, не стал его порицать, а щедрости его, вместо того, чтобы она заслуживала награды, не сделал напрасною. Отсюда выходило, что никто не должен давать людям, имеющим что-нибудь; а этот закон, благовидно запрещая всякое сочувствие, способствовал к ослаблению закона милосердия. Как можно судить об этом, смотря на людей в пределах своего времени? Деспот, кроме других похвальных качеств, отличался и любовью к монахам: посему, когда эти единомышленники Нила входили в его дом, он принимал их, как друзей добродетели, и следуя их учению, начинал, при раздаче милостыни бедным, обнаруживать мало-помалу некоторое смущение. Таков-то был этот человек: он имел сердце юное и видимо заботился о благостоянии римского государства. Так как дела на востоке в то время были в худом состоянии, то он быстро перенесся на места, лежащие по Меандру. Там под наблюдением и охранением деспота были многие и великие обители. Некоторыми из них еще прежде овладели персы, потому что тамошние жители от царей отложились. Не говоря о других, я укажу на Стравил и Стадиотрахию, возвращение которых сделалось невозможным, так что нельзя было и пытаться удержать их. Но в каком числе ни находились они по Меандру, в окрестностях Траила, Кайстра, и во внутренней Азии, все он силою оружия удержал и обезопасил. Равным образом, восстановил он и привел в безопасное состояние магедонитов, которым повредило то, что когда многие из них уведены были оттуда в рабство на запад, на прочих персы стали нападать смелее. Многие из них были ловкими стрелками и способными воинами. Поэтому деспот воодушевил их золотом и одарил почетными титулами. Персы, узнав об этом походе на них деспота, сильно испугались и, обратившись назад, скрылись в своих ущельях. Отказавшись противостоять римлянам, они прислали посольство, возвратили пленников, и рады были, что спаслись. Деспот и сам вполне верил готовности их сохранить спокойствие, – не потому впрочем, что таковы были их убеждения, а потому, что если они тронутся, он снова нападет на них и победит.
Эти враги римлян не потерпели, конечно, того зла, какое нанесли соседним жителям; потому что Иоанн вовсе не считал справедливым мстить им: однако ж, принимая их прошения, он указал им границы, до которых только могли они передвигаться со своими шатрами; если же прострутся далее, то угрожал строжайшим наказанием. Таким образом деспот своим присутствием на востоке покрыл прежние неудачи тамошних правителей, а земледельцам внушил смелость беспрепятственно заниматься обделыванием полей своих.
22. В весьма жалком состоянии находились также букелларийцы, мариандины и пафлагоняне. Причиной было то, что державный общественные их деньги расточил на свадебные подарки иностранцам и на чрезмерные почести чужим народам, к которым отправлял частые посольства. В каких видах делалось это, – я не знаю; только на нужды денег не имелось. Неизвестно также, насколько справедлив был ропот некоторых, будто царь считал полезным обобрать своих подданных, подозревая их, по случаю ослепления Иоанна, готовыми к восстанию. Было ли действительно так, или только казалось; но частыми переписями он разорил восточные области. Такую экономию и уравнивание податей поручал он людям ничтожным, тогда как прежде занимались этим сановники важные. Так по Скамандру собирали подати римский кесарь и великий доместик, отец царя. Они брали деньги и привозили их в государственное казнохранилище. А теперь с пафлагонцами и их соседями произошло то, что сборы для них были обременительны – особенно по безвременности; ибо хотя, в случае урожая, хлеба у них находилось и в изобилии, но монеты не имелось, как и вообще бывает с земледельцами. Посему, они принуждены были, в счет подати, отдавать золотые и серебряные монеты, служившие для них головным украшением, и оттого делались еще беднее, а дела воинского вовсе не знали. Кто хотел бы исправить дурные наклонности корыстолюбивого народа; тому пришлось бы много трудиться, хотя бы народ при этом и ничего не терпел; а когда он терпит, удержать его от замыслов невозможно. Тамошние жители и особенно находившиеся в крепостях, терпя разного рода неприятности отсюда, и надеясь лучшего со стороны противной, если только перейдут, считали полезным переходить, и с каждым днем присоединялись к персам. Когда же таких перебежчиков оказалось немало, персы, употребляя их в качестве помощников и проводников, стали действовать на остальных уже смелее. Сначала, делая набеги, они только опустошали их землю и, награбив добычи (ибо не осмеливались еще оставаться там), возвращались домой; потом, когда одни склонялись на их сторону, а другие, опасаясь за жизнь, переселялись оттуда, нашим противникам было уже легко, – и они, овладев целою страною, производили нападения на соседей. Когда слух об этом доходил до ушей царя, он не позаботился помочь тому краю, но думал, что может возвратить его, лишь только захочет, так как он под рукою, и презирая то, что было перед ним, все свое внимание устремлял на запад. Всегда бывает так, что люди, по привычке, пренебрегают тем, что уже в руках, и стараются искать другого, чем еще не владеют, и что, по своей новости, кажется особенно привлекательным.
23. Между тем как они таким образом бедствовали, по направлению с запада к востоку, от весны до осени, появлялась комета [57]57
Комета, о которой говорит здесь Пахимер, была видима на всей земле и весьма занимала тогдашних астрономов. О ней говорят: Theodor in vita Urbani IV; Supplementum Parsiense Rigerdi c. 175. Uillamus 1. 6. с. 7; s. Antonin. tit. 19 in fin. Bernardus Guido in Chron, Magnum chronicum Belgicum in Urbano. IV. Palmerius in chronic. etc. Все сведенья этих писателей собрал Генрих Спондан in Contin. Annalinm, anno 1264 (ибо в этом году она появилась) n. 8. Он говорит так: «Видима была комета, которая поднимаясь с востока, протягивала свой хвост до средины полусферы, по направлению к западу и, достигая большей величины в месяцы июль, август и сентябрь (почти от весеннего до осеннего равноденствия), изумляла всех людей. Особенно страшились ее в Греции. С Спонданом Пахимер не согласен здесь только в том, что, по его словам, комета двигалась не от Востока к Западу, а от Запада к Востоку, и в этом показании наш историк, по всей вероятности, ошибся, что засвидетельствовал один ученый его читатель, который, имея пред глазами список его сочинения, не мог удержаться, чтобы против этого места на полях не сделать следующего замечания: δ τοΰτο παριστορεΐ· γρ κομήτις, ώς μεΐς αΰτοπτεύσαμεν ξ νατολς τν κίνσιν έποιεΐτο, περί που τς Υάδας φαινόμεκος. ν δέ καπνώδης, δίχα διαιρμένος. Ούδ τοΰτο παριστορεΐ. ’Ίσως δ βορειότερον γς βοΰς τν βορέιων στρον, π κα α Υάδες.
[Закрыть] и своим огнем, смешанным с дымом, весьма пугала зрителей, как бы предвещая им какое-то несчастие. В самом деле, за подобными небесными знамениями едва ли не всегда следовали какие-нибудь необычайные перемены и на земле, между народами. И чем страшнее были кометы, – какова тогдашняя, тем очевиднейшее настояло бедствие. Об этом свидетельствовала и пословица: «ни одна комета не приходить без чего-нибудь». А люди знающие присоединяли к тому и стих: «она по природе зла».
Услышав о новом беспокойстве в западных областях и о производимых там грабительствах, царь собрал довольно значительные силы и двинулся с ними к Фессалонике, чтобы оттуда начать войну. Но достигнув Ксанфии, решился распустить войско по зимним квартирам. В этот промежуток времени к нему собралось несколько иерархов и начато было дело о патриархе. Некоторые из них обвиняли его в нарушении церковных правил, и потому приглашали в Ксанфию: но патриарх отправил туда двух архиереев. Не слушаясь требований царя и выжидая времени, он раз и два посылал к нему людей из своего клира, чтобы частью узнать о его здоровье, частью оправдаться и представить благовидную причину, почему он не едет. И царь со своей стороны, волею-неволею, принимал его оправдания, предлагал ему мир, посылал взаимные дружеские приветствия, и вообще – казался благосклонным. Между тем, некоторые из архиереев, как можно думать, не переставали обвинять патриарха и производили над ним суд тайно. Не должно допускать, говорил один из них в своей речи, чтобы царь – душа государства лишался покровительства Церкви; потому что такое разобщение, подобно тлетворному воздуху, заражающему здоровье, может повредить общественному благосостоянию. Тогда как державный высказывал то и сё, притворяясь, что не питает к патриарху никакого неприязненного чувства, – епископам предоставлена была свобода рассматривать его дело, как следует, применительно к поднятому о нем вопросу.
24. Между тем, в городе случилось обстоятельство, еще более возбуждавшее царя к мщению. Беда касалась и патриарха, хотя стороною, тогда как терпели другие. Когда в сане хартофилакса (а хартофилакс долженствовал вести книги о браках) был Векк, – один из священников, служивший в Фаросском храме большого дворца, совершил брак без его ведома. Услышав об этом, Векк, в наказание, запретил ему священнослужение. Такая мера показалась царю не простою эпитимиею, а прямым отлучением царского клирика. Полагая, что в этом участвовал и патриарх, он сильно раздражился, так что не мог скрыть раздражения, и свой гнев простер на всю церковь. Патриарх, кричал он, отлучив придворное священство, чрез это хотел оскорбить царское величество. Таким поступком обида нанесена самому хозяину; потому что, когда посланные хартофилаксом объявили пресвитеру запрещение, он находился во дворце. Впрочем, царь не решался высказать это самому патриарху, но всячески старался скрывать свою угрозу глубоко в душе: он мог бы огорчить патриарха; но показывая, что не расположен к мести, надеялся отмстить тем сильнее. Немедленно отправил он посла к севастократору Торникию, который был тогда правителем города, и приказал ему разрушить домы хартофилакса и великого эконома (а это был Федор Ксифилин), срыть их виноградники и, связав самих, прислать к нему. Такое приказание показывало, что лев боится собаки. У царя была мысль, что когда эти, страшась наказания, покорятся царю, то уже ничего не будет значить заставить и патриарха делать по-своему и таким образом смягчить его. Севастократор готов был уже исполнить данное ему повеление: но опальные, предвидя несчастный для себя исход этого дела, вместе с женами и детьми прибегают в храм и надеются найти там место спасения. Раздраженный, подобно льву, севастократор хотел было силою оружия исторгнуть их из храма, ибо знал, что худо ему будет, если не исполнит высочайшей воли: но вдруг приходит патриарх и, с гневом удаляя преследователя, говорит: «Зачем вы нападаете на наши глаза, руки и уши, и ищете одни ослепить, другие отсечь?» При этом он взывал к Богу и людям, что его обижают, не имея на то права, что людей, посвященных Богу, несправедливо судить мирским судом, – и севастократор, так гордо грозившийся пред тем извлечь несчастных, чтобы ни сталось, теперь стоял как вкопанный. После сего эти люди, оставаясь в храме, перестали бояться нападения; а тот возвратился домой. Исторгать виноградники ему также было не нужно, потому что их и не оказалось; да и домов коснуться он не мог, так как домы принадлежали собственно не обвиненным, а причислялись к церкви. Отраженный таким образом на всех пунктах, этот каратель посылает в Никею и исполняет повеление царя над тамошним имуществом опальных. Но его все еще беспокоило препятствие, не позволявшее ему, как было приказано, связать их и отправить. Поэтому, желая удалить их из истинного убежища, каким был для них храм, он советовал им добровольно идти к царю, а сам надеялся оправдаться пред ним частью святостью занятого ими места, частью противлением патриарха; связать же их, когда они добровольно отправляются к царю не было нужды – тем более, что избранное ими убежище, из которого вышли они по своей воле, для них не заключалось, да и патриарх, наблюдавший за ним везде, не допустил бы его до этого. Притом севастократор давал еще заметить им, что идя добровольно, они извлекут из этого и другую пользу: осужденные, видя лицо царя, необходимо увлекаются сочувствием к нему, хотя бы смотрели на него одну минуту. Такими-то и подобными речами убедил он их выйти из храма и идти к царю. Согласие их на такое путешествие одобрено было и патриархом, который надеялся, что чрез это неприятности прекратятся и окончатся примирением. Итак, напутствуемые молитвами и благословением святителя, они немедленно отправились в Фессалонику. Что было с ними в Фессалонике, когда они предстали пред лицо царя, – теперь не место говорить о том. Впрочем, всякий догадается, что им нельзя было получить больше того, что позволяли тогдашние обстоятельства; то есть, и они, подобно другим, оставили патриарха и перешли на сторону царя.








