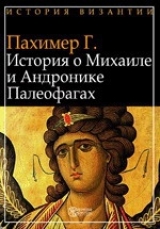
Текст книги "История о Михаиле и Андронике Палеофагах"
Автор книги: Георгий Пахимер
Жанры:
Античная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
20. Между тем царь узнал, что дела на востоке опять находятся в затруднительном положении с тех пор, как умер деспот Иоанн. Этот военачальник своею смертью внушил персам столько отваги, что они стали безнаказанно нападать на римлян и опустошать их области. Земли по Меандру, Кария и Антиохия окончательно уже погибли; внутренние же за теми области сильно ослаблены и нуждались в исцелителе; а места прилежащие к Каистру и Приэне подвергались набегам. – Неприятели грабили также окрестности Милета и, не встречая никакого препятствия, совершенно опустошили как Магеддон, так и земли пограничные. Поэтому царь счел необходимым послать туда своего сына и товарища в управлении, Андроника, с находящимися на востоке войсками. Прибыв на восток вместе с царицею и имея при себе, в числе многих других вельмож, великого доместика Михаила Тарханиота, который по матери писался Палеологом, и впоследствии возведен был в достоинство протовестиария, – также Ностонга-хранителя великой печати [123]123
Хранитель великой печати – у Пахимера παρακοιμομενος τς μεγάλης σφενδόνης т. е. царского перетня. Это был вельможа высшего ранга и, по словам Кодина (с. 4), отличался самою формою платья.
[Закрыть], и с ними великое множество людей, исправляющих различные должности, Андроник восстановил тамошние дела. Идя по берегам Меандра, увидел он величайший (в древности) город Траллы и, пленившись прекрасным его местоположением, возымел намерение восстановить этот город, возвратить в него выселившихся граждан и пригласить других, сколько можно в большом количестве, а потом восстановленному таким образом городу дать свое имя, так чтобы с этого времени он назывался не Траллами, а Андроникополем или Палеологополем. И так он вошел в это дело с величайшею заботливостью и, поручив его великому доместику, приказал восстановить город как можно скорее. Когда строители приступили к работе и успели возобновить многое, их ревность еще более увеличена была найденным там предсказанием [124]124
Это предсказание передает и Григора (I. 5 p. 67), но не вполне. Полнее изложено оно in magine Barberianae codicis, и в переводе с греческого состоит в следующем: «Вот предсказание председателя Павзания. Красота города Траллов со временем увянет; но малейшие остатки ее у народа, никем не управляемого, хотя будут под страхом, однако ж, совершенно не погибнут. Этот город возобновится могуществом мужа, соименного победе, который будет блистательно проживать восьмую эннеаду дисков, и трижды семь киклов будет прославлять город Аттала. Это, в сравнении с Ираклеею, – местечко: но ему подчинятся города запада и детски поклонятся гордые».
[Закрыть], начертанным на мраморе, что восстанет такой человек, волею которого разрушенный город приведен будет в лучшее против прежнего состояние. Это предсказание о восстановителе по всем чертам так совпадало с производимыми работами, что под благодетелем города, о котором гласило пророчество, все разумели самого царя. Поэтому царь Андроник с особенною ревностью поощрял строителей к скорейшему восстановлению его; ибо предсказание назначало восстановителю и определенное время. И они, нисколько не медля, усердно трудились над возобновлением. Между тем эти письмена оказались насмешкою и грезами; потому что из-за них суждено было погибнуть здесь целым десяткам тысяч жителей, как это видно будет из дальнейшего рассказа. Как скоро возведены были стены и величественный город на берегу прекрасной реки Меандра восстал из развалин, – надлежало отовсюду собирать жителей, чтобы он считался городом славным не по одним стенам, но и по количеству населения. Вот нашлось больше тридцати шести тысяч охотников, которые льстили себя прекрасными надеждами, что в новом месте будут жить великолепно; а не знали того, что скоро не будут иметь и самого необходимого. Главное, – у них не имелось вместилищ для воды, чтобы на всякий случай обезопасить себя от недостатка в питье, чрез собирание в них дождевой воды, или чрез наполнение их водою из реки; а найти воду в подземных ключах казалось невозможным. Причиною этого, думаю, была невязкость почвы вблизи речной влаги, которая за отсутствием в земле соков во время солнечного жара втягивается обыкновенно почвою до самой поверхности земли, и совершенно пересыхает по причине постоянного испарения земной влажности с одной стороны, и большой убыли влаги в реке – с другой; отчего она, понижаясь в уровне, уже не может приливаться к пустым местам; а течь ей ключами в глубину, также в рытвины и ко дну колодцев препятствовала поверхность земли, которая, едва лишь успеет принять притекающую влагу, тотчас истрачивает ее чрез испарения. Ведь вода, как и ветер, приводит все в движение потому направлению, какое принято вначале; так что куда потечет что-нибудь одно в этом роде, туда необходимо несется и прочее. Но тогда как по этой причине существенное там постоянно убывает, несущественное в той же мере постоянно прибывает – когда влаги в почве достаточно, – плоды питаются превосходно, зато глубже воды уже нет. Это подвергало жителей тяжким бедствиям; ибо доколе можно было пользоваться речною водою, они, не предусматривая будущего, жили беззаботно. Видно им неизвестно было, что хотя Прометей гораздо умнее Эпиметея; однако ж, того, что бывает по необходимости, рассуждениями не отвратишь.
21. Тогда как жили они беззаботно и утешались прекрасными надеждами, видя в себе граждан, находящихся под особенным покровительством царя, вдруг нападает на них толпа персов; ибо когда те думали стать выше других, эти старались противодействовать их возвышению. И так вот Салпакис, что на их языке значит мужественный, по имени Мантахиас, гордясь огромным количеством войска, приступает к городу и осаждает его. Начальник гарнизона великий хартулларий Ливадарий этою осадою поставлен был в крайнее затруднение; ибо запершиеся в городе чувствовали недостаток в продовольствии и особенно начинали страдать от недостатка в воде. Дело доходило до такой крайности, что голодные принуждены были есть запрещенную пищу, а мучимые жаждою употребляли всякие способы для отыскания какой-нибудь влаги, так что разрезывали жилы у лошадей, и пили из них кровь. Но и это не утоляло их жажды, – и они умирали толпами. С голодом можно было бороться; потому что в городе было довольно трупов падающего скота, и даже мертвых человеческих тел: они до такой степени терпели недостаток в необходимом, что касались и этого. Но против жажды, усиливавшейся больше и больше, нельзя было придумать никакого врачевства, – особенно в полдень, при палящем солнце. Поэтому нашлись такие, которые добровольно вышли к неприятелям, считая всякий другой род смерти более сносным, чем смерть от голода и жажды, и униженно просили их иссохшими губами оказать милость, но были заколоты и брошены не зарытыми, не удостоившись погребения. Персы подобным образом решились истребить и тех, которые держались еще в городе, ожидая, не придет ли откуда-нибудь помощь, или не будет ли какого-нибудь облегчения, – и покрывшись щитами, в густых рядах обступили стены. Они не обращали внимания на бросаемые сверху камни, которые страшны были только производимым ими стуком, и начали подкапывать стену ломами и заступами. Сделав много таких подкопов, они чрез то уничтожили основания стены, и вместо их положили под постройки легкосгораемые деревья; после чего стоило только бросить огонь, и стена должна была разрушиться. Осаждавшие хотели, чтобы им сдан был город на условиях и с этим предложением посылали своих вестников, обещаясь остающимся даровать спасение; но получили отказ. Тогда им ничего не оставалось, как взять его с бою. Они взяли его и разрушили до основания, несмотря на пресловутые о нем предсказания и лестные относительно его надежды; а народонаселение его, которое и исчислить было трудно, сделалось добычею меча. Это был второй подвиг персов после первого, при Ниссе, где окруженный неприятелем Ностонг испытал величайшие бедствия, потерял все свое войско и, после того, как одни пали в сражении, другие были пленены, сам попал в плен. С этого времени дерзость персов неимоверно увеличилась, и они еще сильнее стали нападать на восточные области. Между тем молодой царь провождал время в Нимфее и надеялся вскоре встретиться с отцом.
22. Желая приучить к военным делам и младшего после царя порфирородного, Константина, царь посылает его со многими опытными военачальниками на запад против возмутившихся трибаллов, которые, поручив войска некоему Котанице, отложившемуся от царя, опустошили страну до Серр. Сам же узнав о худом положении дел на востоке, и об опасностях, угрожавших областям по Сангаре, – от ее устьев до Прусы, тотчас вооружился, как мог, и переправившись чрез Босфор, остановился лагерем при подошве холма Святого Авксентия, в ожидании западного войска, которое собиралось в назначенных пунктах, чтобы идти с ним в поход. Находясь здесь, он получил от сосланного на остров Хилу Иосифа прошение о переведении его оттуда; потому что зимою в той стране, писал он, свирепствует такой холод, что если ему необходимо будет оставаться там еще, то здоровье его не перенесет приближающейся зимы: проведши там это время года один раз, он говорит по опыту. Поэтому прошению, царь пригласил Иосифа к себе и удерживал его в лагере. Это происходило в месяце мемактирионе. Они виделись каждый день по нескольку раз; державный угождал ему, с удовольствием слушал его, по его ходатайству, делал многим то, о чем его просили, а для жительства ему назначил монастырь Космидия. Поэтому и старец относился к царю кротко и дружески; так что, когда царь в шутку приглашал его на патриаршую кафедру, он отвечал: готов, если только отменено будет сделанное. Но тогда не время было отменять это: напротив, как скоро вступил на престол новый папа, Николай, – державный опять отправил туда послов; а потом посылал еще в Апулию доместика [125]125
Доместиками в церковном клире Кодин называет επιστάτας τν μελδν или ρχδν – начальниками хора, которые управляли пением после протопсалта, или хороначальника, регента. Доместиков было два: один на правом, другой – на левом клиросе. Constantin. de Admir. Imp. с. 50. Scylitz Ioh. Cantacuz. Hist. L. 1. с. 41 Domin. Macer. делит доместиков церкви на патриарших, на царских и царицыных, и на клировых. Hierolex. Hofman. Lex.
[Закрыть] церкви Мандана, или Меркурия, внушив ему обратиться к папе, если не достигнет цели посольства. Для того-то и назначены были послы церковные. Мандан схвачен был королем Карлом и задержан. Но когда узнали, что задержанный был первый проповедник [126]126
Первый проповедник у Пахимера называется Πρωτοκήρυξ; а под этим словом разумеется лицо, отличающееся не особенною способностью проповедовать, а внешним, полученным от церкви достоинством – стоять во главе проповедников. Следовательно, ΙΙρωτοκήροξ был πιστάτης τνκηρύκων, как πρωτοψάλτης πεστατεΐτο τνψαλτ ν.
[Закрыть] церкви, – папа повелел тотчас освободить его. Так поступал державный, стараясь всячески показать свою заботливость о поддержании мира. Посему во время разговоров с ним Иосифа не могло быть и речи о том деле; беседы их были просто дружеские, предрасполагавшие царя назначить Иосифу более спокойное место жительства.
23. Патриарх Иоанн не мог сдержать обещания, которое дал тому почтенному мужу, великому эконому церкви Феодору Ксифилину, – не мог утерпеть, чтобы не писать и не отвечать противникам относительно догматов, как бы там другие ни говорили. Видя, что ежедневно являются различные сочинения, в которых примиряющиеся с итальянцами подвергаются порицанию, как отступники, и притом на основании писаний, и своею твердостью возжигают гнев в других, которые и не знали, что находятся в таком опасном состоянии, Иоанн тоже решился писать и равным образом из книг доказывать, что восстановители мира между церквами нисколько не уклонились от истины, но постановили ее твердо и основали на письменных свидетельствах, не имея в виду ничего своекорыстного. Ему попадается в руки сочинение, писанное мудрейшим Блеммидом к царю Феодору, которое начиналось так: «Ищущий не вовремя и получающий вовремя», и послание к царю Болгарии Иакову, начинавшееся таким выражением: «Есть у меня болезнь, которую выскажу; ибо к священному врачу…» Встречает он и еще книгу Никиты Маронейского, очень уважаемого великою церковью, в которой он был хартофилаксом, а впоследствии – архиереем великого города Фессалоники: она в целых пяти рассуждениях раскрывала места божественных писаний, говорившие в пользу мира церквей. Воспользовавшись этими сочинениями, как основаниями, он присоединил к их содержанию очень многое и, хотя имел в виду цель, преследуемую теми писателями, однако, увлекаясь страстью излагать свои мысли, входил в предмет старательнее и все направлял к первой цели – доказать основательность предпринятого дела примирения. При этом он не останавливался на немногих ясных свидетельствах, но, по жадности, привнес много таких, которые не согласны были с прежними, так что у него выходили противоречия. С ним случилось то же, что бывает с людьми неразборчивыми в пище: приняв пищу полезную и удобоваримую, они потом наполняют желудок неполезною, и от того, вместе с этою изблевывают и ту. Что же произошло отсюда? Возникли неблаговременные распри и споры, – и главною причиною словопрения было то, что затронуты догматы. «Жалкие люди! Вам позволено рассуждать о догматах; но если они внесены в дом Господень, то здесь, что ни говорите, это – догматы. Преступно ли по необходимости напоминать о догматах тем, которые защищают догматы, тогда как не их бы дело – толковать об этом? Не думаю. – Между тем явились жалобы и некоторые из них дошли до слуха царя. Противники обещались успокоиться, если царь открыто запретит толковать о некоторых догматах, как бы кто ни содержал их. Но царю с одной стороны хотелось примирить их, с другой – ему неприятно было исполнить их требование: поэтому он излагает догматы на бумаге, считая это верным средством и отделаться от просителей, и представить принятое правило веры. Ведь о Боге, говорил он, должно чаще вспоминать, чем дышать; а догмат есть воспоминание о Боге. При этом повелено однажды навсегда возбранить уклонение от писаний. Однако патриарх не избавился от обвинений в том, что дело, утвердившееся уже долгими временами, захотел ослабить, и отложившихся подверг жестоким со стороны царя наказаниям. Благоразумие требовало, чтобы он молчал и кротко переносил порицания; тогда было бы меньше зла. Явными своими противоречиями дав пищу существовавшей вражде, он противникам открыл слабую сторону дела, а себе и своим сообщникам причинил много вреда. В то же время, узнав о свидании царя с Иосифом, и о том, что в царском лагере находится и епископ ефесский, он стал догадываться, что царь не в хорошем к нему расположении; а потому счел нужным писать Ефесскому епископу, прибавив из лести к титулу ερώτάτ (священнейшему) слово πάν (все), чтобы выходило πανιερωτάτ [127]127
Титул πανιερώτατος в византийской церкви в то время прилагаем был только к патриарху; а прочие архиереи назывались ερώτατοι. Впрочем, в литургии Златоуста и митрополит называется πανιερώτατος; при совершении ее священнодействующий громогласно взывает: μνήσθητι, κύριε, πανιερωτάτ μητροπολίτ μν τοΰ δεΐνος.
[Закрыть] (всесвященнейшему), и просил, при свидании с царем, исходатайствовать у него благосклонное соизволение на прибытие к нему патриарха; и если получится решительное приглашение, проситель будет очень благодарен за такое содействие. По получении письма от патриарха, епископ Ефесский, притворившись его другом (ибо ненависть к нему, возбужденная недавними беспокойствами, в нем еще не умолкла), докладывает царю и получает его согласие на приезд патриарха. Причины же ненависти (необходимо упомянуть и об этом) были различны; впрочем, о них мы будем говорить немного. Самое худое в этом отношении было то, что приверженцы Ефесского епископа и многие архиереи терпели сильные притеснения за несогласие принять церковный мир, пока не принуждены были подчиниться воле царя и не показали вида, будто согласны на единение, врачуя совесть не писаниями (ибо бились не из-за этого), а тем, что согласие на мир приносило тогда церкви много пользы со стороны экономической. Стало быть, в то время действовали от противного, как выражаются риторы, то есть совершали нечто худое, чтобы выходило больше хорошего. Так-то ведь и Павел, говорили они, остриг себе волосы, соблюдал обряд очищения по закону Моисееву и обрезал Тимофея; так и третий собор не отлучил Феодора Мопсуестского; так еще прежде Василий великий принял дары, принесенные в церковь Валентом. Подобных случаев, чтоб не исчислять их порознь, – приводимо было множество в доказательство законности тогдашних действий. Поэтому принимавшие мир к своему исповеданию прибавляли такие слова: если они грешат, то грех их пусть падет на того, кто рассматривал основания этого дела, и священная клятва пусть обрушится на отступников, которые ручались за его истинность. Но патриарху это не нравилось: он говорил, что и жизнь ему не в жизнь, если не докажет из писаний, что те прежние, не имевшие с латинянами общения, находились в заблуждении. Это заставило его учреждать частые соборы и, приглашая на них много людей сторонних, рассматривать с ними книги, и издавать новые сочинения. Стараясь же таким образом, сколько мог, доказать основательность церковного мира, он нечувствительно впал в излишества. Вместо того, чтобы ссылаться на Дамаскина и божественного Максима, также на божественного Тарасия или – что то же – на весь седьмой собор, которого исповедание, посланное восточным епископам, подписано было всеми, и в котором сделано прибавление: «Мы научились исповедывать, что (Дух Святый) исходит из Отца чрез Сына», – вместо того, говорю, чтобы сослаться на эти свидетельства и врачевать себя и других этим прибавлением, не вдаваясь в толкования, он начал, сколько можно больше, собирать выдержек из писаний. Нашедши, что Василий Великий, в рассуждении о сыне, частицу чрез (δι) заменял частицею из (ξ), и эти предлоги считал как бы взаимозаменимыми, например, в изречениях «я стяжал человека чрез Бога», т. е. из Бога, и «рожденное из жены» т. е. чрез жену, – чтобы божественный апостол не служил поводом, как он говорил, к выводу еретической мысли о рождении будто чрез канал, – ежедневно отыскивая множество и других таких мест, в которых чрез поставлено вместо из, он думал этим совершенно оправдать прибавку к символу из Сына. Нашедши также у божественного Дамаскина выражение, в котором Отец называется изводителем (προβολέος) Духа возвестителя (κφαντορικοΰ) и изменяя «изводителя» «в виновника» (ατιος), он говорил, что Дамаскин, хотя и не называл Сына виновником Духа, однако ж, исповедывал, что виновник Духа есть Отец чрез Сына. Поэтому Отец называется виновником Духа чрез слово изводитель. Это выражение отца, Дамаскина, некоторые отвергали как подложную вставку; другие же хотя и принимали его, но слово προβολες изменяли в παροχες (податель), κφαντορίαν же (возвещение) понимали не в смысле бытия, а в смысле вечного обнаружения (κφανσις). Для потомков такие выражения послужили поводом ко многим соблазнам, равно как и изречение отца, Григория Нисского, в котором об исхождении раздельно говорится так: «Одно (из Божественных Лиц) исповедуется причиною, другое – из причины; в сущем же из причины мыслим мы опять иное различие: ибо одно выступает из первого, а другое – чрез выступающее из первого; так что посредство Сына и ему самому сохраняет единородность, и Духу не преграждает единения с Отцом». Такие доводы приводил патриарх, доказывая, что посредство Сына необходимо требует частицы чрез (δι); частица же чрез допускает итальянскую частицу из (ξ); потому что эти предлоги безразлично употребляются один вместо другого. Епископ Ефесский, Мелетий Афинский и очень многие другие соблазнялись этим, но искажение догматов почитая злом большим, предпочли, зло меньшее – принять на себя грех мирного общения с людьми, ошибающимися в значении Божественных догматов. Впрочем, Мелетий действовал довольно смело: однажды, говоря на соборе очень много, он приказал, наконец, слуг взять верхнюю свою одежду и следовать за собою, как бы приготовлялся, за противоборство, идти в изгнание. Ефесский же епископ, хотя в отношении к царю держал себя осторожно и не хотел в настоящем случае казаться вводителем соблазна, однако переносил это с величайшею болью и, как думали, старался тайно низвергнуть патриарха.
24. И так теперь, двенадцатого анфестириона, переправимся чрез Босфор и, на пути к царю, сперва отдохнем в Лихнийской обители, а потом, проведши один день в дороге, повидаемся с царем. О том, что тогда сделано им, стоит описать не чернилами, а слезами. Исступленный дикими мыслями и подозрениями, он производил ужасы. Чем возбуждаема была его подозрительность, – я не знаю: разве, может быть, мучился он призраками и думами о себе и религиозных своих убеждениях, – православным ли, то есть, почитать ему самого себя, когда поносят его, как извратителя веры? Он повелевает освободить из темницы тех благородных мужей, о которых мы прежде, упомянули, именно родных братьев из Раулевой фамилии Мануила и Исаакия, да третьего – Иоанна из Кантакузинов, (ибо протостратор Андроник умер в темнице раньше) и привести их к себе, как осужденных. Пытаясь несколько дней сряду склонять их и словами и жестокими оскорблениями к исполнению воли державного, и видя, что они остаются непреклонными, он, наконец, приказывает выколоть им глаза, – сперва Мануилу, а за ним и Исаакию: Кантакузин же, отведенный в тюрьму, оробел и склонился. На тех одних не подействовало страдание, а этот решился спастись покорностью. Те за претерпение мучений, на которые не отважился бы никто другой, украсились славою хранителей отечественных обычаев, и еще прежде, при царе обличили самого патриарха, говоря, что настоящие их убеждения не отличаются от прежних его убеждений, что находясь в цепях, он веровал лучше, чем теперь – в патриаршем достоинстве. И вот люди, которых носило одно и то же чрево, ослеплены в один и тот же день, которые соединены были и родством и страданиями, разлучены теперь друг от друга так, что одного содержали под стражею где-то там, а другой, Мануил, заключен был в Кенхреях на Скамандре, в какой-то безлюдной крепости. После того царь послал за Иоанном сыном деспота Михаила, которого мать привезла с запада и отдала царю в заложники заключенного в то время договора, и который потом, по воле царя, сделался зятем севастократора Торникия, хотя не любя своей жены, жил особо от ней. Этот-то Иоанн приведен был тогда в узах из Никеи, где, начальствуя над войсками, прославился своими победами над персами, и навлек на себя подозрение царя только тем, что, успешно подвизаясь, пользовался любовью народа. Подозрение царя вызвано было особенно отношением к Иоанну монаха Котиса Феодора, который часто по целым дням и ночам просиживал с ним наедине, глаз на глаз. Это был тот самый Котис, который некогда, быв еще мирянином, узнал о намерении царя ослепить тогдашнего великого коноставла, а теперешнего державного, и по дружбе открыв ему этот замысл, вместе с ним убежал в Персию. Так как советы Котиса Палеологу, который в то время стремился к царской власти, имели успех; то тем-то более, думаю, и питалось теперь подозрение царя, представлявшего, что и Иоанн мог находиться под влиянием таких же советов и знал прежние его планы. И так царь приказал привесть и его. Явно взводимое на него обвинение состояло в том, будто он злословил порфирородного и, когда царь приказывал ему отправиться в поход против персов, он будто бы с ирониею говорил посланным: пусть-ка идет порфирородный и исполнит это приказание. Таково было обвинение открытое, а тайно исследовалось то, которым мучима была его подозрительность. Но так как нельзя было уличить его в этом, без показаний Котиса, то царь грозил употребить самые ужасные пытки, чтобы добиться, о чем они рассуждали при частых своих свиданиях. Котис утверждал, что причиною непрестанного свидания их было знакомство, а предметом разговора – продажа имения (это был участок Врисис – Грея, доставшийся Котису по наследству от родителей), о наследстве же престола знает он столько, сколько может сказать об антиподах. Но эти слова показались неубедительными; а потому царь решился еще обратиться к врачу Иоанна Пердикке, не выпытает ли от него чего-нибудь касательно своих подозрений об Иоанне, так как Пердикка служил при этом военачальнике. И вот приказано взять под стражу и этого, а Котиса передать кельтам, чтобы они пытали его на весу. Но он предупредил пытку: едва только связали его, – тотчас от страха последовал удар, и несчастное бремя, поднятое при множестве зрителей, предано было земле. Иоанна же сперва предал царь бесчестью, сорвав с его головы калиптру – почетную принадлежность вельмож, которою прежде сам почтил его: а потом поручил царскому постельничему отвести его в Даматрий и ослепить так, чтобы никто не знал о том. Пред этим родной его брат Михаил Деспот, униженно умолял и деспину, и (обоих) патриархов, и уважаемых царем духовных особ, ходатайствовать об отменении такого жестокого приговора над Иоанном; но никакие ходатаи не умолили царя. Когда чрез день после того около полудня произошло землетрясение, – Пердикка заметил, что он удивляется не землетрясению, а тому, как не обрушится гора на людей, совершающих такие злодейства, и за это тотчас же наказан был отсечением носа. Другой тогда, за то лишь, что увидевши близкого к Пердикке мальчика, по прежней привычке, с любовью поласкал его, был наказан оторванием ноздрей. Здесь нужно рассказать о том, что случилось с Георгием Пахомием, грамматистом и ученым. Живя [128]128
По-гречески – συνν τ Στρατηγοπούλω Μιχαηλ. Словом συνν выражается то, что Михаил пользовался беседами Георгия с ученою целью, и для того держал его в своем доме. Такое значение слова συνν раскрывается в длинном сочинении Лукиана περ τν π μισθ συνόντων.
[Закрыть] у стратигопула Михаила в Ираклее Понтийской, Георгий, по множеству дневных занятий, весьма нередко беседовал с ним по ночам. Когда донесли об этом царю, – он, первого отставив от должности военачальника, велел привести к себе и осудил, будто бы за посягательство на царский престол, а другого подверг страшному подозрению, будто он, узнавши из книг судьбу царств, говорил об этом с военачальником. Стратигопула он предположил было ослепить, но удержался от этого, вняв заступлению деспины, которая была родная его племянница, и отложил наказание. Зато на Пахомия обрушился весь его гнев; ибо и самое имя, которое наводило на царя суеверный страх и о котором он слышал, как о магическом, немало способствовало к погибели того, кто носил его; так как оно содержало в себе что-то злое, им выражалось какое-то соответственное ему прорицание. Итак, желая избежать предопределенного рока, царь отдал приказ ослепить того человека. И вот, тогда как Пахомий на своей родине, в Македонии, где давно ожидали его, был уже оплакан, как умерший, – этот слепец бродил между людьми и возбуждал в них не столько жалость, сколько удивление, – неужели и такие люди могли подвергнуться подозрению в посягательстве на царствование. Водясь слепыми надеждами, царь думал избежать определений рока, а на самом деле не избежал. Из этого же источника происходила ярость его и на монахов – не за отступление их от церкви, а за то, что они считали дни и времена его жизни, и таким образом накликали на себя бедствия. И страшна была гроза его гнева, хотя и в самых малостях открывалась осторожно, чтобы не казалось, будто он наказывает без причины. Галактиона царь лишает зрения, у Мелетия отрезывает язык, избавившиеся же от казней посланы в заточение. Так поступил он с Лазарем Горианитою – человеком достопочтенным, которого сперва велел было ослепить, но потом подверг только пыткам. Под суд его подпал и Макарий за простоту и незлобие прозванный Голубем: он жил где-то вне наших пределов и обвинен был в преступлении против величества, будто бы, то есть, возбуждал против царя западных правителей. Дав знать Икарию, возведенному тогда в достоинство великого дукса, чтобы он схватил Макария, царь взводит на него вину против величества, и предлагает ему либо прощение, если он примет мир, либо – осуждение, если не примет. Макарий оказался твердым, – и был казнен. Не говорю уже о монахах Кокках[129]129
Что это были за монахи Кокки, определить трудно. Основываясь на этимологии слова κοκκος – красный, Поссин думает, что то был род особенного братства, отличавшийся красным цветом каких-нибудь частей одежды, или даже по одежде имел преимущества монашества придворного: но эта догадка не подтверждается никакими указаниями истории. Едва ли не вернее полагать, что они носили имя Кокков от какого-нибудь урочища, в, котором находился их монастырь.
[Закрыть] и о тех, которые враждовали против царя. Царь дошел тогда до такой раздражительности, что едва только доносили ему, что такой-то возмутился, за доносом тотчас же следовала казнь: он верил всякому, кто ни говорил, основываясь на подозрениях, будто на достаточных свидетельствах против (своих) подданных. А когда намекали ему о неотвратимости гнева даже в отношении к людям ему близким, он оправдывался указанием на царские законы, (прибавлял) что нехорошо и несправедливо римлянам управляться монашескими уставами, по которым преступления можно изглаживать покаянием. На доносчика и сам он смотрит с неудовольствием; потому что доносчик пересказывает либо услышанное, либо выдуманное на ближних по недоброжелательству; но выслушивать обвинения и позволять доносы – необходимо. Нередко оправдывался он и тем, что, прослыв с детства другом монашества, доведен теперь до необходимости ненавидеть монахов за враждебное их к себе расположение; враждебностью же называл уклонение их от того, что тогда делалось. Потому-то, может быть, и монахи в свою очередь считали время, когда-то они избавятся – не от царя (ибо без царя и жить нельзя, как телу – без сердца), а от гнетущих их бедствий. Людям, которые созданы свободными, и, однако ж, сознают необходимость – руководиться одною волею, куда бы она ни наклонялась, – тяжело, конечно, бывает и тогда, когда опасность угрожает только телу (потому что интерес правителя и управляемых не разделен; спастись им иначе нельзя, как по добровольному согласию); но если она грозит и душе, как иные тогда думали, то спасение одно – совершенная смена. И так как в то время они, может быть, к тому и стремились; то на них и обрушивались ужасы со стороны державного. Тогда как надлежало исправлять кривое по прямому, чтобы все выравнивалось, он принуждал править прямое по кривому, не исправляя последнего, а осуждая даже хорошее, если оно не кривилось. Человек рассудительный должен бы сообразить, что некоторые из монахов соскользнули со средины и впали в крайность – только по ревности, и что между поступками, заслуживающими наказание, открывались дела, достойные и некоторой похвалы.
Наконец, в обличение злоупотребления властью, стала выползать из мрака и выходить наружу говорливая смелость людей свободных; начали появляться сочинения. Но как писателя наказать было нельзя, потому что нельзя было обнаружить его; то оскорбителями признаваемы были те, у кого подобные сочинения отыскивались: и на них налегали сильно; ибо обличение почиталось оскорблением. И вот письменно назначалось наказание всякому, кто ни нашел бы такое сочинение, если он станет или сам читать его, или прочитает другому, а не сожжет тотчас. Самому же писателю василографий (оскорбительного сочинения против царя), как скоро был бы он открыт, угрожала прямо смертная казнь.
25. О действительности этой угрозы свидетельствует случай с Калоидою – человеком в высшей степени благочестивым, который жил девственно, раздавал милостыню и любил ближних искренно; а служба его была при кладовой деспины. Как скоро обличили его в том, что им написано сочинение, не спасло его ни благочестие, ни ходатайство деспины: неотступные просьбы последней едва подвигли царя заменить смертную казнь лишением глаз. По его приказанию, осужденный приводится к позорному столбу на площади в Константианах. Туда же приказано было скоро идти и клирикам, которые ничего не знали об этом, и стоять на месте. На клириков он всегда смотрел подозрительно, и теперь созвал их, чтобы попугать казнью. Потому не знавшие, в чем дело, пришли; а те, которые знали, позаботились скрыться, кто куда мог. И так вот поставили Калоиду к столбу и сначала остригли ему на голове волосы, – впрочем, не по самую кожу, чтобы оставить пищу и огню; потом зажгли просмоленный пергамен и обложили им его голову, так чтобы и она обгорела вместе с пергаменом, а, наконец, отрезав ему ножом и нос, полуживого и полумертвого отпустили. Впрочем, это сделано немного после, когда царь возвратился уже в город.
Тогда же, в 16 день посидеона, после праздника Богородицы, царь выехал отсюда, выехал и патриарх, а прежний патриарх Иосиф отправился в Космидий. Между тем, посланы были люди взять и привести также Гавриила Сфанцу, который был племянник ослепленного уже Иоанна и сперва занимал должность хранителя великой печати, а потом за какую-то вину ослеплен. Этого Сфанцу царь приказал сковать вместе с родственником его Иоанном и, ведя их с собою, поехал по дороге в Никомидию и ее окрестности. А патриарх, у холма Кивота переправившись чрез морской пролив, направил свой путь прямо к Никее. Между тем, таща за собою слепцов, царь смотрел, какое бы место выбрать для их заточения. Но Иоанн не мог далее выносить жестокого мучения и, сознавая, что страдает напрасно, не стал принимать ни пищи, ни питья, и не дозволял иметь попечение о своих глазах, а влачим был по дороге, что пустая тяжесть, и думал только о том, как бы где-нибудь удариться головою о землю или о камень, и – умереть. От таких ударов он, конечно, умер бы давно уже, если бы не удерживали его стражи. Однако сильные и, по возможности, частые удары головою, наконец, довели его до смерти, и он избавился от горькой жизни, а вместе с тем и царь – от своих относительно его беспокойств. Объехав все крепости по Сангаре и сам лично оставив в них надежные гарнизоны, он в месяц гамилион возвратился в город. Но патриарх, доехав до Никеи и пожив в Эннате, не счел нужным вступить в самый город, ибо хотел бы иметь при себе, что дать знакомым и чем одарить родственников; а между тем у него на тот раз ничего не было: вступить же в город и не одарить, как следует, он считал делом недостойным себя и неприличным его сану. Поэтому поворотив, как говорится, корму, переехал чрез Полипифии и решился, как можно скорее, возвратиться; ибо ему не позволял медлить (приближавшийся) праздник Воздвиженья. Таким образом, вслед за царем приехал в город и он, – и это было тринадцатого гамилиона. Не пренебрегая теми подысками, какие под него делались, патриарх тотчас, по сошествии с корабля, отправился к царю, целый день заискивал его благосклонность и, приглашенный на праздник, готов был в угодность ему сделать все; ибо совершенно изменился в своем характере с тех пор, как познакомился с трудными обстоятельствами, и только в подчинении царю обещал себе теперь завидную долю – прожить спокойно. Зато и царь не столько стал бояться за свою честь; а напрасное оскорбление патриарха со стороны народа считал достойным смерти. Об этом можно судить по случившемуся раздражению царя против всего. Его нисколько не заставили изменить принятому направлению даже беспокойства самых приближенных к нему людей, на которых он особенно надеялся, которые воспитаны были им и удостоены от него почестей. Царь признавал их виновными именно пред патриархом: те говорили, что причина соблазна заключается в нем, так как он оправдывал латинян, судя о них по одной только прибавке к символу; а этот готов был легко и открыто оправдывать его с той и другой стороны – и со стороны царя, и со стороны подвергавшихся бедствию, которые возмущали его душу: со стороны царя – тем, что он лишился благорасположения лиц к нему близких, а со стороны терпящих бедствия – тем, что начатого дела не предоставлял времени. Людей, досадовавших на патриарха, было много; досадовали на него также Константин Акрополит и Феодор Музалон.








