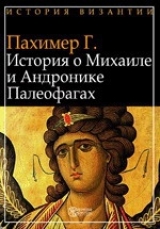
Текст книги "История о Михаиле и Андронике Палеофагах"
Автор книги: Георгий Пахимер
Жанры:
Античная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Когда все таким образом смешалось, – каждый, сколько мог, заботился о собственной безопасности.
20. Карианит, бывший тогда протовестиаритом, человек почтенный и с большими достоинствами, ушел в то время к персам – не потому, что держался стороны царя, но потому, что, при тогдашних беспокойствах, боялся за самого себя; ибо мятежники, произведшие самовольно столько насилия, которому никто не противодействовал, либо сами снова могли обратиться к насилиям, и производить их безнаказанно, либо другие могли возбудить их к тому, как уже готовых к принятию подобных возбуждений, чрез что многие подверглись бы опасности неожиданно, и особенно люди с властью, под которых подползала ненависть сильная и ужасная. Поэтому Карианит в ту же ночь убежал в Персию, а другие, предвидя величайшие бедствия, отправились в другие места, и все спасались, как могли. Между тем великий коноставл, разумея своих братьев, как людей молодых и смышленых, из которых один назывался Иоанном, а другой за ним – Константин, и которые не несли еще никаких общественных должностей, поставил их годными для себя стражами царя. Поэтому они непрестанно ходили к царю и проводили с ним целые дни, многие же иные и ночевали там. Гордясь один пред другим преданностью и верностью ему, все эти приставники выражали ее как нельзя более.
21. Такое соревнование дошло, наконец, до того, что они начали ссориться между собою, и эта ссора происходила из честолюбия; ибо попечение о царе у людей чиновных возбуждало зависть друг к другу, и они в этом случае не хотели подчиняться подобным себе. В числе приставников при царе были Чамантуры, из дома Ласкарисов, возбуждавшие к себе уважение не только умом и старостью, но и дедовством в отношении к юному царю, что внушало им великую смелость домогаться преимущества. Но с другой стороны между приставниками были также лица, производившие свой род от Торникиев, из которых первый был великим примикирием [28]28
О значении примикирия см. Киннама стр. 46, 204.
[Закрыть]. Эти на окружающих царя хотели иметь влияние близостью и братским отношением своего отца к царскому деду – царю Иоанну Дуке. В свите царя находились также и Стратигопулы, к роду которых принадлежал славный Алексей, внушавший великое к себе уважение, как старший из всех и совершивший много прекрасных дел. Сын этого Алексея, Константин, зять царя Иоанна по племяннице его, отличившийся важными заслугами, в царствование Феодора Ласкари лишен был зрения. Причиною же было то, что он выразил свою гордость пред державным и презрение к нему, когда этот после отца только что принял скипетр. В той же свите были и благородные от Рауля, которые после отца, лишенного достоинств, о чем вскоре будет сказано, оставались еще в детстве, – и Палеологи, а с ними и Ватацы и Филесы, которых отец, Феодор, вместе с Стратигопулом, и за ту же самую вину, лишен был зрения. В той же свите с Каваллариями находились Ностонги и Камицы, а с Апринами и Ангелами Ливадарии, Тарханиоты, Филантропины, благородные Кантакузины и множество других, связанных золотою цепью родства с знаменитыми предками. Между всеми ими особенное честолюбие обнаруживал Георгий Ностонг; потому что надмевался более других видами на родство с царем. Державный еще при жизни обещал выдать за него свою дочь и конечно исполнил бы обещание, если бы не помешала этому делу его смерть: а тот намерение царя тогда же открыл многим другим; да и теперь надежда на успех относительно этого брака заставляла его много мечтать о себе и, хвастаясь пред знакомыми, презирать других, особенно же племянника своего по сестре, великого коноставла. Поэтому он без всяких околичностей жил в покоях царского дворца, вместе с правителями занимался скачкою и метанием копья, или обычною у них игрою в шар, вообще с особенным дерзновением ездил с ними верхом и играл, рисуясь пред стоявшими вблизи и смотревшими на них царскими сестрами.
22. Все понимали, что царю нельзя было оставаться без попечителя, пока его жизнь находилась в таком беззащитном и нежном состоянии; но сошедшиеся чины, совещаваясь об этом, пришли к тому мнению, что не безопасно рассуждать о таком предмете без участия Церкви и ее предстоятеля (а предстоятелем тогда был Арсений). Поэтому они отправляют посольство к патриарху из Авториан [29]29
Смысл выражения: «патриарх из Авториан» представляется довольно темным. Если предлог εξ соединим с ατωρειανς в одно слово, то ξαυτορειανο, по Меурсию и Свиде, будут выслужившиеся и свободные воины. Но эта этимология не даст никакой мысли в связи со словом πατριάρχης. Посему, кажется, будет вернее читать εξ отдельно. Последнее чтение позволяет нам сообразить, что когда Константинополь отнят был у греков латинянами и резиденция патриарха перенесена была в Никею, Никейский патриарх, тем не менее, удерживал авторитет патриарха Константинопольского. Но как он писался? Первый по взятии Константинополя, поставленный в Никею патриарх был Михаил, которого называли также Авторианом, а иногда Саврианом. Теперь же, седьмой после Михаила, Никейский патриарх Арсений называется ξ ’Αυτωρειανν. Поэтому титул ξ ’Αυτωρειανν должен был означать Никейского патриарха с правом представителя Константинопольского патриаршества.
[Закрыть] и наскоро зовут его из Никеи; а сами между тем совещаваются по целым дням, назначая в попечители о царе то того, то другого, и, наконец, общий совет останавливается на коноставле Палеологе, который, для исполнения этой обязанности, один показался достаточнее других. Он и самый воинственный из мужей, говорили чины, и ведет свое благородство от довольно древнего дома, и, в-третьих, состоит в родстве с умершим державным, – как лично с ним самим, так и с его супругою; (ибо был двоюродным племянником царицы и сыном двоюродного племянника царя). Все это дает ему пред прочими право быть опекуном царственного отрока. Но сколь ни справедливо было такое преимущество, и сколь ни прав был тот, кто говорил за него, можно, однако ж, с вероятностью полагать, что в этом деле тайное участие принимал и он сам, немало действуя лестными обещаниями – особенно на тех, которым в трудных обстоятельствах прежнего времени пришлось лишиться своих достоинств. И Палеолог, нисколько не думая, соглашался принять на себя опеку, потому что был беден и не имел столько средств, чтобы вести образ жизни, соответствующий его достоинству; но опасаясь, как бы не показалось кому-нибудь, будто, принимая это предложение, ему надлежало благодарить предлагающих, и как бы просить бремени на свои плечи, он требовал одобрения со стороны патриарха, который еще не приехал, и требовал не столько по нужде, сколько для того, чтобы это дело постановлено было тверже. Притом ему непременно хотелось, чтобы и высшие чины двора согласились признать его опекуном царя.
23. Члены совета действительно полагали, что сила их определения должна зависеть и от церкви, чтобы после не пришлось им по необходимости изменить свое постановление; да и в том равномерно соглашались многие, что попечитель царя, по значению своего звания, должен быть возведен на какую-нибудь высшую степень достоинства. Поэтому признано нужным, с позволения царя, переименовать его в великого дукса. Таким образом Палеолог провозглашен был великим дуксом и попечителем царя – с правом заботится об общественных делах и иметь в беспрекословном подчинении своим повелениям все вспомоществующие себе чины. А чрез это, в случае необходимой потребности, он мог касаться царского казнохранилища, которое в Магнезии наполнено было великим множеством денег, с трудом исчисляемых, собранных и положенных царем Иоанном Дукою. Деньги же, собранные сыном Иоанна, Феодором Ласкари, в достаточном количестве для содержания империи, лежали особо и безопасно хранились в одной крепости при верховьях Скамандры, называемой Астицием. Впрочем, это богатство собрано не чрез поборы или несправедливое вынуждение; это золото не было кровью людей или жизнью нищеты, но было плодом бережливости, увеличенным еще более взносами податей от иностранцев: его возрастанию способствовали с одной стороны домашнее земледелие, с другой – иноземные контрибуции. И складывались царские сокровища не с тем, чтобы никто не пользовался ими: напротив, из них покрываемы были все необходимые расходы государственные, как-то выдача жалованья и пенсионов, а особенно подарков мужам знаменитым и пособий бедным; так что они были материальным началом царской милости, изливавшейся всюду неиссякаемыми потоками, а остававшееся затем хранилось в казначействе. Вообще, что говорится о древних царях, Кире и Дарие, то же были в этом отношении Иоанн, отец римлян и Феодор, деспот их. Иоанн простирал свое наблюдение на все до такой степени, что не чуждым своему царскому попечению делом почитал входить даже в состояние рабочего скота и, для надзора за улучшением его, к каждому стану и крепости приписал деревни, чрез что плодами их земли и взносами довольствовалась и самая близлежащая крепость. Этим способом державный разливал свое благодеяние на многих или даже на всех. А Феодор хотя был и деятельнее отца в собирании золота посредством общественных податей, зато, по простоте сердца, различным образом и опустошил казнохранилища; так что при отливе денег, и здесь, как на море, открывались харибды. Но истощенная казна легко наполнялась снова, и истощение того, что в ней было, заменялось еще большим приращением. Хотя каждый, по общественной раскладке, взносил и небольшую подать, но из этих малостей возрастала сумма выше истраченной; так что царь мог тотчас удовлетворять нуждам каждого и во всяком случае больше любил давать, чем брать. И чего иного хочет закон Христов, повелевая давать всякому просящему, как не того, чтобы каждый имел потребное и никто не нуждался? Всех обязывает одно общее предписание: быть готовым дать тому, кто, давая другим, сам терпит нужду. А малодушных обязывает к этому дивная порука – Бог, который ручается им за многоразличное воздаяние.
24. Хочу рассказать и нечто другое о том же предмете, и прошу извинить меня, если, увлекаясь пользою, делаю отступления. Некогда царь Иоанн, лишившись помощницы своей в добрых делах, супруги Ирины, которую, не знаю, какими и назвать великими именами, впал в болезнь. Болезнь была трудная, и припадки ее происходили, думаю, от старости. Врачи недоумевали, к чему и обратиться; но царь обратился к Богу и решился по возможности подражать Его ко всем милосердию. По повелению державного, берется из мешков золото, и каждому, сколько-нибудь неимущему, выдается по тридцати шести монет. Сверх того расточается оно на святые храмы, на монастыри и на служащих Богу мужей, и милость царская рассылается всюду на хребте вьючных животных. Этою милостью царь привлек к себе милость Божию: больному стало легче, и он, естественно, обрадован был выздоровлением. Но вслед за тем ему захотелось доказать и римлянам, что, несмотря на такую раздачу милостыни, общественная казна не уменьшилась. Свидетельствуясь Тем, Кто его помиловал, он говорил патриарху Мануилу, что из общего достояния ничто не тронуто, что все розданное им приобретено его благоразумием и частными его трудами, что пользуясь силами опытных людей, он не переставал обрабатывать землю и с помощью их разводить всякого рода скот. Таким образом, римляне нашли его и благочестивым, и любящим своих подданных.
25. Итак, в Магнезии в то время хранилось много денег; но великому дуксу и опекуну нелегко было брать их и давать, кому он хотел: потому что у казнохранилища стояла вооруженная секирами кельтийская стража, не допускавшая к нему никого, кто хотел бы покуситься, и пропускавшая только того, кто предъявлял требование на известную сумму для какой-нибудь необходимой нужды. Впрочем, иным нередко выдаваемы были деньги под предлогом и такой надобности, какой в самом деле не было. Это принял Палеолог за начало для приобретения расположения к себе, – и получавшие от него благодеяния не могли забыть о том. А чтобы оправдаться в неправильной раздаче денег, ему стоило только указать на скудную обстановку собственной своей жизни. Другим он предоставлял случаи получать деньги, не столько удовлетворяя своему честолюбию, сколько заботясь о будущих своих планах, как это оказалось впоследствии. Что касается до его бедности, то пишущий настоящую историю сам слышал, как говорил он о том, и предлагая свое свидетельство не боится, что будет обличен во лжи. Выставляя напоказ свою бедность, великий дукс находил тогда удовольствие тщеславиться ею: «Я царствую, говорил он; а мне, для удовлетворения всем домашним нуждам, можно употреблять только три монеты». Некогда позвал он к суду брата своей тещи, Ангела, которого во время своего царствования сделал великим примикирием, чтобы последний отвечал на его обвинения относительно приданого его племянницы. В это время он свидетельствовал, стоя близко, и мы слышали те слова его, запечатленные клятвою. Вообще, тогда многих, и особенно лиц благородного происхождения, награждал он, придумывая благовидные предлоги, царскими деньгами, а сам, сколько мог, удерживался от всяких притязаний на царскую казну.
26. Между тем прошел слух о приближении патриарха с избранным клиром и архиереями. Узнав об этом прежде других, Палеолог тотчас выехал далеко навстречу путешественникам и воздавал величайшую честь как патриарху, так и всему священному клиру, идя пешком и держа под уздцы иерейского лошака, пока поезд не остановился, вступив во дворец. Для принятия патриарха назначил он покои царские и, с одной стороны желая выразить ему свое уважение, непрестанно бегал вокруг него и услуживал, а с другой изыскивал настоятельные случаи в назначенное время приближать его к царю, так чтобы он не отлучался ни на час. Патриарх с удовольствием дозволил Палеологу во всех отношениях вести дела опеки не иначе, как он сам того захочет; да то же подтвердил и собор. Тогда опекун вынес дитя и, в присутствии всего собора, посадил его на руки патриарха – в знак того, что настоящие определения об опеке над ним зависят от Совета церковного. Таким же образом многократно выносил он разные регалии, и этим молча указывал на даваемую ему одному власть, которую, если бы патриарх захотел, получили бы другие. С его стороны это был хитрый способ – предоставлять начальство над всем другому, притворяясь, что сам он – лицо подначальное и принимает обязанность по необходимости, когда ее возлагают. Притом, так как содержание патриарха, а особенно архиереев, надлежало отнесть на счет казны, то Палеолог сам брал и выдавал все нужное, вменяя себе в честь выдавать больше надлежащего, и поступал таким образом, снаружи – под предлогом необходимости, а внутренно – с лукавою целью ослепить глаза духовенства подарками и приобресть его расположение. Выдавая им подарки, он ежеминутно располагал их к себе со всею силою; а выражая каждому из них уважение и покорность, в самое короткое время имел их в своих руках и мог вести, куда хотел. В самом деле, между ними не было никого, кто не превозносил бы его похвалами даже и тогда, когда он не присутствовал в общем собрании, кто не признавал бы его достойнее всех править делами государства, кто, кроме других почетных титулов, не титуловал бы его отцом царя. Таковы были плоды ночных его посылок, его внимательности и обещаний в будущем, с величайшими уверениями.
27. Хитростью его замыслов и льстивостью нрава все были так уловлены, что в собрании, в котором иерархи рассуждали о государственной власти вместе с чинами светскими, и обстоятельства требовали найти правителя империи, все духовные особы подавали мнения в его пользу, несмотря на то, что сам он ничего не говорил, и утверждали, что опекуну государства, при таких, какие у него, качествах, нельзя равняться с другими сановниками, но надобно быть возвышенным над всеми величайшею почестью и царским достоинством. Для чего бы стал он ежедневно обеспокоиваться заботами и питать в себе столь сильный страх, говорили они, если бы, принимая под свою опеку такой народ, не имел в виду его пользы? Власть его во всяком случае дело решенное, когда он будет занимать пост выше всех. Опекуну царя позволительно уже величаться деспотом. Чрез это он тем более сохранит чувство любви к тому, кто самым своим рождением назначен царствовать, и воздаст ему благодарность даже за свое достоинство. Что странного носить имя деспота тому, чей дед по матери, деспотствуя, совершил важнейшие подвиги против итальянцев? Разве мы не знаем, как чтит он Бога, как ревнует о добре, как сильно любит монахов и благоговейно чествует все церковное? Свидетель – свойственное ему смирение, его популярность и ко всем кротость. А о щедродательности его и нищелюбии говорит крайняя его бедность. Поэтому хорошо было бы и полезно для государства, если бы опекун царя, кроме чести быть царским отцом, почтен был и другими достоинствами. Так говорили некоторые, – и многими из архиереев одобрены эти слова, как справедливые; подтвердил их и кое-кто из сановников: но прочие спорили и не сходились друг с другом в мнениях. Так, особенно Чамантуры из дома Ласкарисов и с ними Георгий Ностонг, только с трудом, и то как бы нехотя согласились, чтобы Палеолог назывался отцом царя: достаточно утвердили они также за опекуном и достоинство великого дукса; но возложить на него должность с именем царским и почтить его правами, превышающими личное его значение, говорили они, было бы преступление против лиц высоких и почтеннейших. Ведь есть царские дочери, созревшие для вступления в супружество, и их необходимо выдать замуж за людей в государстве видных. Так если они выйдут замуж, то им и самим по себе будет принадлежать право украшаться после супружества такими достоинствами; потому что они – родные сестры царя и потомки трех или четырех царских поколений. Напротив Алексей Стратигопул, Филесы, и с ними Торникии, а особенно ослепленные, питавшие в себе чувство мщения, равно как и те, которые соединены были с Палеологами родством – либо действительным, либо чаемым, сильно противились их представлениям и говорили, что справедливо всячески и полезно будет, если сановнику, близкому к царю и украшенному именем его отца, предоставлено будет и деспотство; потому что лишь под этим условием его будут слушаться все, – и дела придут в надлежащий порядок. Кто захочет повиноваться дитяти, которое еще не может мыслить? Но если бы и повелевающий вместо его оставался частным человеком, – ему, все равно, не оказали бы надлежащего послушания. Итак, надобно подражать плывущим на корабле: эти, сами по себе, свободны и самостоятельны; но, вступив на корабль, они избирают распорядителя и, вверив ему над собою власть, охотно повинуются, как рабы, если он что приказывает; неповинующийся же, как непростительно виновный против деспота, подвергается должному наказанию. Притом, плаватели поставляют его не просто, как одного из всех, но облекают, знаками уважения и дают его званию высокое значение, чтобы другим он мог внушать страх. Так и всякий город и всякая власть получит стойкость только тогда, когда над многими будет поставлен один. А слепцы говорили еще свободнее и смелее. «Не для одного ребенка», сказали они, «все эти хлопоты о такой империи и о таких делах; мы должны теперь подумать о правительстве, чтобы спастись нам самим. Разве неизвестно, в какое бедственное состояние пришла римская империя? Мы лишены своего отечества, целость его погибла и ограничена уже тесными пределами. И все это совершилось при царях, которые, после благополучного плавания, подверглись кораблекрушению потому, что нехорошо управляли своим кораблем. Если же и не до точности хорошее управление сопровождается такими несчастиями, то каких бедствий не обещает отсутствие всякого управления? У нас верность престолу почитается, конечно, делом хорошим; хорошо также спасаться подданным, дав клятву: но если нет спасения, – верность становится напрасною. Какой вред царству, если к его попечителю присоединено будет самое достоинство? Из этого напротив произойдет гораздо больше пользы. Нося почтенное имя относительно дел государственных, он тем более утвердит власть державного: больше, например, будет иметь авторитета в сношениях с послами, в беседе с народами, в предписаниях, даваемых воинам и правителям, и ничего не оставит не установленным по надлежащему, если будет смирять всех своим достоинством. А кто станет управлять другими, как равными, тот не легко навяжет им свои предписания и не будет иметь довольно силы в руке, чтобы наказать противящихся. Мы удивились бы, если бы кто вздумал управлять римскою империею как-нибудь иначе, а не монархически. Пусть бы державный был и не совершен, – он должен предпочесть без сомнения форму монархическую: она, по крайней мере в мнении, будет тверже, как правильная. Наш народ, знакомый с единоначалием, гораздо охотнее подчинится власти одного: однако ж, надобно, чтобы этот один, управляя прочими, превосходил всех силою и достоинством, чтобы он самым своим единством изображал монарха, который, если бы по немощи и не мог управиться со многими, то по своей сосредоточенности побеждал бы их властью. Итак, избранный быть опекуном царя необходимо должен иметь и высокое достоинство. Пусть он был бы взят и из среды нас: оно, все равно, должно принадлежать ему. Что ж? Скажут, будем искать другого, который, не думая о славе собственной, был бы способен принять попечение о благе общем. Но хотя бы он и принял на себя управление государственными делами без царских почестей, – самая необходимость велит ему, как сказано, соединить эти почести с обязанностью опекуна».
28. Когда это было сказано, – сторону говоривших в пользу Палеолога еще более усилил председатель, который задолго был предубежден, что Палеолог будет управлять хорошо. Так можно заключать из многого; для его предубеждения сделано нечто особенное. Известно, что как скоро умер царь, патриарху, жившему в Никее, объявлено было о том прежде, чем узнали другие; патриарх же эту весть сообщил одному из своих домашних, Гемисту, который впоследствии достиг в городе степени великого эконома, и когда зашла у них речь о том, кому теперь управлять государственными делами, первый пред всеми отдавал преимущество Палеологу. Предзанятый таким убеждением, патриарх тотчас присоединился к говорившим за Палеолога и подал мнение, что надобно облечь его достоинством деспота. Таким образом Палеолог, вместо великого дукса, провозглашен деспотом; а царь, при помощи патриарха, выдал ему и знаки деспотства. Как деспот, он без сомнения, смело уже решался на все: сановников привлекал к себе всякими почестями и общественными подарками; а из того, что делал для них тогда, они заключали, что тверды будут его обещания и на будущее время, и таким образом привязывались к нему видами честолюбия; духовным же лицам раздавал дары щедрою рукою – тайно и явно, то в виде необходимых жизненных потребностей, то в значении секретных, ночных посылок, нашептывая им в то же время, что он еще не довольно свободен, соцарствуя царю. В самом деле, он не мог не предполагать опасностей и не страшиться, как бы зависть не устроила ему такой же гибели, какая постигла Музалонов; а потому поддался ужасной подозрительности – в той мысли, что он тотчас испытает бедствие, если хоть немного ослабит свою внимательность. Но кто поставлен охранять другого и в то же время, охраняя самого себя от многих, боится за собственную свою безопасность, тот не может, конечно, посвящать довольно времени лицу, им охраняемому. Всякому позволительнее нуждаться в страже, чем самому стражу.
29. Предполагая это и подобное этому, Палеолог тем постояннее и сильнее стремился к верховной власти. Подозревая же всех, которые имели причину быть недовольными настоящим правительством и искали лучшего в будущем, он, облеченный силою и могуществом, низводил их с служебного поприща, и одних заставлял добровольно оставлять свои посты и жить дома, а других арестовал публично: так, кроме многих, посланных в иные места, Чамантура послал он в Пруссу и держал его там под стражею, как преступника. В этом отношении весьма много содействовали ему подручники его, манимые приятными надеждами. В числе таких подручников был один из его братьев Иоанн, которого он, как бы по воле царя, облек в важное достоинство великого доместика и допустил иметь значительное влияние на дела. Тогда же лица, разгорячаемые еще большими надеждами, пришедши к патриарху и на собор, говорили, что не будет никакого успеха, если деспот не получит еще высшего достоинства; ибо он, после царя, по рождению, один достоин соцарствовать ему, и потому, чтобы ни делал, должен делать, как совершенный царь. Если ожидать нам совершеннолетия царственного дитяти, то как бы оно, охраняемое только попечителем, не было кем-нибудь устранено, прежде чем достигнет совершенного возраста. Ведь нынешний опекун его управляет ходом дел не как царь; а потому его личность не недоступна и не тверда. Так говорили сановники и убедили мягкосердечного патриарха. Впрочем, при этом не был беспечен и Палеолог: чтобы подействовать на мягкосердечие священного собора, он употребил надлежащие средства и со своей стороны. Итак, назначен день наречения. То было новолуние экатомвеона [30]30
Екатомвеон. Этим именем греки в мире языческом означали первый месяц лунного года. Такое название дали они ему от принятого у них обычая – наступление нового года праздновать экатомвою, или принесением в жертву богам ста быков (έκατον, βοΰς). Но на какой солнечный месяц римского календаря падал у греков лунный месяц Экатомвеон? По исследованиям Петавия (de doctr. temporum t. I. c. II), он долженствовал быть около весеннего равноденствия, следовательно, в июне, по афинскому календарю – в сентябре, по позднейшим греческим писателям – то в январе, то в феврале, то в марте. Пахимер же, зная, экатомвеоном у древних греков назывался первый месяц года, а у римлян первым месяцем года был январь, и не отличая лунного года от солнечного, под именем экатомвеона разумел январь.
[Закрыть], второго протекавшего тогда индикта.
30. Между тем как все это происходило, на западе деспот Михаил, родственник недавно царствовавшего Феодора, услышав о состоянии дел на востоке, – о том, что по смерти Ласкари, сын его Иоанн находится еще в детстве, и что Римская империя чрез это предоставляется в добычу всякому желающему, приводит себе на память пример дяди своего Феодора. А Феодор, быв человеком благородным и даже высшим между благородными, во время того первого возмущения привлек к себе души римлян и, выиграв много сражений против итальянцев, овладел царством, получил венец из рук Иакова Ахридского и, присоединив к своей державе западные, населенные итальянцами города, весьма славился своими подвигами, пока не встретился с неумолимою судьбою и, взятый Асаном, не лишен был глаз. Припоминая этот пример и хвастаясь бессилием империи – тем более что итальянский гарнизон в городе был слаб, Михаил забрал в голову мысль отважную, достойную его благородства. Мысль его была – собрав сколько можно больше войска, идти к Константинополю, осадить его, постараться взять и провозгласить себя царем римлян; ибо, по его мнению, ни Ласкарис, ни кто другой не был столь способен царствовать, как он, человек благородный, происходивший из дома Ангелов. Притом дочери его были замужем – одна за Манфредом, царем Апулии, родным братом римской царицы Анны, на которой царь Иоанн женился уже в старости, так что Манфред был зятем деспота по дочери его Елене; а другая Анна за князем Ахайи Вильгельмом. Итак, отправив посла к Манфреду, Михаил взял от него три тысячи воинов, мужественнейших между германцами, которых в Германии называют каваллариями, а князя призвал со всем его войском; присоединил к себе также и побочного своего сына Иоанна, с значительною дружиною из его народа. Этот Иоанн, женившись на дочери Тарона, и чрез то получив власть над отличным народом, мог и один воевать и завоевывать; потому что управлял тем поколением древних эллинов, которого вождем был Ахиллес, и которое теперь называется мегаловлахами; [31]31
Мегаловлахиею в те времена называлась гористая часть Фессалии. Nicetas de Balduino Flandro p. 313 ed. Bas. an. 1557. Эти самые средневековые мегаловлахи в древние времена Греции назывались фтиотами и во время Троянской войны были под управлением Ахиллеса. Observ. Petri Possini ad calcem Pachimeri.
[Закрыть] так что Палеолог, великий доместик Иоанн, стратигопул Алексей и третий Рауль Иоанн, имевши под собою значительные войска, не могли сделать и шагу далее Берии. Стянув все сказанные когорты и сверх того двинув собственные, очень большие ополчения, деспот думал сперва ударить на тех военачальников и, разбив их, занять Фессалонику, а потом, перебежав запад, напасть на Константинополь. Это было тогда благовременно – и по той причине, что Манфред, как бы по наследству от отца своего Фридерика, питал неприязненное чувство против Церкви, и потому германцам не дико было сражаться с находившимися в Константинополе итальянцами. Да и князю приятно было надеяться, что он, кроме всей Ахайи, завладеет и Мореею. Итак, когда войска были собраны в одно место и с обеих сторон готовились к войне (ибо и римские военачальники, узнав о сосредоточении итальянских армий, не могли оставаться спокойными, но и сами вооружались), особенно же когорты деспота едва удерживались от нападения; в это самое время между ними произошло то же, что между тремя богинями, по случаю брошенного им Эрисою яблока для возбуждения спора о прекраснейшей: причина была почти одинакова.
31. Говорят, что вельможи князя, называемые в той стране каваллариями, ослеплены были страстью к жене дукса Иоанна, которая, как сказано, была дочь Тарона. Этим ее мужу явно нанесено было такое оскорбление и презрение, что он в ярости выходил из себя и грозился отмстить оскорбителям. Тогда воспламенилась сильная вражда с обеих сторон и вооружила их к войне; так что призванные к соединенному действию на неприятеля, они противостали друг другу. После того и сам князь, видя это, стал, говорят, досадовать на такую вражду и, не имея сил бранить своих, с насмешками порицал дукса и слишком открыто вменял ему в бесчестие незаконность его рождения. Вот этот – мой брат, сказал он однажды, указывая на Никифора, а ты – сын блуда, ты не свободный человек, а раб. Когда произнес это князь с крайним раздражением, – Иоанн, по чувству мщения, явился настоящим Ахиллесом и, желая доказать, что сам составляет главную силу союзной армии и что куда обратится, там будет и победа, тайно, ночью послал к римским вождям известие, что как скоро римляне нападут, он тотчас присоединится к ним и со своими войсками устремится на изнеженных и беспечных итальянцев. Иоанн при этом взял, однако ж, от римских вождей клятву – жизнь отца его и брата Никифора сохранить неприкосновенною, и нападать со всею силою только на прочих, особенно же на подвластных князю итальянцев. Когда эти условия были постановлены и утверждены сопровождаемым клятвою обменом амулетов, – завязалось сильнейшее сражение – с одной стороны между римлянами и множеством персов и скифов, с другой – между подвластными князю итальянцами; а отцу и брату Иоанн внушил, чтобы они со своим войском, приняв угрожающий вид, оставались без действия и не только не участвовали в битве, но и отступили; сам же он, напав на тыл итальянских когорт, производил там ужасы. Тогда итальянцы узнали, что они преданы, и обратились в бегство, но не убежали от опасности. Многие из них были настигнуты и переколоты скифским войском, а другие забраны персами. Наконец и сам князь, спрятавшийся где-то в кустарнике и надеявшийся там уцелеть, не успел в этом: нашли его и подвергли постыдному плену. И тут в короткое время легко совершено великое дело: немного было труда, а польза огромная. Военачальники собрали при этом удивительное множество добычи, а самого Ахайского князя, вместе с уцелевшим его войском, повели на восток, укрепив наперед, сколько было можно, западные границы, чтобы они могли быть легко охраняемы. Прибыв домой с славными трофеями, стратигопул нашел там государственные дела еще не совсем в покойном состоянии и немало содействовал Палеологу в его стремлениях. В то время князя посадили под стражу: но после, когда город был взят (ибо, кстати, надобно сказать и об этом, чтобы повествование не прерывалось, хотя это дело произошло и впоследствии), – итак, когда, спустя два года, город был взят, князь склонил пред царем гордую свою голову и первый говорил, что видит в нем обладателя Романии, справедливо получившего престол, первый признал свое подданство и пал к ногам царя, уже окончательно провозглашенного, даже предлагал самый высокий выкуп за свое освобождение, если бы только царь согласился освободить его. Это предложение не имело бы для римлян никакой цены, если бы город не был в их руках; а теперь можно было и с удовольствием принять предлагаемый выкуп, и немало хвалиться таким делом. Поэтому князь со своей стороны объявил себя навсегда рабом Римского царства и принял от царя некоторый символ этого рабства; а царь, слыша о выкупе и находя его достаточным (ибо отдаваемы были города и земли Пелопоннеса в таком количестве, что владельцу их предоставляли полное право на деспотство), соображая также и последствия рабства, какое принимал на себя латинянин, что, то есть, оно доставит римлянам и величие и выгоду, заключил касательно освобождения его надлежащие условия. После сего князь со всеми окружавшими его и мучившимися с ним под стражею, выпущен был из темницы, удостоен почестей, принят надлежащим образом, и сделался столь близким к царю, что последний, в знак совершенного примирения с ним, избрал его даже в восприемники собственного своего сына от святой купели крещения. Этого мало: они связали себя, как некоторые говорят, такою страшною клятвою, что возжигали мстительный огонь, полагая на себя обеты проклятия и смерти; а это у италианцев совершается как верное ручательство за погибель нарушителя договора. Договор же у них состоял в следующем: князь отдаст римлянам и царю в неотъемлемое обладание места в Пелопоннесе: Монемвасию, Маину, Иеракион, Мизитру (но Анапл и Аргос оставались под сомнением), также всю территорию вокруг Кинстерны, имеющую большое протяжение и изобилующую великими благами; сверх того и сам он всегда будет называться рабом римлян и царя, и в знак своего рабства не откажется исполнять возлагаемые на него обязанности. А царь почтит его достоинством великого доместика и отпустит вместе со всеми оставшимися при нем соотечественниками. По силе такого договора, князь отпущен был с надлежащими почестями, и вместе с ним отправлены лица для принятия установленного выкупа. Прибыв домой, он объявил себя князем Ахайи и великим доместиком Римской Империи, и тотчас по прибытии, нисколько не медля, выдал обещанный выкуп. И до конца остался бы он верен своему договору с римлянами, называясь именем должностного римлянина, если бы не расстроил этого папа. Услышав о заключенных князем условиях, он разгневался и, особенно возбуждаемый царем Апулии, который всячески умолял его (ибо неполезным казалось быть в вечном союзе с римским двором), уничтожить тот договор, снял клятву с князя, как бы на том основании, что она дана была в темнице и в узах, а не произвольно, как следовало. Отсюда между договаривавшимися сторонами впоследствии непрестанно воспламенялись жестокие войны. Так шли тогда дела.








