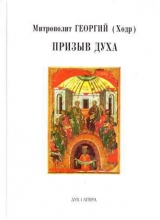
Текст книги "Призыв Духа"
Автор книги: Георгий Митрополит (Ходр)
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Человек, отвергающий гнет техники, бунтует; при всех чудачествах, в которых может выразиться его неприятие общества, он стремится не только к земному счастью. Молодежь ищет мира, где можно не задыхаться; свободная любовь – это протест, но это также знак того, что действительно важно: встречи с другим в его подлинности. Нынешний культ непосредственности может быть реакцией на чрезмерный интеллектуализм, которому недостает человечности. Ныне простая встреча между людьми важнее, чем идеи. Движет миром человек, во всей его простоте, а не идея. Все решает встреча, а не диалог. Вот почему атеисты и верующие – если атеизм не воинствующий и если верующий способен различить божественное в инакомыслящем, – могут вместе проходить человеческое поприще. Человек всегда глубже, чем его мысль; случается нам познать Бога, не называя Его имени.
Я думаю, что первоначальным вкладом великих религий могли бы стать их исторические идеалы, ибо идеал развития создают не экономические и социальные науки. Иными словами, нам нужно искать у религиозных мыслителей то, что не чуждо социальному измерению. Глубоко духовный, согласный со Словом идеал связан с любовью, с молитвенной жизнью, с внутренней дисциплиной, – но совместим ли этот идеал с технической цивилизацией? Если мы хотим избежать яростной реакции со стороны верующего, который чувствует удушье в таком мире, а также окончательного погружения этого мира в бесчеловечность, напрашивается диалог между служителями различных религий и людьми, вовлеченными в структуры современного мира.
Мир ожидает от нас, христиан, великой неусыпности. Он не хочет, чтобы Церкви довольствовались повторением своих прописей или следовали интеллектуальным модам. Он ищет у нас не вещей, не идей, не структурных концепций, а ценностей. Сейчас Церквами и другими религиозными кругами овладел дух робости. А ведь человек сегодняшнего дня хочет услышать слово жизни, а не благословение тому, что он делает. Он уважает «малое стадо», смеющее бросить вызов. Мир любит, чтобы Церковь слушала его и вела с ним кроткий и разумный диалог. Он ожидает от нее, чтобы она была собой или исчезла. Он чтит лишь мучеников и облако свидетелей Бога живого, запредельного Бога. Этот Бог есть Судия, но милосердие Его столь велико, что Он позволяет нам уподобиться Ему уже в этом мире, на земле, которую наследуют кроткие в ожидании славного воскресения тел всего человечества.
Искусство и творение
В периоды кризиса мы всегда надеемся и ждем, что явятся творцы, множество творцов, люди, которые, подобно Христу, пройдут по водам нашего взвихренного бытия, дабы заменить его бытием спасительным.
Если говорится о творении, значит, наше бытие не статично, не дано раз навсегда в окончательной и определенной форме, и мы сами участвуем в его становлении. Всякое иное определение творения снижало бы его, сводило бы его на нет. Если бы Бог окончательно устроил вселенную, так что человеку оставалось бы только организовывать материю и производить предметы, сочетать краски и гармонически слагать слова; если бы все сущее было лишь излиянием мысли или осуществлением заранее составленного плана – в том смысле, что Бог Сам придавал бы ценность вещам, – тогда мы были бы только ловкими ремесленниками, а не творцами. Напротив, если человек стоит перед лицом Бога и вопрошает Его, если Бог Сам ждет от него этого диалога, более того–ждет участия в создании еще не оконченного мира, тогда попытка заняться этим законна, и мы вовлекаемся в богословское размышление, от которого трудно уклониться.
Продолжающийся вплоть до наших дней философский диспут о художественном творчестве объясняется только тем фактом, что мы, люди, творения Божий, имеем различные точки зрения на Бога и на человека. Начинается не с эстетики, а также не с социологии искусства или его психологии. Подобного рода вопросы я оставляю другим, однако не могу избежать некоторых замечаний. Представив богословскую проблему, необходимо указать на несколько факторов, которые приготовили в истории пути красоте. Я говорю «указать»: не то чтобы я отрицал влияние природы и среды на рождение и развитие искусства, но антропология искусства не основывается главным образом и единственно на этих факторах и измерениях. Искусство исчезнет и будет забыто в тот день, когда в своей свободе превысит возможности своей среды, но на третий день оно воскреснет из лона земли.
Говоря о творчестве, я подразумеваю искусство, а не науку. Если размышлять исчерпывающе, то как избежать попытки связать область разумного знания и область искусства? Разрыв между ними лежит на совести Возрождения, так как это оно отделило точную науку от чувства. Но мы прекрасно ощущаем, что открытия науки так же сказочны, как великие археологические чудеса. Весь мир целиком – не что иное, как формы и силы, и с этой точки зрения наука есть путь, и цель этого пути – привести нас к новой красоте, которая, как заря, взойдет из лаборатории. Однако наука – плод накопления. Она приходит из прошлого, из коллективного усилия. Человек развивает ее так, словно бы он преследовал некую цель или совершал странствие, она бежит впереди него. Он гонится за ней и почти уверен, что догонит. Ибо наука вписана в действительность: мы вопрошаем вещество и находим под его пеплом науку. В отличие от искусства, наука навязывает себя тем, кто не занимается ею. Искусство же все целиком – свобода. Свободно его рождение, свободно наслаждение им. Это делает его отличным от научного исследования.
В области эстетики, которой мы здесь ограничимся, мы приходим к вопросу об окончательных принципах искусства, которые делают его «даром» в глубочайшем смысле слова. Этот дар есть некое излияние, которое мы зовем божественным. Арабы в старину называли его словом «гений», или «джинн», «djinn», соответствующим греческому daimon. Даже о посланнике Божием говорили, что он был поэтом. В Коране читаем: «О ты, получивший зикр, воистину ты безумен». Это «безумие» доказывает, что поэт черпает свое вдохновение вне мира сего и что обитель искусства находится одновременно «здесь» и «там». У всех народов сам язык подсказывает, что художник – не просто ремесленник, который довольствуется тем, что копирует природу или подражает ей, но что он вдохновлен, наделен даром, причастен Божеству или тому, что названо «djinn».
Поэтому и задаются часто вопросом об отношении между «творцами» и их Творцом. За этим отношением стоит вся проблема Божьего творчества. Когда мы говорим в связи с художественным произведением о творчестве, это не просто языковая условность или поэтический образ. Нет, художник есть икона. А, по замыслу иконописца, икона предназначена для молитвы, даже если сейчас она висит в буржуазной гостиной или в музее. Настоящим знатокам известно, что она превосходит себя самое. Художник может не отдавать себе отчета в том, что его дар – от Бога, но он чувствует, что созданное им – это, по выражению Рудольфа Отто, «Совсем Иное».
Каковы отношения этих двух творцов – Бога и человека? Что означает эта глубинная интуиция, благодаря которой художник сходит с небес? Существует ли Божие слово в поддержку этой затеи – создать красоту? В Коране сказано: «Не видят ли они, как начинает и вновь начинает Бог Свое творение?» Это значит, что Бог воссоздает умершее. «Бог творит последнее творение» после воскресения. Речь идет о сущностном изменении, которое позволяет твари быть преображенной и возрасти, быть приведенной к жизни дуновением, а не вылепленной по воскресении заново. «Вдруг, во мгновение ока мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется и слово написанное: поглощена смерть победою» (1 Кор. 15, 52–54).
Цель искусства – сделать творение вечным. В книге Бытия сказано, что творец Духом Своим положил конец первоначальному хаосу. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы» (Быт. 1,3–4). Как видим, творение, как оно описано в Библии, вовсе не означает творения ex nihilo (из ничего). Только во второй книге Маккавейской, очень поздней и не числящейся в каноне еврейской Библии, мы читаем, что Бог создал все из ничего. Конечно, Новый Завет совершенно ясно говорит о творении ex nihilo, то же самое утверждают и Отцы Церкви, отвергая мнение Платона и греческой мифологии, которая рассказывает о несотворенной материи. И все же, когда Библия говорит о творении, она имеет в виду, главным образом, победу Бога над мраком и Его господство над вселенной. Она не высказывает метафизической теории причинности. Книга Бытия находит параллель и завершение в книге Откровения, в конце которой упоминаются «новое небо и новая земля» (Откр. 21,1).
Там сказано: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 21, 3). Конечная цель творения–искупление. Это «точка Омега» Тейяра де Шардена.
Творение продолжается. «Отец Мой доныне делает» (Ин. 5, 17). Бог неусыпно печется о Своем творении. Повеление: «Да будет…» – по–прежнему столь же действенно. Потому и учил св. Василий Великий, что все части мира связует любовь. Любовь вписана в самое структуру бытия. Человек, живущий в любви, есть «новая тварь»: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5,17). Когда мы говорим о Боге Творце, это означает, в конечном счете, что Он любит. Бог создает людей, потому что Он их любит.
Человек есть образ Божий: когда Бог любит, он создает то, что любит. Он выводит его из мрака к свету. И у творческого дела Бога, и у творческого дела человека одна цель – создать Царство света. Любовь Божия не только всеобщая и вселенская, она и частная, особенная. Всякая тварь облечена в эту любовь, как только она становится собой, а не только в силу принадлежности к роду людскому. Эта любовь утверждает каждое существо в его особенности и не дает ему смешаться с целым. Таким образом, вещи несмесимы, и ни одна из них не исчезает в другой. Бог хочет, чтобы был каждый отдельный человек, каждый цветок, каждая звезда.
Так же и художник: он создает, потому что любит. Как только появится в нем предчувствие вещи и он ее полюбит, он видит ее одну. Он утверждает ее в ее особенности. Он забывает обо всем остальном. Созерцаемая вещь представляется ему единственной. Он видит ее в связи с другими вещами. Он видит связь между мелодией и мелодией, между цветом и цветом. Это новое видение вещей – так влюбленный мгновенно открывает, что эта девушка не такова, как все другие. Она не есть одна из женщин, она единственная в мире, она – сам мир. Для художника весь мир становится тем холстом, который он покрывает красками. Также и грешник, умоляющий о прощении, становится единственным во взоре Божием.
Как видим, человек подобен Богу. Но можно ли потому назвать его творцом? Не будет ли это слово лишь аналогией, условностью? В этой точке нашего размышления следует сказать, что художник обновляет творение. Он придает новую форму материи этого мира. Ни мелодия, ни краска, ни написанный текст не существуют как таковые в природе. И какие бы усилия ни прилагал художник, чтобы приблизиться к действительности, всегда остается нечто от его собственной личности, преобразующей полученные извне впечатления. Художник прежде всего читает вселенную, а затем выражает ее. Он может так глубоко уходить во внутренний мир, что порою совсем удаляется от мира внешнего. В принципе, мир искусства – самый прекрасный мир. Он–квинтэссенция обычного мира, его глубина, связь, единящая его со славой, которая воссияет в последний день. Искусство – натянутая струна между нынешним и будущим веком. Оно–предчувствие той высшей Красоты, которая изливается на нас с высоты небес.
У читателя может возникнуть впечатление, что я делаю из художника святого. Истина в том, что каждый святой–художник, но не наоборот. Святой любит всех тварей, разумных и неразумных. Он видит бытие взором Божиим. Это видение преобразует бытие. Святой укрощает диких зверей, он превращает их в товарищей, которые входят в его новый мир. Святой становится выше преступления, совершенного грешником, он отделяет грешника от его греха, перенося человека в будущий век. Святой живет в преображаемом мире и воспринимает мир как свет.
Святой отличается от художника способом выражения. Он может выражать себя, если обладает нужной для этого культурой, но может и не выражать, ему довольно мученической кончины. Он может неумело, смешно, скучно пользоваться языком благочестия, но его косноязычные фразы не выражают по–настоящему его мысли. Он ощущает свою победу над грехом как свой единственный путь, вернее – как единственный путь Бога к нему. Он не представляет себе, что находится в мире выражения. Он не осознает, что идет путем очищения. Напротив, он говорит: «Христос умер за грешников, от них же первый есмъ аз», – или что–то подобное этому из другой традиции.
Ближе всех к художнику пророк. Конечно, художник не связан подобно пророку напрямик с Божественным Откровением, он не получает слова по велению Божию. Но пророк, как понимали его евреи, – а они классики в том, что касается пророчества, – есть человек писанного послания и должен его огласить. Бог сказал ему: «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые Я говорил тебе» (Иер. 36, 2). Или «Слово, которое было к Иеремии от Господа». Мы видим, что у древних пророков были свои способы, которые помогали им достигать вершин литературной выразительности. Здесь не место оспаривать традиционное для ислама воззрение, которое отрицает участие Мухаммеда в создании Корана. Но мы знаем, чем наделяет Бог пророка, когда говорит: «Кто уверует в него, кто поддержит его, кто поможет ему, кто последует свету, сошедшему свыше с ним, те блаженны». Заметим, что не сказано: «сошедшему свыше на него», но «сошедшему свыше с ним».
Мы задались вопросом о применении к человеку слова «творец». Что это – аналогия или реальность, имеющая более глубокие корни? Должен ли человек еще что–то совершить на уровне своего отношения к Богу? Есть ли свобода там, где есть человек? Действительно, либо наша свобода относится как–то к Богу, либо ее нет.
Библия мистически говорит нам о свободе, когда повествует о борьбе Иакова с Ангелом (Быт. 32, 23–33). Вернувшись на родину, чтобы встретиться с братом Исавом, преследовавшим Иакова за то, что тот отнял у него право первородства, Иаков перешел через поток вместе с семьей и всем, что имел, а потом остался один. Тогда Ангел, – который обозначает здесь Самого Бога, – боролся с ним до рассвета. Видя, что не одолевает, Он коснулся сустава бедра Иакова и повредил его. Затем Он сказал Иакову: «Отпусти Меня, ибо взошла заря». Но тот ответил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». – «Как твое имя?» – спрашивает Ангел и, получив ответ, говорит: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». – «Скажи мне имя Твое», – просит, в свою очередь, Иаков. Но слышит ответ: «На что ты спрашиваешь о имени Моем? Оно чудно». Иаков получает благословение и называет это место Пенуэл, ибо, говорит он, «я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя».
Здесь нужно отметить, что встреча Бога с человеком происходит ночью, когда все перешли вброд поток. Скорби деторождения приходят ночью, всякие роды происходят ночью, в той ночи, что была до начала, пока не сказал Бог: «Да будет!» Человек всегда яростно борется с Богом, и Бог согласен уступить в этой борьбе. Тогда–то всходит заря в сердце человека. И он становится творцом, потому что узрел лик Божий. Бог просит отпустить Его, и человек становиться таким сильным, что получает новое имя. Изменить имя для евреев, как и для христиан, значило изменить меру ответственности. В этой борьбе, которая вдохновляла великих мистиков, Иаков вводится в свое назначение, в творческую миссию создания нового народа.
Бог дает человеку силу, чтобы противостоять Ему. Конечно, это не значит, что человек побеждает Бога собственными силами. Но это может означать, что Бог хочет быть побежденным. Он хочет, чтобы человек был силен и стоял с Ним лицом к лицу вечно. Такое немыслимо для бога–тирана, для бога, навязывающего свою силу и власть, так же как невозможно такое и для бессильного, слабого человека.
Но может ли всемогущий Бог отречься от Своего всемогущества? Здесь подобает ввести понятие, известное в богословии и в христианской мистике: кенозис, или уничижение. Это слово употребляет апостол Павел в своем Послании к Филиппийцам: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу: но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2, 5–8).
Христос в воплощении скрывает свою славу. Он добровольно отказывается использовать неограниченное могущество. Отказывается, чтобы вступить в диалог с тварью, чтобы быть с человеком в отношениях товарищества, без всякой искусственности. Он умирает из любви, чтобы возбудить любовь, чтобы завоевать человека не насильственным действием, а любовью, любовью, которая отдает себя и которой человек, в свою очередь, должен себя отдать.
Бог не может спасти человека, если не спасет его сначала от рабства, самая опасная сторона которого – быть рабом Бога. Бог не хочет, чтобы человек был его пленником, не хочет порабощать его Своим всемогуществом. Ибо Его могущество есть служение. В самой природе Божией – самоотдача; Он никогда не замыкается на Себе. В Своих отношениях с человеком, еще до диалога в строгом смысле слова, то есть еще до того, как человек начинает вопрошать Его, Бог уже вникает в логику его вызова, соглашается быть вопрошаемым от человека. Он подвергает Себя риску, который предполагает всякая встреча. Совершенно неописуемым и непонятным образом Он Сам приносит Себя во всесожжение. Он низко склоняется в Своей любви, чтобы увидеть перед Собой любимое лицо, ради которого он согласен вечно умирать. Но когда Царь умирает смертью раба и, стало быть, отказывается от вечности Своего Царства, та же самая вечность начинается снова, как поется о том в византийской рождественской песни.
Что верно для искупления, порождающего новую тварь, то верно и для сотворения мира. Приводя в бытие мир, сотворяя в начале небо и землю, Бог впервые уничижил Себя, опустошил Себя ради свободы человека, чтобы человек сам стал творцом, и не по аналогии, а по причастности. Творение мира было только лепетом, только чтением по складам в сравнении с тем, чем стало воплощение. Во Христе истина воссияла всем своим блеском, но она была сотворена не тогда. Диалог спасения начался уже после сотворения мира. Крест обновил творение, открыл и явил свободу. Кто не знает свободы, которую мы имеем во Христе, все же узнают первую свободу, меньшую свободу, как называет ее Августин. Это та свобода, в которой мы внутренне определяем самих себя, в которой мы создаем мир красоты.
Человек не потому творец, что извлекает вещество из ничего, он творец потому, что, благодаря живущей в нем силе, он проникает в то, о чем сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку» (1 Кор. 2,9).
Искусство – наше освобождение от порабощения чувствами и самими собой, выход в мир грядущий, который лежит за пределами чувств и нашей борьбы с самими собой. Искусство – это свобода восстановления бытия. «Сие творите в Мое воспоминание». Искусство – наша Тайная Вечеря с бытием. Мы не пьем на этой Вечере чашу мира сего, тем более – мира иного, но пьем чашу, в которой смесились то и другое вино. Конечно, тайна сия велика. Преступая ее порог, мы можем оступиться. Свобода искусства может стать искушением, которое, если мы подадимся ему, может увести нас от той великой свободы, какую низводит на нас мир святости. Часто бывает, что творение прекрасного становится препятствием творению добра. У выразительности есть пределы, есть и ошибки. Она может вырваться из объятий духа и стать изменой. Поэтому мы не должны смешивать истинную красоту с блестящими узорами эстетизма.
Когда мы превращаем красоту в вопрос школы или принципов и это приводит нас к эстетизму, мы падаем в глубокую пропасть. Эстетизм – дело тех, кто отворачивается от истины и добра и довольствуется созерцанием. Таковые, в конечном счете, живут лишь в мире чувств, тогда как Творец красоты хотел именно превзойти чувства. Эстет – это человек, подверженный всяческим воздействиям и избегающий свидетельства самой красоты. Это человек моды, он довольствуется разговорами о красоте. Он встречается среди людей культурных, погруженных в интеллектуальный комфорт, рассуждающих о свободе, революции и на другие подобные темы. Его забота – защищать позиции, а не штурмовать их. Он одержим всем, что есть оригинального в искусстве, последней новинкой. Он только потребитель искусства. Такие, как он, составляют элиту, которая презирает простых смертных, знающих лишь предыдущую новинку. В глазах эстета важен не видящий, а увиденное.
Искусство враждебно самозамкнутости. Человек не может творить, если не уничижит себя в поисках свободы. Тогда искусство его будет подобно виденному Моисеем на Хориве кусту, который горел, но не сгорал (Исх. 3, 2). Великое искусство не исчезает в своем выражении, не исчерпывается воплощением. Оно не твердит задов, не повторяется, оно не подражает и не позволяет подражать себе. Оно всегда больше, чем его язык, и не дает себя увлечь магией слова. Для нас, арабов, большое искушение – соблазн риторики, красноречия, красивых образов, словесной музыки, игры фразами. Мы еще не поняли, что великое художественное творчество достигает вершины малыми средствами. Евангелист Иоанн написал самую глубокую в мире книгу на греческом языке времен его упадка. У Достоевского, гения романа, слог тяжеловат. Искусство может быть более или менее умелым в своем выражении. Вся проблема в яркости и силе зрения, которые обновляют перед нами мир.
Упадок искусства порождает проблему порождения самого искусства. Мы спрашиваем себя: возможно ли спасти красоту от власти небытия? Возможно ли Божественное искусство? Могут ли встретиться в одном художественном произведении мир красоты и мир святости, так чтобы это произведение казалось сошедшим с небес, или чтобы мы сами словно приблизились в восторге экстаза ко граду Божию?
Примеры Бернаноса и автора «Братьев Карамазовых» подтверждают, что можно написать роман о святости, что грех – не единственный источник художественного вдохновения. Если Бернанос решился написать роман, то это потому, что у него было послание, требующее передачи. Он создал литературное произведение, хотя к тому не стремился. Дуновение Божие в тебе превращается в бурю, и она открывает тебе видения, к которым ведет Сам Дух, ткущий тебе брачное одеяние. В этом одеянии ты вступишь в брак со вселенной. «И Божественный Учитель, как столь прекрасно говорит св. Максим Исповедник, питает тебя, словно в Евхаристии, знанием о становлении мира». Искусство, пророчество и святость сближены здесь до взаимопроникновения. Того же порядка были песнопения св. Григория Богослова и вообще древней Византии. Отказ от музыкального сопровождения придал этой музыке то религиозное звучание, которого ищут духовные люди всех религий. Свидетель Откровения видит перед Агнцем четырех животных и двадцать четыре старца, из которых каждый держал гусли и пел песнь новую. Идея старинной религиозной музыки в том, чтобы человек пел эту песнь новую, подражающую небесной мелодии. Как подчинить материю звука, чтобы она стала инструментом для этой мелодии и чтобы ее красота пришла к ней от той же музыки, способной, согласно Григорию Нисскому, проложить путь к невозможному? Тот, кто давно посещает Церковь, знает, как мы строим, с Богом и для Бога, храм красоты. Мы знаем, как искусство может стать предвкушением Царства и как может оно лишить нас Царства.
Религиозная архитектура вся проникнута этим божественным характером. Она исходит из мысли, что Церковь есть небо на земле, что в ее небесном пространстве живет Бог, что Он там ходит, как в Эдемском саду. В самом центре здания – Бог. Ветхозаветный храм был выстроен по указаниям Самого Бога. И вместе с тем храм – это образ мира, центр вселенной. Красота здесь пребывает в равновесии архитектуры и ее пропорций, в клонящемся куполе, в весьма определенном богословском образе, в служении литургии, в земном поклоне, в коленопреклонении и в прямом стоянии, в речитативе, в мелодии и свете, в единстве духа, в курении ладана, влекущем нас к небу.
Все эти элементы богослужения следуют друг за другом, сцепляются. Все вместе они погружены во время и в пространство, которые перерастают сами себя, обретают новое измерение, чтобы впасть, словно река, в Царство, которого чаем.
Самой выразительной формой этого искусства Царства, пожалуй, можно назвать икону. Она открывает нам действительность, содержащуюся в kalokagathos, в котором возвещен органический союз Красоты и Добра. По–гречески слово doxa означает и славу, и мнение, в том смысле, что правильная мысль обеспечивает истинное прославление и что истинная хвала – источник здравой и правой мысли. Здесь тесно, нераздельно связано Божеское и человеческое. Человек становится подобен Богу, ибо, созерцая славу Божию, он преобразуется в тот же образ, от славы в славу (2 Кор. 3, 18). В этом становлении человек обожен – не собственными силами или желанием, но нетварными энергиями, которые поддерживают его и влекут в бесконечность. Человек, озаренный этим вечным светом, соединяет в себе природу тварную и нетварную, он являет их в единстве «через обретение благодати», как говорит св. Максим Исповедник.
Этот божественный свет, вкушаемый нами в таинствах Церкви, этот эсхатологический свет, блистающий на ликах святых, этот свет, животворящий иссохшие кости, – и есть тот самый свет, который стремится отразить иконопись. Прежде чем положить первый мазок, иконописец берет благословение у священника и просит, чтобы тот помолился о нем, затем поет тропарь Преображению. Золотой фон иконы на техническом языке называется «свет». Краски, которые вначале, кажется, темнят образ, постепенно становятся ярче, ибо мы шаг за шагом движемся к свету, по мере того как приближаемся к окончательному виду иконы. Одновременно художник старается очиститься от всякого чувственного индивидуализма, устремляясь к видению полной и чистой любви. Перед работой он постится и молится, дабы освободиться от страстей.
Сколь бы ни был художник одарен, он не может приступать к писанию иконы лишь с одним воображением. Кто поступает так, тот чужд иконе и не вправе ее писать. Аскеза, молитва, дар духовного созерцания наряду с художественным талантом суть необходимые условия создания иконы. Перед иконой Троицы работы Андрея Рублева люди говорили: «Зрим небеса отверсты и славу Божию». Конечно, задолго до Рублева, в Византии и в других местах другие иконописцы работали над этой темой. Однако, вполне разделяя с ними понимание Троичной тайны в духе Предания, Рублев сумел выразить ее с редкостной силой, проявив личную гениальность, что и позволяет нам констатировать как его укорененность в Церкви, так и его свободу, ибо он создал произведение искусства.
Верно, что икона консервативна, потому что работа над ней идет по строгим монастырским правилам. Поэтому все иконы кажутся схожими между собой, словно вышли из одной мастерской, особенно если относятся к одной стране и одной эпохе. Это сходство избавляет их от субъективного романтизма, но не лишает утонченной личностности. Есть такая стыдливость, которая не мешает порыву. Конечно, разные школы носят черты своих народов и городов. В нашем регионе одно и то же иконописное направление получает самые разнообразные формы – от Богородицы работы Кафтуна XII века до таких мастеров, как Нематалла Насер, Хомсиот в прошлом веке.
Всех этих художников вдохновляло то, что можно назвать духовной красотой. Но как говорить о художественной красоте в Восточной Церкви, если ее мистика очищена от всякого воображения и мечтания, если она отвергает всякую иллюзию и не дает увлечь себя страсти? Она следует в этом строжайшему аскетическому пути, дабы освободиться от ига страстей и всяческой религиозной сентиментальности. На Востоке молитва есть преимущественно молитва «умная», отвлеченная от каких бы то ни было образов и слов. Мы считаем экстаз признаком начинающих, а не совершенных.
Икона нераздельно связана с восточным богословием. Она основывается на идее освящения человека нетварным светом. Это значит, что человек сам становится светом, что он выходит за пределы чувства и разума и получает опыт вещей Божественных, как они есть сами по себе. Он проникает в ту область, где знание безббразно, беспредметно и где разум не имеет чувственной формы. Икона предназначена для освящения зрения, ибо она превышает зримое, дабы привести к единению с Богом. Икона – путь, который ведет за пределы ее самой, дабы достигнуть чистой сущности, чистой Божественности.
Итак, икона по существу есть парадокс. Это встреча искусства с тем, что постоянно оспаривает его законность. Невозможно иконе родиться в среде, не знакомой с восточным богословием и не живущей им. Этим объясняется ее исчезновение на Западе после Джотто, Чимабуэ и им подобных. Поэтому Запад не смог до сих пор обрести священное искусство. Конечно, есть на Западе произведения искусства с религиозными сюжетами. Но кто смог бы с сосредоточением и сокрушенным сердцем молиться перед Девами Рафаэля? Все священное искусство Запада вращается вокруг человека, его страданий. Христос работы Руо не выходит за пределы страждущей человечности. Он остается в этом мире, в словах: «Боже мой, Боже мой, зачем Ты Меня оставил?» – и никогда не дорастает до песнопения: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ».
С искусством Запада мы остаемся по сию сторону мира–там, где есть заблуждение, желание, рана. И Младенец в яслях, и Мать суть такие же персонажи, как пастухи и волхвы. Они одной плоти и крови – нашей крови, словно Рождество не крещено светом Воскресения. Каждое лицо до исчезновения теряется в зримых вещах. Бытие рассеивается на горизонте. Плоть есть плоть, при всей своей плотности, и она исчезает до конца. Не то икона – она устремлена к человеку озаренному, взирает на него с нежностью. У нее золоченый фон, прочный, как вечность, которую он символизирует. Она – тот небесный лик, что глядит на тебя с милосердием и к которому ты прибегаешь с сосредоточением и сокрушением. И вот из этого недвижного лика проливается движение и влечет тебя к нему и сквозь него – клику Отца милосердного. Глубина твоего человечества встречается с глубиной Его Божества, и твоя жизнь теперь «сокрыта со Христом в Боге».







