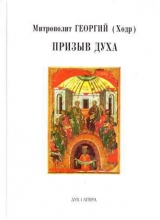
Текст книги "Призыв Духа"
Автор книги: Георгий Митрополит (Ходр)
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Церковь эсхатологически обращена не к миру, а к Богу. Она призвана стать Супругой и потому некоторым образом войти в тайну противоположности по отношению к Богу. И напротив, с тварным миром Церковь не находится в отношении противоположности. Церковь есть упование человечества, икона того, чем оно призвано стать. И, как икона, она сделана из того же вещества, что и человечество, и из света, исходящего свыше. Она для человечества есть упование преображения. В силу этого призвания Церковь есть, по словам Оригена, «космос космоса». Церковь – это порядок, гармония, смысл нашей вселенной, как Сын, по словам того же Оригена, есть «космос Церкви». Мир некоторым образом находится в Церкви. В ней он открывается себе самому и постигает свое окончательное значение. Когда община верующих различает знамения времени, она открывает в мире смысл, явленный не только ей, который воистину есть смысл вещей, ибо – как сказал Аристотель – в вещах нет ничего такого, чего бы раньше не было в суждении. Пророческое назначение, которое есть назначение Церкви, состоит в том, чтобы явить миру скрытого в нем Бога. Бога, задача Которого – приуготовить историю к ее завершению–Новому Иерусалиму. Место исполнения пророчества – мир, и он же – поле, где безмолвно сияет свидетельство святости.
Эта тесная связь между космической и сотериологической сторонами дела Божия может быть прослежена во всем учении Писания. Достаточно будет кратко проанализировать здесь единство Божественного действия в христологическом гимне из Послания к Колоссянам (1,15–20): Христос – «рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле […]все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он–начаток, первенец из мертвых, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все».
Не станем распространяться об экзегезе этого отрывка. Хотелось бы только указать, что у одного и того же Христа есть назначение космическое – быть «рожденным прежде всякой твари» – и назначение сотериологическое как «первенца из мертвых». Им все создано, все существует (IKop. 8, 6) и все связано. Пролог Послания к Евреям в одном взгляде показывает нам Того Христа, Который несет мир, и Того, Который явится в последние времена.
Гимн говорит, что все создано Им и для Него. Иоанн Златоуст поясняет, что «для Него» означает, что сущность всех вещей обращена к Нему как к началу, от которого она зависит. Я сказал бы больше: космос предназначен стать новым небом и новой землей, согласно Апокалипсису (21, 1). Космос перейдет от тленного бытия к нетленному и, таким образом, весь станет Церковью. Он с необходимостью обращен к концу времен. Тогда завершится примирение, и Церковь перейдет к Отцу. Космос достигнет своего назначения во Христе, когда Церковь придет «в меру полного возраста Христова» (Еф. 4, 13). Библия позволяет нам говорить об эсхатологическом восстановлении космоса, об искуплении вселенной, естественно завершающемся в спасении человека. В таком видении мир составляет часть Церкви, так же как Церковь, продолженная в своей плоти и истории, составляет часть мира. Мы видим, что происхождение и призвание Церкви и мира определены одним и тем же Господом, Мир как творение есть предмет веры. В вере Церковь и мир не чужды друг другу, они не суть две реальности, которые можно эсхатологически противопоставлять. В общем, Церковь есть вся вселенная целиком в том сотериологическом и эсхатологическом измерении, которое ввел в нее Воскресший. Святоотеческое предание определяет космос только как сотворенную реальность, населенную Божественными энергиями. Фаворский свет наполняет все, и преображенное вещество составит область Церкви в ее совершенстве, когда придет Парусия. Говоря об изменении космоса, св. Симеон Новый Богослов употребляет выражение «новое рождение» [6]6
Этика, 1,5, Ю.
[Закрыть]: «Наши тела и творение в целом обновятся воскресением и будут причастны сиянию запредельности». Именно в надежде этого космического обновления заключается уже сейчас союз между Землей и Царством. Спасение совершится тогда, когда кроткие наследуют обновленную землю. В ожидании этого мы уже сейчас опытно переживаем предпосылки вселенского обновления, когда живет в нас Дух Святой. Св. Симеон думает, что мир будет совершенно непостижим и никоим образом «не определим для нас», потому что станет духовным. Взятый между сотворением и конечным восстановлением – в ожидании свободы детей Божиих и своего искупления, могли бы мы добавить, – он может быть религиозно постигнут нами только в своем пути к свету.
Может быть, противопоставление Церкви и мира возникло из логической ошибки: сравнивают Церковь, как она определена в символе веры, с миром в его феноменальном, т. е. видимом глазу, ужасе. Забывают, что святость Церкви должно понимать эсхатологически, как святость ее Главы, того мгновения, когда совершается Таинство, и Второго пришествия. Но Церковь как собрание грешников – по слову св. Ефрема Сирина – находится под знаком «тайны беззакония», а следовательно, она составляет часть исторической жизни и причастна нашему жалкому положению. Церковь продолжает быть народом Божиим и подпадает, таким образом, под пророческое осуждение. Святоотеческой мысли Запада и Востока Церковь не представляется непорочной, но подлежащей исцелению. Ввиду невежества и многочисленных уродств ее членов Церковь имеет все основания ежедневно твердить: «И остави нам долги наша». Церковь жива прощением Божиим.
Ныне православное сознание не приемлет некогда обычного выражения «Церковь кающаяся». Это неприятие–реакция на протестантизм. Выражение «Церковь кающаяся» представляется несовместимым с идеей соучастия в святости, неразрывного союза между Христом и Его Телом. Кажется, что это выражение превращает тайну Церкви в феноменологическое понятие. Определение Церкви как народа Божия исправляет перекос современной экзегезы, которая неумеренно настаивала на выражении «Тело Христово». Церковь настолько смешали с Христом, что стало невозможным какое–либо различение между ними. Церковь в ее историческом бытии и в ее таинствах стала полностью отождествляться с жизнью Царства. Такая терминологическая взаимозаменяемость «Господа» и «Церкви» совершенно упразднила образ союза, мистического брака между Спасителем и спасенными, ибо о браке можно говорить лишь тогда, когда есть различие. А ведь во всей библейской традиции от Осии до Песни Песней брак между Господом и Его народом – реальность, находящаяся в становлении, и основана она на верности Господней и на возвращении народа к послушанию. Точно также в Новом Завете единство между воплощенным Словом и спасаемым Им человечеством не отменяет характера, присущего тем, кто движется к спасению, но, по немощи своей, все еще принадлежит к преходящему образу мира сего. Грех мира никоим образом не может быть онтологически внешним для Церкви в ее отношении к миру.
Боюсь, что мы зачастую создаем богословие нашего собственного величия, нашего воображаемого нравственного превосходства над теми, кого считаем принадлежащими к миру сему. Еще Ориген однако предупреждал нас: «Иногда случается, что изгнанный наружу пребывает внутри, а кто внутри, тот снаружи» [7]7
Против ересей, 4,18,5.
[Закрыть].
К тому же нет никаких доказательств, что опыт близости Божией у христиан больше, чем у других. Один только Бог знает, как отвечает человек на Его любовь. Тайна agape в душе христианина и нехристианина остается неразгаданной. В историко–социологическом плане у нас нет никакого критерия для проверки превосходства христианской среды в плане agape.
Чтобы конкретнее постичь отношения между Церковью и миром, нам нужно обратиться к литургии. Есть царское правило, провозглашенное св. Иринеем: «Наша вера согласна с Евхаристией, а Евхаристия подтверждает нашу веру» [8]8
Гомилии на 2 Кор., XX.
[Закрыть]. Не говоря о кресте и храме, которые облекаются в космическое значение, очевидно, что все течение литургического богослужения, включающего в себя вещество, обретает весомость и ритм мира. Община познает, что закваска, вино, вода, масло, цветы, плоды, воск, уголь, ладан, огонь и свет взяты такими, какие они есть, и принесены в дар Господу. Более того, молитва имеет в виду человека с его ремеслом и семьей, возрастом, положением в обществе. Она возносится о таком человеке, каков он есть. Грех упоминается в связи со всем собранием, которое совместно поет: «Господи, помилуй». Совершающий служение признает себя грешником: «Никто–же достоин от связавшихся плотскими похотьми и сластьми приходити или приближатися или служити Тебе, Царю славы», но Божественное действие истребляет его грех. Мир как он есть, во всей своей немощи, входит в литургию и в своей сущности утверждается ею. Грех не разрывает действительности. В литургическом действии утверждается единство тварного и нетварного.
Человек в литургии взят в его природном измерении и в его измерении историческом, в его усилии осуществить свое владычество над природой и историей. Из начала книги Бытия явствует, что образ Божий есть, прежде всего, образ владычества: первое упоминание о сотворении человека по образу и подобию Божию, так же как и второе упоминание о сотворении человеческой четы по образу Господню, сопровождаются дарованием чело веку владычества (Быт. 1,26–28).
Человек мыслится здесь как посредник между Богом и миром. Он совершает это посредничество в труде, искусстве, политической жизни. Труд обосновывается богословски как причастность Божественной мудрости, как способ воссоздания вселенной. В космической литургии он подобен проскомидии. В литургии все означает действительность, выходящую далеко за пределы храма. Благодаря искуплению нет больше различия между непосвященным и посвященным, естественным и сверхъестественным. Таинство открывает нам, что Христос присутствует, призван присутствовать по ту сторону священной ограды. Стоя на молитве вместе со всеми, мы знаем, что «тайно образуем» не только собор небожителей, но и хор всех человеческих упований, восходящих ко Господу, что и правда, и красота – действительны. Храм земного домостроительства находится между храмом космоса и храмом небесным. Он причастен обоим. С этой точки зрения Церковь – не гетто, которое отрезает нас от истории, а тайна вселенского общения. И церковное действие, взятое во всем его богатстве, символизирует, освящает, вдохновляет, завершает таинственную жизнь человечества. Благодаря евхаристической трапезе мы становимся Телом Господним, а следовательно, в потенции – телом всего человечества, потому что мы таким образом берем на себя то, что взял на Себя Христос. Мы несем это человечество в себе с бесконечным состраданием. Для общины принять Евхаристию – значит пройти через кенозис, потерять свою душу, чтобы обрести свободу и принять человечество безоговорочно во всем его многообразии, во всем его несчастье.
Познать эту тайну самоуничижения – значит увидеть Церковь такой, какой слишком часто видит ее Бог: Церковью, где обрывается общение. Это значит – в некий момент истории пробудить ставшую похожей на синагогу, обросшую ритуалами Церковь, напомнить ей о ее призвании общения. Но это может совершиться по–настоящему лишь постольку, поскольку мы стремимся, чтобы между людьми открылась любовь, превосходящая и право, и силу. Это сразу же глубоко погружает нас в этическую проблематику и, в частности, ставит перед нами проблему культуры и социальной революции.
Христианский мир постоянно находится перед этическим кризисом. Действительно, если в области разума нас искушает языческий натурализм, то в области практики искушает роднящее с иудеями законничество, внешний характер веры. Иногда кажется, что христианская этика так и не ушла от оправдания законом, против которого боролся Павел в Посланиях к Римлянам и к Галатам. Однако собственно христианская позиция не определяется отвлеченной идеей Добра и безличной системой отношений. Эта позиция–кенозис, обращение, взывание к той любви, которой любит нас Бог во Иисусе Христе. Это послушание, обновляющее нас, чтобы через нас Бог мог открыться ближнему как любящий его.
Человек существует потому, что знает, что Бог его любит; потому что он может вступить в общение, которое побудит его открыть эту любовь. Идея, правило, боязнь нечистоты только раскрывает перед нами нашу немощь. Подавляющая нас «абсолютность» мира взрывает абсурд постигающего нас события. Для человека приемлемо лишь такое видение, в котором назначение мира – наша радость. Урок, который несут нам «благодать и истина», состоит в том, что личность выше природы и истории. Мир ждет от нас, чтобы мы стали святыми. Святость – единственное, что не вмещается в образ мира, созданный им самим. А ведь духовное возрождение человечества становится возможным только тогда, когда евангельское свидетельство разрушает и правила, и все наше привычное представление о мире. Одна только святость вновь ставит нас под вопрос, колебля кажущуюся безопасность, в которой мы стремимся укрыться.
Я убежден, что несмотря на всю сложность проблем, поставленных перед нами современной жизнью, человека спасает обретение другой личности, которая безвозмездно соглашается служить ему. Человек соединяется с человеком в общении, которое делает его творцом, потому что оно само есть общение живых.
Не будем распространяться здесь об обновлении Церкви. Невозможно с достаточной силой подчеркнуть важность аскезы, постоянного пыла для овладения Царством. Если, в плане формальном, следует приспособить ту или иную каноническую дисциплину к современным условиям нашего существования, то физическую монашескую аскезу можно смягчать только с огромной осторожностью. Кроме того, прежде чем рассуждать о духовности христианского Востока, чрезвычайно благотворно укрепиться в Нагорной проповеди. Быть честным, если уж не прямо добродетельным – это условие sine qua поп (непременное), для борьбы с морализмом. Богословие приходит после. Так, апостол Петр, призвав Колоссян сначала «умертвить земные члены» (Кол. 3, 5), говорит им, какими они должны стать, «совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, на необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем – Христос» (Кол. 3, 9–11). Итак, именно благодаря обновлению, пережитому каждым, сокрушается стена разделения, созидается единство Церкви, а из него вырастает единство всего человечества. Такое постоянное очищение человека вернет Церкви утраченный ею облик. Она не будет больше местом, где душно; она станет тем местом, где мы откроем, что Христос Бог есть «дыхание жизни нашей» (Иер. 4, 20).
Хотя реформа аскетики и необходима, не в ней наибольшая проблема. Она может уживаться с поверхностной духовностью. Люди ищут в христианстве не новых стилей жизни, не внешних форм. Их влечет только истина. Огромна притягательная сила креста, открывающего людям свет. Не догмат, сформулированный в ученых терминах, отталкивает их. Они были бы готовы пройти трудную науку, если бы видели, как она может преобразить их существование. Если неопатристическое православное богословие увлекает и воспламеняет энтузиазмом людей, то это оттого, что через словесное облачение, такое же сложное, как в богословских учебниках, оно вводит нас вглубь духовной реальности. Именно потому, что это богословие глубокое и строгое, требования, высказанные некоторыми молодежными движениями в современном православии, приняты всерьез. Напротив, когда оно отворачивается от общественности и культуры, когда его дух становится косным, фарисейским, тогда движение приходит в упадок.
Если присутствует здесь весть Пятидесятницы, то она разорвет ветхую скорлупу и утвердит равновесие, здравие и православие нашего богословского и библейского обновления, нашей литургической реформы и социальной практики. Как нам взывать к Отцу и жить в Церкви, сохраняя дерзновение? Как сохранить тайну, постоянно ее передавая? Как ввести мир в тайну Божию, в брачный чертог, не лишая его присущего ему динамизма? Все это, в принципе, возможно внутри мощного обновления в плане личном и всеобщем. Мир потерял чуткость к идее аскетического подвига. Духовный гигантизм показался бы ныне холодным, индивидуалистическим. Привлекает современного человека образ Христа, который живет среди людей, ест и пьет с ними, но остается «Светом Божиим», без лжи, без какого–либо порочащего Его союза; Христа, кроткого перед людьми, но покорного одному лишь Отцу, снисходительного к грешникам, но грозного к сильным и к тем, кто праведен лишь по закону. Поскольку ученик уподобляется этому образу, постольку он становится стержнем обновления, сообщая его Церкви и всему поколению современников.
Если в богословском и этическом плане установлено, что не существует двух сфер духовного бытия, то деятельность христиан равно протекает в алтаре и вне его. Св. Иоанн Златоуст говорит, что бедняк – это «храм, который больше церкви; тот жертвенник, который ты можешь видеть воздвигнутым повсюду на улицах, и во всякий час ты можешь принести на нем жертву» [9]9
Constantin Cavarnos, Anchored in God, Athenes, Ed. Aster, 1959,p.211–212.
[Закрыть]. Присутствие любви в христианине есть присутствие Христово во всей общине.
Таким образом, мы знаем и то, что, начиная с Креста, не бывает автоматического вхождения в историю в плане спасения. Чтобы прийти ко Христу, как к альфе и омеге всего творения, нужно пройти через смерть и воскресение. Чтобы преобразиться и развиваться в свете, история становится постоянным распятием. И дети света идут на крест в своей жизни, «сокрытой со Христом в Боге». Несомненно, глубинная, идущая в счет перед Богом, жизнь человечества не обязательно параллельна историческому прогрессу. Ее нельзя заставить совпасть с «достижениями» познания, искусства, освободительного движения. И конечно, православный Восток понимает конец времен как эсхатологическую катастрофу, которая завершит историю, разрушив безмятежный оптимизм и посрамив легкомысленный прог–рессизм. Встреча тварного с нетварным превзойдет все, что мы можем от нее ожидать.
Так как красота, уготованная для нас в вечности, несказанна, у некоторых христиан возникает искушение пренебрежительного отношения к творчеству человека. По их мнению, все, что нельзя назвать однозначно и строго церковным, принадлежит веку сему, тени преходящей. Они опираются на монашескую литературу, которая утверждает, что монах должен учиться лишь Писанию да творениям Отцов. Не удивительно ли прочесть, например, такие слова, вышедшие из–под пера ученого монаха: «Келия мира – не лаборатория для ученого исследователя и не писательский кабинет, но место молитвы, труда и размышления» [10]10
Urs von Baltazar, Liturgie cosmique, Maxime le Confesseur, Paris, 1947, p. 236.
[Закрыть]? И этот снобизм смирения преисполняет православный мир. Конечно, нам подобает, вместе с Паскалем, утверждать превосходство милосердия над разумом, но чтобы говорить о шаткости и эфемерности красоты и рассуждающей мысли, нужно сначала хотя бы немного познакомиться с ними. Вообще, кроме случаев редких носителей харизмы, подлинная отрешенность бывает там, где есть опыт, иначе это малостоящая болтовня, в которой свободная и осознанная жертва ради Евангелия смешивается с мазохистским саморазрушением.
Обожествление страдания присуще не одному только западному Средневековью. Некоторое утеснение разума, отказ от мирских наук в древнем христианстве были одной из форм реакции на язычество. Греческая гуманитарная культура была у христиан под подозрением до того времени, когда Аполлинарий Лаодикийский переложил стихами Библию, а Василий Великий рекомендовал обучать молодых людей словесности. В своем пространном возражении Цельсу, который обвинял христиан во враждебности к умственной жизни, божественный Ориген писал: «Логос желает, чтобы мы были мудрыми» («Против Цельса», III, 45). И заключает: «Несомненно, в настоящем образовании нет зла, ибо образование – путь к добродетели» (III, 49).
Нет нужды распространяться здесь о чрезвычайном значении, которое имела греческая философия в разработке корпуса православной догматики. При всей свободе, с которой отцы относились к Платону и неоплатонизму, при том факте, что они не эллинизировали Откровения и что православие по своему содержанию осталось истинно библейским, христианского учения в том виде, в каком оно предложено нам, невозможно понять вне категорий эллинской мысли. Это значит, что нам не приходится искать культуры где–то далеко, за оградой храма. Литургия не только отражает античное представление о красоте, но и использует, говоря об ангелах, платоновскую категорию «идей». На Востоке, где не знали западного гуманизма, богослужение вплоть до прошлого века оставалось единственным источником культуры. Речь идет не об исторической случайности. Ливанский философ Рене Абаши считает, что для разума естественно создавать себе таких посредников между инстинктом и верой, эмпирикой и откровением, как наука и философия: «Это различение ослабляет узы, все еще недолжным образом связующие духовное с временным».
Что сказать о технической цивилизации? Не привел ли, в ментальном плане, ее чрезвычайный рост к некоей разновидности шизофрении? Ведь, с одной стороны, мы продолжаем потреблять все, что приносит нам индустриальное производство, а с другой – живем в романтической ностальгии о прошлом. Боюсь, как бы христианские круги, напуганные все большим и большим развитием возможностей человека, не впали в апокалиптическую болтовню, оплакивание утерянных духовных ценностей, в истерический катастрофизм отсталых народов. В таком случае они рискуют забыть о том, что в нынешних условиях существования только справедливое распределение средств производства на международном уровне, только перемещение технологий и финансов в страны Южного полушария способны освободить эти страны от экономического порабощения великими державами, от голода и утраты собственной глубинной сущности. Можно, конечно, оплакивать утрату «культуры символизма, внутреннего мира, теллуризма», но, может быть, это плата за справедливость, хлеб и достоинство. Может быть, остальное будет возмещено в посмертии? В настоящей точке нашего исторического развития гуманной можно считать лишь такую культуру, которая распространяет себя в мире: мир, созданный для всех людей, и есть критерий человеческой культуры. Пока образование не демократизировалось, музеи, искусство, умственная жизнь были достоянием буржуазии; для множества стран это остается верным и сейчас.
Во всяком случае, культура становится евхаристической лишь тогда, когда отказывается от самодостаточности и делает себя общением. Только человек спасет ее от опасности присущей ей двусмысленности, эстетизма или воли к власти, которыми она нас соблазняет. Именно в общении святых я могу понять, что человек бесконечно превосходит природу, науку, материальное производство, художественное творчество. Пусть культура будет в основе своей литературной или технической, это ничего не меняет: отдаваясь своему словесному или механическому производству, человек спасется лишь в том случае, если осознает, что любим Богом. После работы на заводе, в лаборатории, после межпланетного путешествия человек останется один на один с проблемой любви. Некое космическое опьянение, поэзия, подобная той, что примешивается к геометрии, придадут человеку такое измерение, в котором он сможет открыть Бога не только через самоотречение, но и через преизобилование собственной человечности.
Каков смысл этой эволюции для мысли и для христианской жизни внутри ограды храма? Что означает построение космического храма для храма церковного с точки зрения языка, символов, вероучительных формулировок? Если существует различие между христианским посланием и той иудео–эллинской культурой, в которую оно облачено, можно ли сказать, что Евангелие должно облачиться в другое платье, чтобы быть услышанным? Ответ на эти вопросы возможен лишь внутри процесса значительного духовного обновления, которое стало бы более мощным, чем история, источником дерзновения. Ответ будет возможен, если чуткость к нарождающейся цивилизации раскроет дары воображения и творчества. Ответ – в глубокой любви к Евангелию Иисуса Христа и к человеку, каким дает его нам Промысел, управляющий историей.
Работать в области техники без техницистической мистики, стараться разглядеть в техническом прогрессе его духовное значение – не с позиции церковного верховенства, а путем диалога со всеми духовными семействами страны, в которой живем, – так можно очертить культурный идеал наступающих времен.
Человек сегодня – это, главным образом, сообщество людей. Если ошибка коммунистов была в том, что конкретного нынешнего человека приносили в жертву абстрактному человечеству завтрашнего дня, от того не менее верно, что реальный человек и есть это огромное тело человечества, распятое на кресте нужды от края до края земли. Милостыня, там, где она еще возможна, не облегчит страданий раздираемого тела. Кроме того, в Новом Завете милостыня–скорее средство очищения, подобное молитве и посту, и совершаемое наедине с Отцом. Может быть, она обретает свое назначение как дело любви только в более справедливом обществе, ибо в настоящее время в тех обществах, где она не передается учреждению анонимно, она может уязвить бедняка как знак солидарности дающего с несправедливым обществом. Фактически, она объединяет благодетеля только с Богом, а не с тем, кто ее принимает. Милостыня – не единственная материальная форма agape. В вопросе Иисуса Филиппу, перед словами о хлебе жизни: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» (Ин. 6, 5) – звучит особая забота Господня о земном устроении. Речь о Евхаристии становится возможна только после раздаяния хлеба. И с этого времени преломление хлеба стало самым красноречивым знаком общинного характера Церкви. За денежное даяние здесь нищие примут нас в вечные обители, ибо им обещано Царство (Лк. 6, 20) и к ним послан Христос (Лк. 4, 18). В новозаветной перспективе нищие всегда будут с нами (Ин. 12,8). Это значит, что Церковь должна полностью отождествить себя с обездоленными, поскольку эти слова становятся исторической действительностью. Внешнее обретает здесь огромную важность. Стать из любви no–настоящему не иносказательно, нищим, как бы знаком Царства, в котором наше единственное богатство, – таков неоспоримый критерий евангельской подлинности. Человек принадлежит тому, чем обладает. Вот почему без добровольно принятой бедности христиане теряют чувство странничества на земле. Пропадает вкус Евангелия.
Историческая Церковь довольствовалась тем, что видела это эсхатологическое чувство необладания в монашестве, – до того дня, когда монахи начали различать обладание индивидуальное и коллективное. В общем богатстве они обрели ту обеспеченность, от которой отреклись лично, и эта обеспеченность сделала их гораздо сильнее привязанными к миру, чем миллионы голодных на планете. Следовательно, монах, как всякий человек, принадлежит к общественной институции, а конкретно – к классу имущих. Во многих странах, например, в нашей, он владеет богатствами, которые объективно включают его в класс крупных земельных собственников. В этом смысле монах – среди тех, кто поддерживает отчуждающие силы истории.
Верно, что в целом Православная Церковь не стала жертвой неумеренного обогащения. Она осталась Церковью крестьян, ремесленников, многочисленных бедных епископов и плохо оплачиваемых священников. Все христианство сделалось объектом социальной критики оттого, что Западная Церковь, напротив, стала на сторону богатых. Здесь налицо солидарность христианских Церквей как в добром, так и в дурном.
Если же соблазн не так обострился у нас, как у других, от этого не становится менее верным, что безразличие к земным благам в историческом православии должно стать очень сильным, если Церковь хочет по–настоящему участвовать в свидетельстве и тем действенно помочь людям в их страданиях. И эта действенная помощь должна быть бесконечно большей, чем простой призыв к милосердию. Такой призыв, сколь бы мощным он ни был, не приведет ни к чему без богословского и этического обоснования, которое следует вновь разработать. Здесь встает двойная проблема: есть ли у христиан как общины послание, которое нужно передать обществу? С другой стороны, обязаны ли христиане преобразовывать исторические структуры?
На первый вопрос можно ответить, что социальная практика, ответственность за историческую действительность предполагает весьма сложные социологические, экономические, политические, да и технические, познания, которых Церковь не только не имеет, но для которых требуется анализ, даже некоторая идеология, для Церкви неприемлемая. По самой своей природе Церковь не субъект таких познаний. Однако если Церковь, сообщество любви, не обладает технически адекватным пониманием действительности, то отдельный христианин или группа, часть которой составляют христиане, стремясь в настоящее время произвести историческое действие, все–таки не может обойтись без серьезного анализа действительности. Для такого анализа могут быть использованы любая система, метод, концепция, с какой бы философией они ни были связаны, точно так же как христианин–психоаналитик может воспользоваться фрейдовским методом, не разделяя при этом метафизики Фрейда.
Если верно, что Церковь, по своей сущности, чужда социальной науке, то ее свидетельство остается общинным. Ибо она продолжает исполнять пророческую функцию Христа, функцию, которая в Новом Завете не возложена на одних только изолированных носителей харизмы, но присуща народу Божию в целом. Церковь – это таинство любви, а стало быть, и того, чего эта любовь требует от людей. Пророчество, священство и царственность в ней нераздельны. Почему бы Церкви, в определенной стране и в определенное время, не обрести голоса Амоса и не сказать притеснителям праведника: «Многочисленны преступления ваши, и тяжки грехи ваши» (Ам. 5, 12)? Речь не только о том, чтобы она признала высочайшее достоинство бедных, но и о том, чтобы в христианском собрании не допускать никакой формы дискриминации. Ибо вне этого собрания – суд миру: «А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?» (Иак. 2,6). Если эти слова еще не составляют программы политического действия, то они суть, по крайней мере, общинное свидетельство против наглой неправды. Всякое свидетельство, сколько–нибудь широкое по охвату, непременно есть свидетельство политическое, поскольку приносится оно в гражданском обществе и раздражает власть. Абсолютно аполитичная Церковь немыслима: она была бы уже in patria (в отечестве). Не произносит ли Господь в высшей степени политического суждения, когда называет Ирода лисицей (Лк. 13, 32)?







