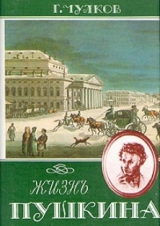
Текст книги "Жизнь Пушкина"
Автор книги: Георгий Чулков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
III
В добродетельном и благополучном доме Егора Антоновича Энгельгардта Пушкину было скучно; литературные журфиксы[258] в семье барона Теппера де Фергюссона тоже были не очень забавны; не веселее было и в семействе Вельо[259] или в квартирке добродушного Чирикова; куда интереснее было бывать в доме у Карамзиных, где было чему поучиться и всегда можно было встретить писателей и поэтов… Но и здесь, когда Николаю Михайловичу вздумается заговорить о русской государственности, становится тошно и хочется бежать куда угодно, только бы не видеть этого изящного старика и не слышать его речей во славу самодержавной монархии.
Тогда Пушкин, сговорившись с лицейскими аргусами[260], уходил на всю ночь в Софию[261], в казармы, к гусарам. Там его встречали с распростертыми объятиями. Там не было постных физиономий и можно было острить и шутить, соперничая с самим Вольтером.
Здесь не смотрели на Пушкина, как на школьника. С ним считались как с поэтом, остряком и вольнодумцем. Царскосельские гусары были, конечно, лихими повесами, и казарменный быт, хмельной и беспутный, был сомнительной опорой для нравственности, но Пушкин предался ему с увлечением.
Все эти молодые люди – Молоствов[262], Зубов[263], Сабуров[264], Каверин[265] и другие – нравились Пушкину своим веселым удальством, и иные из них внушали к себе уважение, потому что поэт видел в них участников Отечественной войны. Некоторые из этих гвардейцев совершили заграничный поход и были свидетелями русского триумфа в Париже. Они вернулись в Россию с какими-то надеждами на возрождение отечества и на торжество тех освободительных идей, которые были достоянием европейской либеральной буржуазии.
Пушкин разделял эти надежды. Правда, он не успел еще найти какой-нибудь положительный идеал гражданственности, но зато он твердо знал, что надо бороться с абсолютизмом, клерикализмом, феодализмом… В этом он был уверен. И если он год тому назад написал патриотическую оду «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.», то теперь он сам стыдится этих официальных стихов. На императора Александра не один Пушкин, но и многие свободомыслящие дворяне возлагали какие-то надежды, но теперь ясно, что эти надежды тщетны.
Декабрист И. Д. Якушкин[266] рассказывает в своих записках, что, когда гвардия вернулась из заграничного похода, он наблюдал в Петербурге торжественный въезд царя. «Наконец, – пишет он, – показался император, предводительствующий гвардейской дивизией, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую уже он готов был опустить перед императрицей… Мы им любовались. Но в самую эту минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет…»
Не один Якушкин разочаровался тогда в царе. Приятели Пушкина, лейб-гусары, презирали двусмысленную царскую политику и самого царя. Правда, это гусарское вольномыслие было не очень глубоко, и позднее сам Пушкин вспоминал иронически об этих разговорах «между лафитом и клико»[267]. Тогда еще не входила глубоко в «сердца мятежные наука». Все это было только скука —
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов.
Близость к дворцовой, придворной жизни позволила и молодым гусарам, и лицеистам узнать, между прочим, такие секреты царского быта, какие не могли поддержать в них чувство уважения к императору. Пушкин и другие лицеисты посещали, например, дом барона Вельо и даже волочились за его дочкою Софи, но все знали, что эта самая Софья Осиповна Вельо[268] наложница Александра Павловича Романова и царь назначает ей свидания в Баболовском дворце[269].
Среди вольнодумцев-гусаров выделялся Петр Павлович Каверин. Он был старше Пушкина на пять лет. Этот молодой лейб-гусар был образованный человек. Он учился в «благородном московском пансионе», потом год слушал лекции в Московском университете, а в 1810–1812 годах – в Геттингенском вместе с братьями Тургеневыми. Отечественная война понудила его идти на военную службу. Он участвовал в кампании 1813–1815 годов. В январе одновременно с Чаадаевым он перешел в лейб-гвардии гусарский полк и тогда же познакомился с Пушкиным. У Каверина была репутация отчаянного кутилы. Он поразил воображение и немцев в Гамбурге, и соотечественников в Петербурге. Десятки анекдотов рассказывали про этого молодого человека, отличавшегося, по выражению П. А. Вяземского, «скифскою жаждою». Это не помешало ему быть масоном и обладателем немецкого патента ложи «Золотого циркуля», выданного ему в Геттингене весною 1812 года с удостоверением, что он получил звание мастера.
Каверин был красив, отличался железным здоровьем и заразительной веселостью. Само собою разумеется, что он был покорителем сердец. Одним словом, он не случайно был приятелем Евгения Онегина[270]. На войне он получил золотое оружие «За храбрость»; в мирной обстановке он щеголял изысканностью своего костюма и прекрасными манерами, а в холостой компании – гомерическими[271] кутежами и фантастическими приключениями.
Пушкин посвятил ему катрен:
В нем пунша и войны кипит всегдашний жар,
На Марсовых полях он грозный был воитель,
Друзьям он верный друг, красавицам мучитель,
И всюду он гусар.[272]
За какие-то фамильярные строки, ему посвященные Пушкиным, Каверин обиделся, и поэту пришлось написать ему иное послание:
Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные стихи.
Люблю я первый, будь уверен,
Твои гусарские грехи…[273]
Впоследствии, переделывая эту пьесу, Пушкин утешал его тем, что «ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом». А в первоначальной редакции та же мысль была высказана более пространно, и поэт уверял приятеля, что «можно дружно жить с стихами, с картами, с Платоном[274] и с бокалом».
В декабре 1825 года, когда опальный Пушкин жил поневоле в Михайловском, Каверин был уже в отставке и скучал в Калужской губернии. На Сенатской площади его не было. Однако он был членом «Союза благоденствия»[275] и в качестве такового просидел некоторое время в Петропавловской крепости. Его, впрочем, освободили, и он был, по официальному выражению, «оставлен без внимания».
Совсем по-иному выделялся из гусарской среды Петр Яковлевич Чаадаев. Он был ровесник Каверина, так же, как он, участвовал в Отечественной войне и побывал с русскими войсками в Париже. Он также был масоном. Его имя имеется в списке петербургской ложи «Соединенных братьев». В 1814 году он был принят в какую-то ложу в Кракове. По его собственным словам, он достиг высокой степени посвящения, кажется, восьмой, и был связан со старинной шведской масонской организацией. Однако уже в 1818 году Чаадаев разочаровался в масонстве. На то у него были серьезные основания. Но в годы его царскосельского знакомства с Пушкиным он еще посещал ложу. Чаадаев познакомился с Пушкиным в доме Карамзина, и поэт был очарован этим не совсем обыкновенным человеком. Тогда еще у Чаадаева не было сложившейся философской системы, и он, как и все вольнодумцы-масоны, исповедовал миросозерцание, которое впоследствии (в письме к своему приятелю декабристу И. Д. Якушкину) сам называл «леденящим душу «деизмом[276], не идущим дальше сомнений». Однако уже тогда, в 1816–1817 годах для Чаадаева его убеждения вовсе не были «забавою взрослого шалуна». Петр Яковлевич Чаадаев хотя и был «вторым Евгением»[277] и так же, как этот денди[278], очень был озабочен тем впечатлением, какое он производит в салонах, однако было в нем и нечто иное, и Пушкин понял серьезность и глубину этого всегда трезвого человека. За блестящей внешностью гвардейца таилась какая-то особая жизнь, к которой с любопытством и вниманием приглядывался юный Пушкин. Поэту с достаточным основанием приписывают четверостишие, посвященное Чаадаеву:
Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской.
Он в Риме был бы Брут[279], в Афинах Периклес[280],
А здесь он офицер гусарский.[281]
Пушкин, быть может, не совсем удачно старался угадать возможную биографию Чаадаева, но во всяком случае правильно почувствовал, что этот красавец, надменный, холодный, спокойный, самоуверенный и всегда как будто несколько задумчивый и печальный, оказался в «оковах службы царской» как-то не на своем месте, и в иных исторических условиях пришлось бы ему выбрать для себя совсем иной жизненный путь.
О чем этот философствующий гусар беседовал с юным поэтом? Темы этих бесед у нас не вызывают никаких сомнений. У нас есть признания самого Пушкина, который посвятил Чаадаеву три послания, если не считать пьесы «К моей чернильнице»[282], которая, в сущности, есть четвертое послание ему же. Вероятно, в 1818 году поэт признается, что «нетерпеливою душой» они оба «отчизны внемлют призыванье»: они жаждут «минуты вольности святой». Молодые люди «свободою горят»:
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена![283]
Итак, очевидно, что разговоры шли о сокрушении самодержавия прежде всего. Само собою разумеется, что вопрос о крепостном праве также разрешался в либеральном смысле. Весь круг тогдашних идей, которые характерны для декабристов, был, конечно, очень близок и Чаадаеву, и Пушкину в первые годы их дружбы. Второе послание «К чему холодные сомненья…»[284], хотя и загадочно несколько относительно времени написания и даже относительно истории самого текста, всецело подтверждает, однако, признания первого послания. Правда, теперь в сердце поэта, «бурями смиренном», иные настроения, но он очень помнит, как «с восторгом молодым» он делил дружбу с Чаадаевым. Но «молодые восторги» и мечты о борьбе с самодержавием были свойственны тогда многим образованным дворянам, не довольным сложившимися для них неблагоприятно историческими условиями. Иное дело Чаадаев. У него было какое-то своеобразное отношение к России и к освободительным идеям эпохи. Чаадаев не просто увлекался политическим вольнодумством. Он искал цельного миросозерцания. Он искал какого-то высшего смысла в истории. В те юные годы у него еще не сложилась оригинальная и последовательная философская система, но он уже искал ее и требовал от Пушкина участия в этих исканиях. Менее всего юный поэт был подходящим человеком для какой-либо философской системы. Всякое отвлеченное мышление было чуждо пушкинской натуре, но живую личность Чаадаева со всей его искренней жаждой узнать истину поэт чувствовал и любил. В третьем послании 1821 года, «В стране, где я забыл тревоги прежних лет…», Пушкин дает отчет другу в своих новых настроениях и трудах. Теперь он хочет следовать его советам «и в просвещении стать с веком наравне». Поэт мечтает опять встретиться с Чаадаевым:
Когда услышу я сердечный твой привет?
Как обниму тебя! Увижу кабинет.
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель;
Приду, приду я вновь, мой милый домосед,
С тобою вспоминать беседы прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры;
Поспорим, перечтем, посудим, побраним,
Вольнолюбивые надежды оживим…
Если Пушкин угадал в Чаадаеве идейную силу и душевную значительность, то и Чаадаев, в свою очередь, поверил один из первых в гениальность поэта. Но его уже и тогда, в годы их царскосельских встреч, смущало непонятное ему равнодушие Пушкина к теоретическому мышлению. Чаадаеву казалось, что его долг руководить этим капризным умом. И хотя, в сущности, он сам не нашел еще тогда своего нового положительного слова, но он все-таки чувствовал себя идейно вооруженным и верил, что само «провидение» соединило его с поэтом. И позднее, когда их пути разошлись, Чаадаев издали ревниво следил за судьбою Пушкина.
Здесь, у Чаадаева, познакомился Пушкин с шестнадцатилетним мальчиком Николаем Николаевичем Раевским[285] и подружился с ним. Умный и даровитый Раевский, младший сын известного героя 1812 года[286], не был кутилою. Его дружба с поэтом была прочной и значительной. Пушкин ценил ее.
Весною 1817 года по каким-то соображениям решено было досрочно назначить выпускные экзамены и выдать двадцати девяти лицеистам их дипломы. Пушкин как раз в эти последние месяцы учился очень небрежно и даже по русскому языку получил худую отметку. Ему было не до того. Он делил свое время между умным Чаадаевым и беспутными его товарищами по гусарским казармам в Софии. Было, впрочем, у него и одно важное дело. Он обдумывал и уже начал писать большую сказку-поэму «Руслан и Людмила». Экзаменов лицеисты не боялись. Педагоги, заинтересованные в том, чтобы их питомцы не ударили в грязь лицом, заранее открыли все секреты экзаменов и даже распределили между лицеистами темы, на которые они должны были отвечать. Пушкин тоже не боялся экзаменов, но у него была другая забота. Еще в марте он начал сочинять стихи, которым, вероятно, придавал немалое значение. Очень может быть, что сам Энгельгардт предложил ему тему. Это была опасная тема. Юный поэт решил написать нечто о безверии. Мы теперь знаем, что добродетельный Егор Антонович в своей немецкой записке со свойственной ему прямолинейностью отметил, что у Пушкина «французский ум», что «его сердце холодно и пусто», что в нем «нет ни любви, ни религии». И вот теперь этот высоконравственный педагог как будто захотел испытать поэта еще раз и выслушать от него его последнее признание… Возможно, однако, что Пушкин и сам выбрал эту рискованную тему; возможно, что ему захотелось на прощанье дать какое-то объяснение этому своему моральному обличителю и строгому судье. Первые строки стихотворения как будто непосредственно обращены к Энгельгардту:
О вы, которые с язвительным упреком,
Считая мрачное безверие пороком,
Бежите в ужасе того, кто с первых лет
Безумно погасил отрадный сердцу свет;
Смирите гордости жестокой исступленье…[287]
Если бы поэт отнесся к своей задаче официально, как он это сделал, когда ему пришлось писать стихи по поводу бракосочетания принца Оранского, до которого ему не было никакого дела, он бы совсем иначе написал свое «Безверие». Нет, на этот раз Пушкин со всею искренностью ведет полемику со своими обличителями:
Смирите гордости жестокой исступленье…
Его строгие судьи оказываются теперь в роли подсудимых. Поэт сам их обличает. Он вовсе не приносит покаяние. Напротив, он с полной откровенностью рассказывает о душевном состоянии того, чей «ум ищет божества, а сердце не находит».
Этот не совсем обычный афоризм через четыре года Пушкин записал в своем кишиневском дневнике: «Сердцем я материалист, но мой разум с этим не мирится». Пушкин записал эти слова Пестеля – «умного человека во всем смысле этого слова».
Восемнадцатилетний Пушкин в «Безверии» нисколько не отказывается от своего безбожия. Он только утверждает, что оно еще не обеспечивает человеку оптимистического взгляда на мир. Это мысль в духе Чаадаева. Безверие – безотрадно. Что это сказано не в угоду начальству, видно из того, что в известном письме 1824 года перехваченном жандармами, Пушкин повторяет ту же мысль об атеизме, «системе не столь утешительной, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобной». То, что можно было сказать безнаказанно на экзамене в 1817 году, через семь лет оказалось преступным в глазах николаевского правительства.
Неизвестно, понял ли Е. А. Энгельгардт горький сарказм Пушкина. Кстати сказать, этот строгий моралист, обвинявший Пушкина в том, что у него в сердце нет религии, сам был, по свидетельству одного из его учеников, человеком неверующим. Это очень похоже на истину, ибо хотя Егор Антонович и построил в Царском Селе кирху на деньги, отчасти собранные из масонских лож и отчасти полученные им на это дело из русской казны, но вся его кисло-сладкая религия сводилась к очень жалкому рационализму. И в «безбожии» юного Пушкина было в тысячу раз больше положительного отношения к бытию, чем в этой худосочной «религии сердца» благочестивого лифляндского дворянина.
Экзамены, состоявшиеся 17 мая, прошли совсем не торжественно. Также очень скромно прошел и акт, на коем присутствовал Александр Павлович Романов в сопровождении маленького А. Н. Голицына[288], заменившего теперь на посту министра народного просвещения графа А. К. Разумовского. Это был тот самый Голицын, который, утомившись развратом, находил теперь приятность в навязывании российским гражданам самого темного и тупенького мистицизма.
Итак, 9 июня на выпускной акт пришел в лицей император, который в 1811 году основал это учебное заведение, но потом в течение шести лет не удосужился ни разу поговорить ни с одним из юношей и ни разу даже не зашел в здание лицея. Лицеисты видели царя только в аллеях парка, когда он пробирался к своей любовнице Вильо.
После акта он вдруг решил осмотреть дортуары[289]. Этого царского каприза никто не ждал, и смущенный Е. А. Энгельгардт водил царя по лицею, где в беспорядке валялись повсюду баулы и дорожные корзины лицеистов, которые в тот же вечер спешили разъехаться по домам.
Пушкин получил диплом, в коем было сказано, что он обучался шесть лет в лицее закону Божию, священной истории, логике, нравственной философии, праву естественному, частному и публичному, а также российскому гражданскому и уголовному праву, и оказал во всех этих предметах успехи хорошие. Превосходные успехи он оказал в трех предметах в словесности французской, русской и фехтовании. Перечислены были еще и многие другие предметы, которыми он «сверх того занимался».
Из 29 воспитанников по успехам в науках Пушкин оказался девятнадцатым и был выпущен с чином десятого класса[290] и определен в Коллегию иностранных дел[291] с жалованьем в 700 рублей ассигнациями.
В прощальном послании к товарищам Пушкин писал:
Равны мне писари, уланы.
Равны законы, кивера.
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в асессора[292];
Друзья! немного снисхожденья —
Оставьте красный мне колпак…[293]
Очевидно, Пушкин намекал на якобинский колпак[294], который считал самой подходящей эмблемой для своей новой жизни. Поэт, однако, не без грусти покидал свое царскосельское жилище. В послании Горчакову он как будто предчувствует, что его жизнь будет нелегкой и несчастливой:
Мне кажется: на жизненном пиру
Один с тоской явлюсь я, гость угрюмый
Явлюсь на час – и одинок умру…[295]
Пушкин трогательно прощался с товарищами юных лет. В послании к Кюхельбекеру он дает обещание верности:
Святому братству верен я![296]
И в самом деле, всю жизнь поэт добром поминал лицейскую годовщину. В пьесе «19 октября» 1825 года он поминает не только товарищей, но и лицейских учителей:
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим…
Итак, юность кончилась. На случайно уцелевшем клочке автобиографических записок Пушкина имеются следующие строки: «Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но все это нравилось мне недолго. Я любил и доныне люблю шум и толпу…»
Глава четвертая. В ПЕТЕРБУРГЕ 1817–1820 ГОДОВ
I
В Михайловском Пушкин познакомился с обитательницами Тригорского, соседней усадьбы, где хозяйничала П. А. Осипова[297], окруженная целым роем девочек и девиц. Через семь лет поэту суждено было в деревенском заточении делить досуги с этой семьей и ухаживать поочередно почти за всеми влюбленными в него девицами. Но в 1817 году ему было не до сельских романов. Его манил Петербург. Кроме Тригорского посетил он еще Петровское, где жил брат его деда, генерал Петр Абрамович Ганнибал[298], который, утомленный старостью и бурными страстями, находил теперь утешение в искусном приготовлении разнообразных водок и настоек. «Подали водку, – рассказывал впоследствии Пушкин про эту встречу, – налив рюмку себе, велел он и мне поднести, я не поморщился – и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз пять или шесть до обеда…» Побывал Пушкин и у другого своего родственника, Павла Исааковича Ганнибала[299], который принял его радушно и понравился поэту веселым своим нравом, что будто бы не помешало ему вызвать старика на дуэль за то, что он отбил у него какую-то девицу во время котильона[300] на деревенском балу. Дуэль, впрочем, не состоялась, потому что Ганнибал насмешил своего строптивого родственника экспромтом:
Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Ганнибала,
Но ей-богу Ганнибал
Ссорой не подгадит бал.
Этот анекдот очень похож на истину.
В конце августа, не использовав для деревенской идиллии двухмесячного отпуска, Пушкин вернулся в Петербург. Ему пришлось жить в доме родителей. Пушкины нанимали второй этаж в доме Клокачева, на Фонтанке, близ Калинкина моста, а в первом этаже обитало семейство барона Корфа. И этот Корф в своей записке брезгливо рассказывает: «Дом их представлял всегда какой-то хаос: в одной комнате богатые старинные мебели, в другой пустые стены, даже без стульев; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня; ветхие рыдваны с тощими клячами, пышные дамские наряды и вечный недостаток во всем, начиная от денег и до последнего стакана. Когда у них обедывало человека два-три лишних, то всегда присылали к нам за приборами». Немудрено, что Пушкин, познакомившись с Катениным, не приглашал его к себе; самолюбивому и мнительному Павлу Александровичу казалось это непонятным. Пушкин вообще никого не приглашал к себе и не мог приглашать. В доме Пушкиных быт в самом деле был очень странный. Сергей Львович Пушкин в своей скупости перешел какие-то пределы пристойности. Даже своему любимому Левушке он делал серьезные выговоры, если тому случалось разбить рюмку. Пушкин с горечью вспоминал в 1823 году, как отец упрекал его, когда он, больной, в осеннюю грязь или в трескучие морозы брал извозчика от Аничкова моста за восемьдесят копеек. С. А. Соболевский[301] рассказывал, как Пушкину приходилось упрашивать, чтобы ему купили бывшие тогда в моде бальные башмаки с пряжками, и как Сергей Львович предлагал ему свои старые, времен императора Павла. Поэт находил, впрочем, случаи для того, чтобы дразнить своего батюшку за скупость. Однажды Пушкину случилось кататься на лодке в обществе, в котором находился и Сергей Львович. Погода стояла тихая, а вода была так прозрачна, что можно было видеть речное дно. Пушкин вынул несколько золотых монет и одну за другою стал бросать в воду, любуясь их блеском в лучах солнца.
Пушкин был беспечен. Это возмущало Сергея Львовича, хотя он сам нисколько не был склонен обременять себя заботами и делами. Семисот рублей жалованья Пушкину, конечно, не хватало на его тогдашнюю жизнь. Заработка литературного еще не было. И вот, несмотря на такую нищету, Пушкин предался светской жизни и разгулу, который обращал на себя внимание. Откуда он брал средства для такого образа жизни? По-видимому, он пировал у своих многочисленных приятелей, не считая себя обязанным в свою очередь устраивать пиры для этих «друзей Вакха и Киприды»[302]. В этом отношении он не мог, конечно, соперничать ни с Н. В. Всеволожским[303], ни с В. В. Энгельгардтом[304], ни с десятками других своих друзей и поклонников. Зато он «музу резвую привел на шум пиров и буйных споров».
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей.
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась…[305]
Пушкин гордился своей «ветреной подругой», но, конечно, она была его спутницей не только во время поездок на «остров Цитеры»[306] или при жертвах вечно юному Бахусу. За видимым разгулом таилась иная жизнь. Но поэт не любил откровенничать и предпочитал репутацию беспечного гуляки. Старшие его друзья были обеспокоены его судьбой. А. И. Тургенев жалуется в ноябре 1817 года Жуковскому: «Пушкина-Сверчка я ежедневно браню за его леность и нерадение о собственном образовании. К этому присоединились и вкус к площадному волокитству, и вольнодумство, также площадное, восемнадцатого столетия. Где же пища для поэта? Между тем он разоряется на мелкой монете. Пожури его». Вздыхал и Е. А. Энгельгардт, до которого доходили слухи о кутежах Пушкина: «Ах, если бы бездельник этот захотел учиться, он был бы человеком выдающимся в нашей литературе…»
Проходит несколько месяцев, и Тургенев опять жалуется на Пушкина в письме к Вяземскому: «Пушкин по утрам рассказывает Жуковскому, где он всю ночь не спал, целый день делает визиты б…м, мне и кн. Голицыной[307], а ввечеру иногда играет в банк[308]…» Даже К. Н. Батюшков стал беспокоиться и предлагал отправить Пушкина в Геттинген и «кормить года три молочным супом и логикой»… Авось тогда образумится.
Впрочем, если бы у нас не было этих свидетельств о беспутном поведении Пушкина, мы знали бы о всех его слабостях из его собственных признаний. Вскоре после лицея он в концовке остроумного послания А. И. Тургеневу[309] объявил, что «поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст». Этот афоризм стал его девизом, по крайней мере в трехлетие его петербургской жизни до высылки на Юг. Однако, как бы он ни бравировал своим пристрастием к радостям «общедоступной Афродиты», на самом деле он свято хранил в сердце иные радости. В послании к Жуковскому («Когда к мечтательному миру…»[310]) он признается старшему другу:
Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов!..
Об этом, конечно, он не станет говорить ни Мансурову[311], ни Юрьеву[312], ни Щербинину[313]. С уланом Юрьевым он будет болтать о ветреных Лаисах[314] и об его усах, попутно сообщая, что он, поэт, «потомок негров безобразный»[315], нравится этим самым Лаисам «бесстыдным бешенством желаний». С красавцем и богачом Щербининым он будет вспоминать о том, как они вином душистым запивали «жирный страсбургский пирог»[316], а Мансурову напишет такое письмо[317], очевидно, сохраняя стиль своих с ним бесед, что его воспроизвести в печати полностью никак нельзя по непристойности выражений.
Ссылаться на эпоху и тем оправдывать поведение Пушкина тех годов едва ли следует. После веселого вечера у Каверина, который пригласил к себе свою подругу «для удовлетворения плотских желаний», по его выражению, Пушкин пишет:
Мы пили – и Венера с нами
Сидела, прея за столом.
Когда ж вновь сядем вчетвером
С б-ми, вином и чубуками?[318]
Но не вся эпоха заполнена была этим распутством. Были ведь тогда не только Юрьевы и Мансуровы, но и Жуковские, Раевские и Чаадаевы. Да и сам Пушкин прекрасно понимал уже тогда, какова цена всем этим гусарским «радостям». И едва ли он искренен, когда уверяет приятелей, что «молодость и счастье» – в хмельном разгуле:
Здорово, молодость и счастье,
Застольный кубок и бордель,
Где с громким смехом сладострастье
Ведет нас пьяных на постель.[319]
Написал же он незадолго до этих легкомысленных стихов пьесу «Прелестнице»[320], где у него «невольный хлад негодованья» в каждой ямбической строчке:
Не привлечешь питомца музы
Ты на предательскую грудь.
Неси другим наемны узы,
Своей любви постыдный торг,
Корысти хладные лобзанья
И принужденные желанья,
И златом купленный восторг!
Пушкин и в эти годы отлично понимал, что поверхностная философия какого-нибудь Кривцова[321] немногого стоит, понимал – и все же писал ему сочувственные стихи[322]. В чем же тайна этих противоречий? Ее разгадать не так уж трудно, если представить себе восемнадцатилетнего Пушкина и припомнить его отроческие годы, его семью, его педагогов, тогдашний дворянский быт и его африканскую натуру.
Вся чувственность его предков, все темные их страсти бушевали в «маленьком» Пушкине. К тому же эти страсти были не в хилом теле, как это иногда бывает. Пушкин был юноша здоровый, крепкий, мускулистый, гибкий. Он был гимнаст. Он славился как неутомимый ходок пешком. Он умел и любил плавать. Смело ездил верхом, хотя позднее кавалеристы подсмеивались над его приемами наездника. Он отлично дрался на эспадронах[323]. Известный фехтовальный учитель Вальвиль[324] считал его лучшим своим учеником.
Здоровый и страстный, он жадно искал чувственных наслаждений – и что могло тогда остановить его на этих сомнительных путях? Сухой и бесплодный морализм Е. А. Энгельгардта мог только вызвать иронию у такого «вольтерьянца», каким был юный Пушкин. «Религия сердца» сентиментального Жуковского могла только забавлять его своей наивностью. Та социальная среда, в коей он вращался, была вся на ущербе, и «дворянская распущенность нравов» всецело поддерживала его чувственные пристрастия. Французская поэзия, почти вся эротическая и нередко скабрезная, давно уж развратила его воображение. Тщетно Чаадаев пытался внушить своему другу какие-то начала нравственности: у самого Петра Яковлевича в эти годы не было еще цельного мировоззрения, и ему не удалось победить веселый скепсис юного эпикурейца.
Надо удивляться не тому, что Пушкин предавался кутежам и не брезговал альковами Лаис, а тому, что в эти годы уже возникали в его душе серьезные замыслы, что чудесно зрел его поэтический дар и что он среди любовных и чувственных приключений находил время для упорного труда над своей поэмой «Руслан и Людмила». Но как ни крепок был организм Александра Сергеевича Пушкина, кутежи и альковные увлечения должны были подорвать его здоровье. Январь и февраль 1818 года поэт прикован был к постели. Он воспользовался невольным уединением и усердно работал над своей поэмой. «Если бы еще два или три… так и дело в шляпе, – писал А. И. Тургенев Вяземскому 18 декабря 1818 года. – Первая… болезнь была и первою кормилицею его поэмы». В феврале 1819 года Пушкин опять болен. «Венера пригвоздила Пушкина к постели и к поэме», – считает своим долгом сообщить Тургенев тому же Вяземскому. В середине июня Пушкин снова лежал больной. На этот раз у него была «горячка». Жизнь его подвергалась серьезной опасности. «Пушкин очень болен, – пишет Тургенев Вяземскому. – Он простудился у дверей одной… которая не пускала его в дождь к себе, для того чтобы не заразить его своей болезнью. Какая борьба благородства, любви и распутства!» Этот или подобный случай дал поэту повод написать пьесу «Ольга, крестница Киприды…»[325] Однажды, когда Пушкин лежал так, прикованный к постели недугом, к нему в квартиру проникла некая веселая дама, переодетая гусаром. Поэт посвятил приключению стихотворение «Выздоровление» («Тебя ль я видел, милый друг?»)[326].
II
Борьба «Арзамаса»[327] с Шишковым, Шаховским[328] и прочими ревнителями «Беседы» к тому времени, когда Пушкин покинул царскосельское заточение, утратила уже свою остроту. Юного поэта приняли «арзамасцы» с распростертыми объятиями, и он произнес вступительную речь в шестистопных ямбах. Он получил прозвище Сверчок. Его присутствие только на одно мгновенье оживило это пережившее себя общество. На «протесте» не построишь прочного здания. Пока «Арзамас» протестовал против анекдотических крайностей поэтики Шишкова, против реставрации славянского языка, против казенного и хвастливого национализма, казалось, что в деятельности «Арзамаса» есть свой смысл, что он защищает свою идею. Но когда «Беседа» зачахла, с нею вместе стал угасать и «Арзамас». Не было повода для протеста, а своей самостоятельной идеи, новой и сильной, в «Арзамасе» не оказалось вовсе. Если в «Арзамасе» не было серьезной и оригинальной эстетической идеи, то еще менее можно в нем усматривать какой-нибудь социальный противовес реакционной «Беседе». Вряд ли в чопорной «Беседе» надо видеть оплот «вельможной» феодально-аристократической группы, а в «Арзамасе» искать либерально-шляхетскую мелкопоместную оппозицию. Вся эта борьба шла в другом плане, на других путях. Катенин, Грибоедов[329], Кюхельбекер вовсе не были «вельможами», однако они свою литературную судьбу связали с идеями, довольно близкими теории Шишкова. Да и сам Пушкин только в лицее, будучи мальчиком, «протестовал» против «Беседы» и считал себя «арзамасцем», а после школьного задора довольно трезво отнесся к этой буре в стакане воды. Недаром он пришел к Катенину и, подав палку, сказал: «Я пришел к вам, как Диоген[330] к Антисфену[331]: побей, но выучи», на что образованный джентльмен ответил: «Ученого учить портить». Катенин был противником «Арзамаса», но он был одним из видных участников политической оппозиции как раз в эпоху перестройки «Союза спасения»[332] и организации «Военного союза»[333], впрочем, недолго существовавшего. Пушкин уважал Катенина как политически независимого человека и ценил в нем его образованность и ум. Поэт даже прощал ему его смешное самолюбие. Воспоминания самого Катенина свидетельствуют о забавном непонимании мемуаристом своего скромного места в литературе. Но Пушкин, при всем своем уважении к заслугам Катенина, прекрасно видел и его слабости. В черновике письма к Вяземскому, незадолго до своего вынужденного путешествия на Юг, Пушкин дал Катенину лаконичную, но блестящую характеристику: «Он опоздал родиться – не идеями (которых у него нет), – но характером принадлежит он к восемнадцатому столетию: та же авторская мелкость и гордость, те же литературные интриги и сплетни. Мы все по большей части привыкли смотреть на поэзию, как на записную прелестницу, к которой заходим иногда поврать и поповесничать, без всякой душевной привязанности и вовсе не уважая опасных ее прелестей. Катенин, напротив того, приезжает к ней в башмаках и напудренный и просиживает у нее целую жизнь с платонической любовью, благоговеньем и важностью…»








