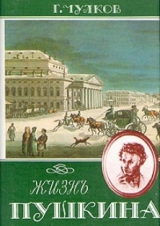
Текст книги "Жизнь Пушкина"
Автор книги: Георгий Чулков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Это сознание Пушкина, что он совершает некий художественный подвиг, знаменательно. В самом деле, в 1825 году, в глуши русской провинции, в селе Михайловском Опочского уезда, было создано мировое произведение. Это было первое монументальное творение на русском языке. По заключенной в нем поэтической энергии ничего равного в русской литературе до того времени не было. «Трагедия моя кончена, – писал Пушкин Вяземскому, – я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын!..» Дата последней беловой рукописи трагедии – 7 ноября 1825 года. Историки литературы отмечают совпадения некоторых мотивов пушкинской трагедии с «Генрихом IV» и «Макбетом» Шекспира[680], иные видят в ней драматические элементы, напоминающие кое-что еще, но биографа интересуют не литературные реминисценции и влияния, а сама жизнь, которая внушила поэту эту вольную и, как он сам думал, романтическую трагедию. За видимой объективностью в изложении событий и в характеристике действующих лиц таилась страстная душа автора, готовая, как эхо, откликаться на все впечатления бытия. Он сам намекает, что иные исторические характеры изображены им под влиянием того или иного жизненного опыта: «Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова[681]! Знаешь ее? Не говори, однако ж, этого никому», – писал Пушкин Вяземскому в середине сентября 1825 года, а месяца через полтора в письме к нему же повторил свое признание, но в такой нескромной форме, что процитировать его никак нельзя. Вероятно, были прототипы и для других персонажей трагедии. Да и сама тема цареубийства подсказана не только летописями и историей Карамзина, но и судьбою Александра I, поднявшегося на трон по ступеням, обагренным кровью. Как ни тщательно замаскирована эта историческая аналогия, но психологический мотив нравственных страданий царя, изнемогающего от укоров совести, остается в полной силе. Наконец, превратность исторических судеб, непрочность монархической власти, зависимость ее от преобладания тех или иных социальных сил это все тема, связанная непосредственно с темою тайного общества, о существовании которого знал Пушкин. Если бы не было у него встреч с будущими декабристами, споров в кишиневском доме М. Ф. Орлова, где в них принимала участие и «славная баба» Катерина Николаевна; если бы он не участвовал в «демагогических» разговорах в Каменке, не догадывался о заговоре и о подготовлявшемся цареубийстве, – Пушкин не написал бы «Бориса Годунова». Но большинство современников не поняли и не оценили «Бориса Годунова», как это предсказывал Н. Н. Раевский.
«Борис Годунов» был почти окончен, когда Пушкин узнал, что в село Лямоново к опочскому предводителю дворянства А. Н. Пещурову приехал его родственник[682], князь А. М. Горчаков. Этот лицейский товарищ Пушкина делал блестящую дипломатическую карьеру; он в это время исполнял обязанности первого секретаря русского посольства в Лондоне и сейчас ехал в отпуск из Спа, где он лечился. Пушкин забыл о том, как он обидел в своем послании[683] Горчакова, назвав светских его друзей «украшенными глупцами, святыми невеждами и почетными подлецами», да и самого его – «язвительным болтуном» и «приятным лжецом». Пушкин забыл об этом и решил навестить товарища, который, приехав к дядюшке, слег в постель. Легко себе представить эту встречу поэта и молодого, но уже солидного карьериста. Горчаков был достаточно образован, чтобы понимать права Пушкина на уважение и признание. Он еще в лицее был самым прилежным переписчиком его стихов, но вместе с тем блестящий дипломат не мог побороть в себе известного высокомерия к коллежскому секретарю, опальному неудачнику, не сумевшему обеспечить себе независимость и достойное положение в обществе. Горчаков был достаточно тонок, чтобы не подчеркивать этого своего житейского превосходства, но, очевидно, Пушкин догадался в чем дело. «Горчаков доставит тебе мое письмо, – писал Пушкин Вяземскому. – Мы встретились и расстались довольно холодно – по крайней мере с моей стороны. Он ужасно высох – впрочем, так и должно быть: зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием; первое все-таки лучше. От нечего делать я прочел ему несколько сцен из моей комедии…»
Впоследствии Горчаков, любивший щеголять остротами и «словечками», говорил, что Пушкин читал ему свои произведения, как Мольер своей кухарке. Однако тут же он дал понять, что Пушкин слушался будто бы иных его советов. Вероятно, при свидании у Пещурова самонадеянный князь как-нибудь неосторожно вышел из скромной роли мольеровской кухарки, и это раздражило Пушкина. Но добродушный поэт в пьесе «19 октября» опять вспомнил об этой встрече без гнева:
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.
Летом 1826 года у Пушкина была еще одна встреча, которую нельзя не отметить. Это встреча с двадцатитрехлетним поэтом Николаем Михайловичем Языковым[684], товарищем А. Н. Вульфа по Дерптскому университету. Пушкин со свойственной ему благожелательностью, познакомившись со стихами Языкова, признал и хвалил их и, кажется, очень хотел познакомиться с юным поэтом. Но этот юный поэт долго упрямился и не ехал в Опочский уезд, а в письмах к брагу отзывается о стихах Пушкина со смешным высокомерием. Даже стихи «Бахчисарайского фонтана» кажутся ему вялыми и невыразительными… Забавны его отзывы и об «Онегине»: «Онегин мне очень, очень не понравился; думаю, что это самое худое из произведений Пушкина…» Однако шесть недель, проведенных в деревне в обществе поэта, повлияли на Языкова. Он был побежден блеском его ума и благородством сердца. Позднее он опять ворчал и на «Сказки» Пушкина, и на «Повести Белкина»[685], но там, в Тригорском, он был в плену пушкинской музы. А Пушкин, не подозревая в Языкове ни зависти, ни задних мыслей, послал ему, еще не будучи с ним знаком, осенью 1824 года послание «Издревле сладостный союз…» шедевр этого жанра. А когда Языков уже после жизни в Тригорском написал Пушкину стихи «О ты, чья дружба мне дороже…»[686], где воспевает вино, «плоды сладостной Мессины[687]» и «стаканы-исполины», а о самом поэте наивно говорит как о равном ему товарище по ремеслу, Пушкин, ничуть не обидевшись, послал ему вторую пьесу «Языков! Кто тебе внушил твое посланье удалое?»[688] – стихи, которые неизмеримо лучше, точнее и смелее выражают хмельную тему трезвого Языкова.
В середине декабря 1825 года в два утра была написана Пушкиным повесть в стихах «Граф Нулин». Сам поэт признается в одной из своих заметок, что поводом для написания этой шутливой повести в жанре «Беппо» послужило чтение поэмы Шекспира «Лукреция»[689]. Первоначально Пушкин хотел пародировать античный сюжет, но дело было не в пародии, а в изумительном реализме этого анекдота. Когда повесть была напечатана в 1828 году, критики (особенно Надеждин[690] в «Вестнике Европы») возмущались «низким стилем» и нескромностью повествования. А между тем «Граф Нулин» (так же как и четвертая и пятая главы «Онегина», над которыми тогда Пушкин работал) был победой реализма. Нам сейчас трудно себе представить тогдашнее впечатление читателей от новизны пушкинского повествования. В «Графе Нулине», так же как в «Онегине», средняя помещичья усадьба с ее дворянским бытом и крепостным укладом предстала во всей своей ничем не прикрытой наготе. Пушкин не польстил этой усадьбе. Он как будто добродушно, а на самом деле беспощадно высмеял ее.

Пушкин. Фрагмент. Ж. Вивьен. 1826

Пушкин в Михайловском. П. П. Кончаловский. 1930-1951

Пушкин в парке. В. А. Серов. 1899
Глава девятая. «СВОБОДНО, ПОД НАДЗОРОМ…»
I
Это было время, когда казалось, что корабль Российского государства плывет без кормила. После 1814 года, после того как Бонапарт, «сын революции ужасной», был разбит союзниками и русский царь со своими «казаками» вошел триумфально в Париж, прошло десять лет. От либеральных мечтаний Александра ничего не осталось. Двусмысленный мистицизм близких к императору лиц, изуверство некоторых сомнительных ревнителей православия и холодная пышность официальной церковности вот что было на виду у всех, а что было в недрах народной жизни, оставалось под семью печатями. Там, на бесконечных равнинах России, раскинулись тощие пашни, нищие деревни: капитаны-исправники[691] скакали от Горюхина до Горюхина[692], блюдя порядок; дворяне-помещики, смутно догадываясь, что патриархальный строй отживает свой век, беспокоились о судьбе своих владении и привилегий, а молодые из них, успевшие познакомиться во время европейских походов с западным либерализмом, мечтали о власти и свободе, разумеется, прежде всего для дворян. В северной столице и в южной армии заговорщики разговаривали по ночам за бутылками вина о цареубийстве да и вообще об истреблении всей царской фамилии вплоть до последних младенцев. Если гаврдейцы задушили Павла Петровича, почему не задушить теперь Александра Павловича?
А сам император, когда-то поощрявший тайные общества и посещавший заседания масонских лож, медлил учинить расправу над заговорщиками и в припадке странной меланхолии уехал в Таганрог, бросив государство на произвол судьбы.
Пушкин не любил императора Александра. Патриотические восторги эпохи наполеоновских войн давно погасли. Ему был неприятен этот человек, двуликий и непонятный. Ощущая мир как полноту бытия, чувствуя живую землю как мать, как прекрасную стихию, Пушкин не мог мириться с отвлеченным мистицизмом Александра. Поэт ненавидел царских любимцев. Грубость Аракчеева была так же противна, как и пиетизм Голицына[693].
И, однако, презирая царя и его правительство, Пушкин в эти годы Михайловской ссылки размышлял о смысле истории совсем не так, как его недавние друзья-вольнодумцы. «Думы» Рылеева кажутся ему не слишком глубокими. История представляется поэту как великая трагедия. Он не верит теперь, что грубость, жестокость, мрачное невежество легко устранить, изменив политическую систему. Этого мало. Нужно еще что-то. Когда-то на Украине, в Каменке, над ним, поэтом, шутили эти аристократы-вольнодумцы, намекая на существующий заговор и, однако, давая понять, что они не считают его, Пушкина, подходящим для участия в революционном деле. Да и ранее, в Петербурге, всегда было так. Теперь поэт и сам сознает, что участие его в каком-нибудь тайном обществе было бы напрасным. Он так поглощен собою. Идеи и образы толпятся в его душе. Нет, лучше оставаться хорошим поэтом, чем быть плохим политическим деятелем, а настоящим революционером он все равно не станет, потому что он утратил веру в возможность одолеть российскую косность и рабский дух. Еще в 1823 году, до Михайловской ссылки, Пушкин писал, что тщетно он «в порабощенные бразды бросал живительное семя»[694].
Правда, несмотря на охлаждение Пушкина к политике, репутация опасного для правительства человека все еще занимала его воображение. Но Пущин сказал, что Пушкин «совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения». И Пушкин добродушно согласился с этим. Но тем обиднее все еще томиться в этом заточении, не имея возможности видеть многообразие мира. А оно так нужно поэту!
Мы знаем уже, как страстно мечтал Пушкин вырваться из ненавистного плена. С весны до конца 1825 года он ведет переписку с близкими людьми о своем мнимом аневризме[695], чтобы под предлогом болезни выехать в Дерпт или в Ригу, откуда он думал тайно бежать за границу. Мы знаем, что его план кончился неудачей. Вероятно, к концу октября относится его проект письма к императору Александру. Ему казалось тогда, что его забыли, что жизнь его пройдет зря, и болтовне с провинциальными барышнями в Тригорском. Он вдруг решил написать царю. Надо было как-то объясниться с Александром Павловичем. Ведь Пушкину было всего лишь двадцать лет, когда его выслали из столицы. Хорошо, однако, что он, Пушкин, не послал тогда этого сумасшедшего письма[696].
Но тем не менее поэт изнемогал в страстной жажде новых впечатлений. Бывают натуры, способные даже в заточении, следя за плывущими облаками сквозь решетку тюремного окна, находить какое-то удовлетворение в этом созерцании ничтожных клочков вселенной. Не таков был Пушкин. С жадным любопытством он искал безмерных богатств мира. Так, по крайней мере, было, пока его не замучила суетная ненависть царедворцев и лакейская низость жандармов. В 1825 году эта жажда многообразных впечатлений такой была пламенной, что он готов был на какое угодно опасное приключение. Бежать! Бежать во что бы то ни стало из этой нищей патриархальной деревни. И он не утратил еще надежды на побег. Только бы выбраться ему из Михайловского, попасть тайно в столицу, и он найдет способ бежать куда-нибудь на волю, прочь от этих унылых равнин крепостной России…
В конце ноября, еще не зная о смерти Александра I, Пушкин решил было инкогнито уехать из Михайловского. Для этого он приготовил «пропуск» двум крепостным П. А. Осиповой на предмет поездки в столицу. Одним из этих крепостных должен был назваться Александр Сергеевич Пушкин. Он сам, стилизуя писарской почерк, написал этот пропуск, причем тщательно перечислил приметы мнимого крепостного Хохлова: «Росту два аршина четыре вершка, волосы темно-русые, глаза голубые, бороду бреет, лет двадцати девяти…» Пушкину тогда было двадцать шесть, но на вид ему можно было дать больше. Пушкин пометил документ 29 ноября 1825 года и подписал его именем Прасковьи Осиповой, не стараясь даже подражать почерку этой влюбленной в него барыни. Но документ тогда не был использован. Поэт медлил, как будто предчувствуя события. Вероятно, 3 декабря до Тригорского докатилась весть о смерти Александра I Пушкин понял, что последствием этой смерти будут важные перемены в государстве. На другой же день он писал П. А. Катенину о своих надеждах, связанных с восшествием на престол Константина. Он, как и все, думал тогда, что царствовать будет Константин Павлович.
Любопытство и нетерпеливое желание увидеть своими глазами события, которые должны были развернуться в Петербурге, так овладели душою поэта, что он решился наконец самовольно выехать из Михайловского, под чужим именем, быть может, с документом, который он написал для своего двойника Хохлова, не зная еще о смерти царя.
Пушкин не мог, конечно, знать, какие события произойдут в Петербурге. Он только предчувствовал, что они будут немаловажны. Впоследствии он сам рассказывал друзьям что выехал из деревни в тревожных сомнениях и, когда заяц перебежал ему дорогу, отказался от мысли ехать в столицу и вернулся в свою мирную усадьбу. «Я рассчитывал, – говорил сам Пушкин С. А. Соболевскому, – приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву прямо на совещание…» Подтверждая этот рассказ, П. А. Вяземский прибавляет: «А главное, что он бухнул бы в самый кипяток мятежа у Рылеева в ночь с 13 на 14 декабря: совершенно верно…» Дней через десять после несостоявшейся поездки в Петербург Пушкин по обыкновению был в Тригорском, был весел, шутил и смеялся. И вдруг появляется перепуганный крепостной человек Осиповых, посланный в Петербург за чаем и вином. Вина он не привез. В Петербурге – разъезды и заставы. Он едва выбрался. В Петербурге – бунт. Немудрено, что Пушкин перестал смеяться и «страшно побледнел». И как было ему не побледнеть! Планы заговорщиков теперь оправдались, но еще неизвестно, чем все это кончилось. И личная судьба его была на волоске от гибели.
Но теперь все изменилось. В январе Пушкин знал уже что Константин отрекся от престола, что восстание заговорщиков подавлено, что царствует Николай, монарх пока еще загадочный, не успевший внушить Пушкину никаких чувств и мнений о себе. У поэта опять явилась надежда на освобождение. Он опять взывает к друзьям, прося помощи. «Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел», – пишет он Жуковскому.
Но у Пушкина еще нет уверенности, что он вне подозрений. «Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных…»
Он сам напоминает Жуковскому о том, что могло помешать его освобождению. Он был дружен в Кишиневе с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым; он был масоном в кишиневской ложе; он был в связи с большею частью нынешних заговорщиков. Кроме того, правительство, вероятно, не забыло, что Пушкин был изгнан за проявленный им интерес к афеизму… Об его отношении к царю Александру все знают. И, право, он был «не совсем виноват, подсвистывая ему до самого гроба». Изложив эти свои мысли Жуковскому, Пушкин благоразумно просит сжечь письмо. Но Василий Андреевич почему-то письмо не сжег.
Пушкину суждено было оставаться в своем михайловском заточении еще восемь месяцев. Если перечитать его письма за это время к Жуковскому, Дельвигу, Плетневу, Катенину, Вяземскому и другим, можно подумать, что поэт занят исключительно заботою о возвращении ему гражданских прав. Он на разные лады говорит на эту тему, то преувеличивая свою «вину» и связь с заговорщиками, то, напротив, уверяя себя и других в своей безвинности.
В середине февраля он пишет Дельвигу: «…никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции – напротив…» «Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренно помириться с правительством…» Все это понятно, но судьба побежденных мятежников мучает поэта: «С нетерпением ожидаю решения участи несчастных…» «Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя…» И, однако, предчувствуя страшный конец своих недавних друзей, как будто старается примирить свою совесть со смыслом событий: «Не будем ни суеверны, ни односторонни, как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира…»
Это упоминание о Шекспире, конечно, не случайно. Прошло всего три месяца, как был окончен «Борис Годунов». «Комедия о настоящей беде Московскому Государству», на объективный шекспировский историзм которой так надеялись благожелатели Пушкина, оказалась не такой уж объективной. И расчет, что «Борис Годунов» оправдает опального поэта в глазах правительства, оказался, как мы увидим, неверным. Впрочем, сам Пушкин не возлагал в этом отношении больших надежд на свою «комедию». И если дух Шекспира в самом деле витал в этих сценах и диалогах, то едва или такой спутник мог содействовать «объективности» этого произведения. Беспристрастие Шекспира более чем сомнительно, а у Пушкина, по его собственному признанию, было в комедии нечто опасное, с точки зрения властей. «Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию, – писал Пушкин Вяземскому, – навряд, мой милый…»
В самом деле, «Комедия о беде Московскому Государству» прозвучала как пророчество о тех событиях, которые пережил Петербург и вся Россия 14 декабря, то есть спустя пять недель после окончания Пушкиным «Бориса».
За личиною бесстрастного Пимена таилось многообразие интересов, идей и страстей. Но любопытно, что в дни этих изумительных поэтических прозрений Пушкин не чужд был житейских слабостей, которые влекли за собою иногда грустные последствия. Вот он взволнован и потрясен чтением летописей; перед ним, как ему кажется, открывается тайна народной жизни; он заглянул в самую глубину человеческой души: а там сейчас за стеною, где прядут и шьют крепостные девушки, сидит в слезах милая Оля[697], которую он, Пушкин, так легкомысленно соблазнил. Это была та самая девушка, на которую обратил внимание Пущин.
В начале мая пришлось отправить Олю в Москву к Вяземскому с просьбой принять в ней участие: «Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил…» «Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино…» Ребенка Пушкин не хочет отдавать в воспитательный дом… Нельзя ли его поместить в какую-нибудь деревню, например в Остафьево?
Возможно, что в это время у Пушкина на сердце кошки скребут, но он делает вид, что это вовсе не трагедия, а между тем незадолго до того Пушкин писал Дельвигу об «Эде»[698] Баратынского: «Что за прелесть эта Эда!» А через несколько дней опять Вяземскому: «Видел ли ты мою Эду?» «Не правда ли, что она очень мила?»
Однако надо освободиться во что бы то ни стало от всех этих безответственных связей. Надо покончить с Олей, с сентиментальной Анной Николаевной Вульф, с соблазнительной Анной Петровной Керн, с очаровательной Зизи; надо вырвать из сердца прежние увлечения в Крыму, на Кавказе, в Одессе: надо всем пожертвовать для новой жизни.
А как ее начать – эту новую жизнь? Прежде всего надо восстановить свои гражданские права. Пушкин не хочет притворяться. Раскаяния у него нет никакого. «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, – пишет он Жуковскому, – я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости». В этом кратком заявлении немало странностей: прежде всего необычен тон его. Это не просьба, а договор. Поэт смотрит на правительство как на равную ему силу. Он предлагает свои условия. Любопытно – он оставляет за собой право на идейную независимость. Он только обещает «хранить свой образ мыслей про себя». Вот это последнее обещание вызывает серьезное сомнение. Хранить про себя свой образ мыслей – что это значит? Офицер, чиновник, булочник – все могут хранить про себя свой образ мыслей, но как с такой задачей справится поэт? Отказаться поэту от своего образа мыслей – это значит умереть или замолчать навек.
Однако приблизительно в этом смысле Пушкиным было написано царю письмо[699] и отправлено во второй половине мая. Ответа он не получал и очень тревожился. «Жду ответа, но плохо надеюсь, – писал он Вяземскому 10 июля. – Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков…»
Это было написано за три дня до казни мятежников. 24 июля весть об этом событии дошла до Пушкина. Повешенные были ему лично знакомы. Ему мерещились их лица. Он вспомнил, как ранней весною, в Кишиневе, ему довелось провести утро в разговоре с Пестелем. «Да, это был умный человек во всем смысле этого слова…» Ему мерещились огромные пламенные глаза Рылеева. Пушкин шутя называл его «планщиком», подсмеиваясь над его рассудочными и не слишком глубокими «Думами», но теперь ему хотелось земно поклониться этому человеку. Он припомнил Каховского и его по-детски оттопыренные губы. Каховский был помешан на романтизме. Неужели это он убил Милорадовича?.. Пушкину мерещилась виселица и пять повешенных. Да разве он сам не рисковал быть среди них?
Да, Пушкин уцелел. И даже послал царю письмо с просьбой вернуть ему свободу. Вяземский упрекал поэта за холодный и сухой тон его письма, на что Пушкин отвечал уже после казни пяти: «Ты находишь письмо мое холодным и сухим. Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы…»
Но виселица на кронверке Петропавловской крепости еще не все: «Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна…» Там, «в мрачных пропастях земли»[700], гремя кандалами, томится милый его сердцу Пущин.








