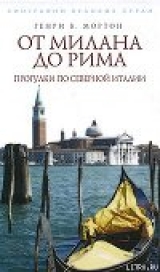
Текст книги "От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии"
Автор книги: Генри Мортон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 43 страниц)
Жизнь ее с Лодовико повторила союз Франческо Сфорца с Бианкой Висконти, да и разница в возрасте между супругами была почти такой же. Жили они в довольстве и роскоши, которым удивлялся даже Милан. Богатства герцогства были фантастическими, по-видимому и налоги тоже. Слава о миланских ювелирах и оружейниках гремела повсюду. Эти специалисты, как и во времена Висконти, могли поставить на улице сотни манекенов – мужчин и лошадей, облаченных в самые лучшие доспехи. Повсюду шло строительство. Белый собор странной для своего времени готической архитектуры поднимался медленно, но зато Чертоза из Павии компенсировала этот архитектурный анахронизм. Начались большие гидравлические работы, рыли каналы. В то время на строительстве церкви Санта Мария делле Грацие можно было увидеть Браманте или Леонардо да Винчи, рисующего лица на рынке либо обдумывающего создание аэроплана, или ранним утром заметить, как он входит в трапезную церкви Санта Мария делле Грацие, чтобы добавить несколько мазков к фреске «Тайная вечеря». В центре всей этой активности был Лодовико иль Моро: он поторапливал архитекторов и художников, инспектировал новые ирригационные системы, реставрацию церквей, пополнял библиотеки, привлекал в университеты ученых. Работал он со страстью, свойственной иногда людям, которым судьба отпустила недолгую жизнь. Считают, что доходы его маленького государства составляли более половины общего дохода Франции.
Любовь его к молодой жене распространялась и на членов ее семьи: он организовал почтовое сообщение между Миланом и Мантуей, чтобы она и ее сестра Изабелла, маркиза Мантуи, могли обмениваться новостями. Посланник вез не только письма Беатриче, но и подарки, например трюфели, зайцев и оленину, а возвращался с письмами от Изабеллы и форелью из озера Гарда. Изабелла смотрела на младшую сестру как на богатую родственницу и не могла иногда удержаться от зависти к роскоши, в которой та жила. Казна Мантуи, в сравнении с Миланом, часто была пуста. Беатриче была рада выпавшему ей счастливому жребию.
«Нашим удовольствиям буквально нет конца, – написал Лодовико своей невестке. – Я не смог бы рассказать вам и об одной тысячной доле проказ, в которых принимают участие герцогиня Милана и моя жена. В деревне они участвуют в скачках и галопом носятся за придворными дамами, стараясь выбить их из седла. А сейчас, когда мы вернулись в Милан, они изобретают новый вид развлечений. Вчера в дождливую погоду, надев плащи и повязав голову полотном, вышли на улицу вместе с пятью или шестью другими дамами и отправились покупать провизию. Но так как женщинам здесь не принято повязывать голову, то простолюдинки начали над ними смеяться и делать грубые замечания, отчего жена моя вспыхнула и ответила им в таком же тоне. Дело зашло так далеко, что чуть не закончилось потасовкой. В конце концов, они явились домой, забрызганные грязью с ног до головы. То еще зрелище!»
В следующем письме Изабелле он сообщает, что, пока он был в Павии, Беатриче и Изабелла Арагон ездили на день в Чертозу, а он вечером выехал их встретить. К своему удивлению, он увидел их в турецких костюмах.
«Маскарад этот затеяла моя жена, – объясняет он, – всю одежду она сшила за одну ночь! Когда они уселись вчера за работу, герцогиня не могла скрыть удивления, увидев мою жену, энергично работающую иголкой. Ну прямо как какая-нибудь старушка. И жена сказала ей: „Чтобы я ни делала, я делаю это с полной отдачей, и не важно, какая цель при этом стоит – развлечение или что-то серьезное. Работа должна быть выполнена хорошо“».
Эту удивительную молодую женщину послали, когда ей еще не исполнилось и двадцати лет, представлять мужа в одном из самых циничных аристократических сообществ – в венецианской синьории. Она поехала туда с матерью, герцогиней Феррары, и делегацией, превышающей тысячу человек. Шутница и сорвиголова предстала там холодной, умеющей себя подать молодой женщиной. Она уверенно обратилась к палате дожей, а ведь во время такой процедуры даже у многоопытных послов дрожали коленки. Спустя семь дней празднеств и развлечений Беатриче с матерью посетила Большой совет во Дворце дожей и затем послала мужу письмо с отчетом.
«В центре зала мы увидели принца. Он спустился из своих комнат, чтобы приветствовать нас, – писала она, – и препроводил к возвышению, где все мы сели в обычном порядке, и началось тайное голосование: нужно было выбрать два комитета. Когда с этим было покончено, матушка поблагодарила принца за оказанные нам почести и ушла. Когда она закончила говорить, я сделала то же самое. Затем, следуя инструкциям, которые ты мне дал в письме, сказала, что с дочерним смирением подчинюсь всем приказам дожа».
Ранние ее письма из Венеции звучат очень современно. Она описывает впечатления от осмотра городских достопримечательностей.
«Мы высадились на Риальто и отправились пешком по улицам, которые называются merceria, где увидели магазины, торгующие специями, шелками и другими товарами. Всего много, качество отличное, и содержится все в полном порядке. Товары разнообразные. Мы постоянно останавливались, чтобы посмотреть то на одно, то на другое, и даже расстроились, когда подошли к пьяцце Сан-Марко. Здесь с лоджии, напротив церкви, зазвучали наши трубы…»
О другой экскурсии она пишет: «Когда мы шли из одного магазина в другой, все поворачивались, чтобы посмотреть на драгоценные камни, нашитые на мою бархатную шляпу, и на жилет с вышитыми на нем башнями Генуи, а особенно – на большой бриллиант на моей груди. И я слышала, как люди говорили один другому: „Вон идет жена сеньора Лодовико. Посмотрите, какие красивые у нее драгоценности! Что за чудные рубины и бриллианты!“» В другом письме она рассказала Лодовико, как дразнила епископа из Комо, который, устав от осмотра достопримечательностей, пожаловался, что свойственно любому туристу, путешествующему по Италии: «У меня ноги отваливаются!»
Увы, смех, блеск золота и бриллиантов через шесть лет исчезли. Беатриче родила двоих сыновей, и потихоньку все уверились, что Лодовико уберет никчемного молодого герцога вместе с его семейством и узурпирует страну. Это носилось в воздухе, Неаполь был в этом уверен, Изабелла Арагон так страдала, что южное королевство приготовилось начать войну с Миланом от лица герцога и его неаполитанской жены. Чувствуя, что со всех сторон его окружили враги, Лодовико пригласил французов прийти в Италию и заявить свои древние права на Неаполь.
Возможно, сам он не верил, что они придут, возможно, он хотел лишь припугнуть Неаполь, возможно, надеялся перегруппировать силы и выиграть на этом. Кто теперь скажет? Факт остается фактом: французы пришли. Вел их за собой Уродливый карлик Карл VIII, и в этот самый момент герцог Милана Джан Галеаццо умер. Все были уверены, и многие историки до сих пор в это верят, что он был отравлен, а сделал это его дядя Лодовико. Лодовико поспешил в Милан и заявил о своей лояльности маленькому сыну покойного, но Совет не захотел и слушать об этом: Лодовико – по сути – всегда был герцогом, а в этот момент, когда государству нужна была твердая рука, а не регент, он должен был сделаться герцогом. Так в 1494 году он и Беатриче стали седьмыми герцогом и герцогиней.
Тем временем Италия, столетиями привыкшая к вялотекущим стычкам кондотьеров, пришла в ужас от жестокости французской армии. Сам вид войска приводил в трепет. Арьергард составляли восемь тысяч швейцарцев. Огромные лучники из Швейцарии казались наблюдателю того времени звероподобными людьми. Во главе войска шагал монстр со шпагой, блестящей, словно вертел, на котором жарят поросенка. Следом отбивали ритм четыре барабанщика, а за ними два трубача. Шум стоял, как на ярмарке. Внушали страх как кавалеристы, так и их лошади с подрезанными ушами. Артиллерийские орудия тащили не волы, а лошади, и блестящие пушки двигались так же быстро, как пехота. Итальянцев, которые всегда обращали внимание на внешность, больше всего поразил облик предводителя агрессоров. На великолепном боевом коне сидел крошечный человечек с тонкими, словно спички, ногами. У него был огромный нос и большущий рот.
Французы заняли Неаполь без боя, и Лодовико, изменив свои планы, организовал против захватчиков союз государств. Французам пришлось с боем покидать Италию. Впрочем, настоящая битва была только одна, длилась она пятнадцать минут и замечательна неожиданным превращением уродливого французского короля в героя. Вдохновленный, должно быть, опытом своих предков, он призвал рыцарей Франции умереть вместе с ним и повел их в бой. Итальянский командир Франческо Гонзага, муж Изабеллы д'Эсте, захватил королевский шатер, в котором обнаружил любопытное собрание предметов, которые монарх взял с собой на поле сражения. Там были шлем и меч, которые, говорят, принадлежали Карлу Великому, рака с шипом от тернового венца, кусок от Креста Господня, частица мощей святого Дени и книга с портретами итальянским дам, чья красота привлекла королевский взор.
Спустя год после того, как французы ушли из Италии, узнав многое и о богатстве страны, и о ее слабостях, судьба обрушила на Лодовико первый удар. Беатриче почувствовала недомогание и в ту же ночь умерла, произведя на свет мертвого ребенка. Было ей всего лишь двадцать два года. Несколько дней Лодовико никого не хотел видеть. Говорят, его нашли лежащим во власянице в увешанной черным бархатом комнате. Он распорядился похоронить Беатриче перед алтарем церкви Санта Мария делле Грацие.
Когда к нему допустили посла Феррары, Лодовико признался ему, что он всегда просил Бога дать ему умереть первым, но Бог распорядился по-своему. Теперь же он молился, что если человеку дозволено общаться с мертвыми, он просит дать ему возможность увидеть Беатриче еще раз и поговорить с нею. Многие историки, писавшие об этом периоде, соглашались, что этот признанный правитель, сорока шести лет от роду, во многом был обязан умной и рассудительной молодой жене. Говорят даже, что будь она с ним в то время, когда над его головой стали собираться тучи, то он не потерпел бы катастрофу.
На следующий год французский король Карл VIII, отправившись посмотреть теннисный матч, стукнулся – как бы он ни был мал ростом – о низкую арку. Спустя несколько часов он скончался от церебрального кровоизлияния. Было ему тогда тридцать семь лет. Преемник его, смертельный враг Лодовико, герцог Орлеанский, стал королем Людовиком XII. Его бабушкой была Валентина Висконти, дочь Джана Галеаццо Висконти, и Людовик, который считал себя истинным наследником герцогства, решил пойти войной на Ломбардию.
Лодовико почувствовал себя покинутым и вынужден был бежать, но был выдан французам в тот момент, когда, переодетый швейцарским купцом, стоял среди войска. Король не проявил к нему милосердия, препроводил во Францию и заточил в тюрьму. Содержался он в разных местах. Те, кто когда-либо посещал замки Луары и проезжал чуть южнее Тура, наверняка видели вздымающиеся над рекой Эндр серые башни крепости Лош. Туристов приводят в подземную тюрьму, в которой некогда великолепный Лодовико иль Моро провел последние годы жизни. Отметка на камне показывает место, куда в его камеру попадал единственный луч света. Несколько фресок и грубые рисунки на стене – последние послания человека, оставившего так много следов в далеком от нас историческом отрезке времени. Заточение его длилось восемь лет. Умер он в пятьдесят семь лет.
Два его сына унаследовали герцогство, но лишь в качестве марионеток иностранных правителей. Когда в 1535 году умер второй его сын, Франческо, император Карл V, бывший также королем Испании, вытеснил Францию из Италии, и Испания владычествовала в Милане сто семьдесят восемь лет.
В ходе экскурсии по миланскому замку турист слышит огромное количество имен и дат, но думаю, что мужчины и женщины, о которых я упомянул, с их победами и поражениями, заинтересуют нас в большей степени, если мы посетим места, в которых они жили.
В замке есть одна трогательная реликвия, на которую я наткнулся случайно. Ее высветил безжалостный солнечный луч. Это была последняя работа Микеланджело – Пьета – страшное свидетельство жестокой старости. Скульптору было почти девяносто. Он пытался высвободить из камня две фигуры, но старые руки не хотели слушаться приказов все еще сопротивляющегося разума. «Он расколотил мрамор, пока не осталось ничего, кроме остова» – пишет Джон Поуп-Хеннесси в своей книге «Итальянское Высокое Возрождение и скульптура барокко». Тяжело видеть, как уходят сила и слава, но еще тяжелее понимать, что старик и сам это осознавал. Вазари посетил Микеланджело в Риме незадолго до смерти великого человека. Скульптор заметил, что гость смотрит на мрамор, над которым он в данный момент работал. Была ночь, и Микеланджело держал фонарь. «Я так стар, – сказал он, – что смерть постоянно дергает меня за плащ. Однажды я вот так же упаду, как это!» Он бросил фонарь и погрузил мастерскую в темноту, чтобы Вазари ничего больше не увидел.
2
Проходя мимо церкви, я заметил толпу. На мой вопрос мне ответили: «Мы хотим увидеть „Тайную вечерю“ Леонардо». Стоять такую очередь, чтобы увидеть картину, от которой, как мне было известно, осталась лишь одна тень? Нет, я решил отложить посещение церкви. Тем не менее в одно прекрасное утро я остановил такси и сказал водителю: «Il Cenacolo». Шофер отбросил в сторону окурок, понимающе кивнул и, ни слова не говоря, устремился в поток машин. Думаю, мало найдется в мире городов, в которых вместо адреса можно произнести название картины.
Я подъехал к церкви Санта Мария делле Грацие. В трапезной, примыкающей к зданию, Леонардо написал знаменитую фреску, которую, к несчастью, постигла ужасная участь. Люди все еще толпились, хлопали турникеты. Шел я неохотно, предчувствуя разочарование. Затем я оказался в большом зале, в том самом, в котором трапезничали монахи, когда церковь Санта Мария делле Грацие была доминиканским монастырем. Картина написана на дальней торцевой стене, с тем чтобы создать у зрителей впечатление, будто изображенные на ней в натуральную величину фигуры сидят за столом, находящемся на некотором возвышении, и трапезничают вместе с монахами. Таково, разумеется, было намерение Леонардо. Великолепное, вероятно, было зрелище в те времена, когда зал использовался по прямому своему назначению: монахи, сидящие по обе стороны длинного стола, и настоятель, обращенный лицом к Христу и его апостолам, находящимся за нарисованным на стене столом. Толпа экскурсантов, удивленная, по всей видимости, не менее, чем я, перешептывалась. Они никак не ожидали увидеть картину, оказавшуюся не в таком уж плачевном состоянии.
Я знал, что Леонардо написал эту картину не в технике фрески, а масляными красками на стене, которая была такой мокрой, что даже в ранние времена краска начала трескаться и осыпаться. В последнее время положение настолько ухудшилось, что стену пришлось греть – только бы спасти картину. Реставраторы столетие за столетием вносили свою лепту, и от оригинала мало что осталось. Затем, в августе 1943 года, произошло то, что могло бы полностью уничтожить шедевр. Во время воздушного налета в здание угодила бомба, снесла крышу трапезной и одну из стен, но при этом не уничтожила картину. В трапезной представлена фотография, на которой видно, в каком состоянии находилось здание сразу после налета. Когда реставратор, стоявший последним в длинной веренице людей, снял мешки с песком, все увидели шедевр Леонардо, покрытый толстым слоем земли. В 1947 году «Тайная вечеря» была реставрирована учеными экспертами под контролем государственной комиссии. Реставраторы поставили перед собой цель: убрать все наслоения прошлых веков и сохранить мазки Леонардо, все до единого. Возможно, картина сейчас больше похожа на оригинал, чем в течение многих прошлых столетий.
Я был удивлен помимо своей воли. С картины нельзя сделать репродукцию. Открытки и даже большие иллюстрации в книгах не в силах передать и капли впечатления, которое испытываешь от огромной работы. Размеры картины составляют примерно тридцать футов в длину и пятнадцать в ширину. Хотя цвет ушел и выражение лиц можно себе представить лишь приблизительно, одно осталось как и прежде – это композиция картины, ее общий настрой. Перед тобою две группы взволнованных людей в ритмическом движении, разделенные спокойной фигурой Христа. Я забыл, что смотрю на разрушенную картину. Мне казалось, что я вижу ее в первые месяцы создания, когда Леонардо медленно, часть за частью, занимался ее выстраиванием. Какая сила воображения заключена в этой работе! Сколько застолий посетил в Милане Леонардо, чтобы схватить все эти жесты и позы. С каким вниманием наблюдал он за людьми в трактире: вот они режут хлеб, или нечаянно просыпают соль, или шепчут соседу что-то на ухо. Кому из них пришло бы в голову, что художник обессмертит их простые движения?
Леонардо было сорок три года, и в Милане он работал уже тринадцать лет, когда герцог Лодовико заказал ему «Тайную вечерю». Эта картина являлась частью его плана – возвеличивание церкви Санта Мария делле Грацие и превращение ее в мавзолей Сфорца. В то же самое время он нанял Браманте, чтобы тот спроектировал собор. Большинство критиков полагает, что Леонардо начал свою работу в 1495 году, а закончил ее через два года. Молодой послушник Маттео Банделло из монастыря часто наблюдал Леонардо за работой. Он рассказывал, что художник приходил рано утром и взбирался по лесам. «С рассвета и до заката, – писал Банделло, – он не откладывал кисть, не вспоминал о еде и питье, писал без перерыва, после чего по два, три, а то и по четыре дня не прикасался к картине. Но и тогда час или два в задумчивости смотрел на фигуры и приходил, должно быть, к какому-то решению. Я видел, как от Корте Веккьо – там Леонардо работал над конной статуей – он шел под лучами полуденного солнца прямо в монастырь. Взбирался на леса, прибавлял несколько мазков и тут же удалялся».
Об этих двух годах сохранилось много историй. Самая известная – это та, когда монахи, видевшие, что лица Христа и Иуды на протяжении нескольких месяцев оставались незаконченными, жаловались герцогу, будто художник не старается. Леонардо отвечал, что каждый день, с утра до вечера, вот уже более года он ходит в городское гетто в поисках лиц злодеев и преступников, с которых он мог бы писать Иуду. «Если понадобится, – продолжил он, – напишу его с настоятеля!»
На создание картины ушли годы раздумий, и она живет, потому что это жизнь, увиденная глазами, которые ничего не упускали и не пропускали. «Когда идете гулять, – писал Леонардо в качестве наставления молодым своим ученикам, – присматривайтесь, обдумывайте позы и выражения лиц. Смотрите, как люди разговаривают, как они спорят, смеются или дерутся. При этом обращайте внимание как на действия дерущихся, так и на тех, кто их поддерживает, не забудьте и про зевак. Тут же несколькими штрихами сделайте в блокноте зарисовки. Блокнот всегда носите с собой». С тридцатилетнего возраста («Это возраст, с которого обычный деловой человек перестает присматриваться к окружающему», – комментирует Кеннет Кларк) Леонардо никогда не расставался со своим блокнотом. Он заносил туда все, что видел, и все, что представлял. Целыми днями он ходил за людьми, чья наружность чем-то была ему интересна. Мы знаем, что он даже записывал их адреса. «Джованина, фантастическое лицо, больница Святой Екатерины» – вот одна из записей в его блокноте. Привычки и методы гения всегда интересны, но невозможно препарировать гениальность и понять, как она работает. Ни одна записная книжка или техническое достижение не смогут объяснить, например, почему Леонардо отказался сделать темой своей картины вручение Святых Даров, а выбрал вместо этого ужасный момент, когда Иисус сказал: «Истинно говорю вам, рука предающего Меня со Мною за столом».
Короткая виа Дзенале, что находится в двух шагах от церкви Санта Мария делле Грацие, привела меня к виа сан Витторе. Там я обнаружил Музей науки и техники. На мой взгляд, это самый интересный музей Милана. В длинной галерее были выставлены транспортные средства, машины, муляж ныряльщика в натуральную величину в костюме и гермошлеме, бомбы, снаряды, пушка и много странных предметов, назначение которых я не сразу понял. Все это были изобретения, включая субмарину и аэроплан, занимавшие большую часть раздумий и времени Леонардо да Винчи.
Переходя от одного экспоната к другому, я подумал, что Леонардо заинтересовался бы больше именно этими вещами, а не картинами, потому что даже для него изобретения оставались в его записных книжках лишь диаграммами и рисунками, а здесь он бы увидел их воплощенными в работающих моделях. Итальянские инженеры и рабочие изготовили их по его рисункам и чертежам.
Часто говорят о безмерной любознательности Леонардо, но это качество приобретает новое измерение, когда стоишь перед удивительными предметами, наглядно демонстрирующими провиденье гения. Он видел далекое будущее, мир, в котором люди будут путешествовать по воздуху и под водой. Современникам Леонардо все это должно было показаться безумной фантастикой. Если бы они пролистали страницы его записных книжек с рисунками субмарины или летательной машины, то посчитали бы его сумасшедшим. Всестороннее развитие мозга Леонардо кажется нам сверхъестественным. Как бы засверкали его глаза, если бы он увидел зал, где мечты его стали реальностью! Здесь и мы начинаем понимать, почему один из величайших мировых художников считал живопись скучным занятием, пустяком, который отвлекает его от более серьезных вещей, таких, например, как полет птиц или движение рыб. «Математические эксперименты занимают его мозг Целиком, и он не хочет видеть свою кисть!» – писал Изабелле Д'Эсте один человек, побывавший в мастерской Леонардо, желая объяснить, отчего художник отказывается написать ее портрет.
В то утро в музее кроме меня был еще один посетитель. Признав во мне соотечественника, он подошел, желая поделиться со мной своим изумлением.
– Если бы этот человек знал что-нибудь о паре, бензине или электричестве, – сказал он, – то люди могли бы ездить в поездах и автомобилях сотни лет назад!
Я согласился с таким предположением: единственное, чего не хватало Леонардо, – это механической энергии.
– Вы только взгляните на это, – сказал мой собеседник, – замечательный танк, управляемый человеческой или лошадиной силой!
«Военная машина» Леонардо представляла собой танк в форме гриба, достаточно большой, чтобы вместить в себя несколько человек. Ездил он на четырех колесах, передвигали его рычагами люди или лошади. На танке были установлены три пушки. В корпусе проделан ряд отверстий – для вентиляции и для мушкетов. Командир стоял в центре на крепкой деревянной платформе, он мог выглянуть с башни, как из современного танка, и управлять его движением и ведением огня. Как и большинство изобретений Леонардо, оно не было воплощено. Его идее пришлось дожидаться изобретения бензинового двигателя и гусеничного трактора.
В его колесном пароходе не хватало только парового двигателя: он был точно таким судном, которое на памяти нашего поколения пересекло Ла-Манш и шумно двигалось вблизи Кента. Леонардо, не имея понятия о паровой энергии, снабдил пароход массивным часовым механизмом, похожим на детскую игрушку. Костюм ныряльщика выглядит абсолютно современным, как и дыхательная трубка. Была здесь и модель движущейся лестницы, какие можно увидеть в современных домах, а также арочные мосты, речные шлюзы и многочисленные дорожные полосы.
Пока мы ходили вокруг этих отлично сделанных моделей, я все пытался угадать, кто же такой мой собеседник. Сначала я подумал, что он художественный критик, но нет – выглядел он человеком весьма обеспеченным, что этой профессии не слишком соответствует. Затем я решил, что он – богатый коллекционер картин. Оказалось, что я заблуждался, потому что он задал вопрос, поразивший меня: «А кто этот потрясающий человек?»
Я не стал скрывать своего удивления. Разве он не знает, что смотрит на изобретения Леонардо да Винчи?
– Я и понятия не имел, – ответил он. – На улице увидел вывеску: «Наука и техника», вот и решил зайти – может быть, увижу что-нибудь интересное.
Он помолчал и подозрительно взглянул на меня, словно бы я пытался его обмануть.
– Я думал, что Леонардо да Винчи был художником! По интонации я понял, что да Винчи как инженер-художник неизмеримо вырос в его глазах.
Затем, решив, что было бы интересно увидеть, какое впечатление произведет на него «Тайная вечеря», я позвал его в Санта Мария делле Грацие. По дороге он рассказал, что изготавливает пишущие машинки и калькуляторы и что в Милан приехал по делам.
– Как бы интересно было Леонардо повстречаться с вами и послушать о ваших машинках, – сказал я. – Довольно странно: пишущую машинку вполне могли бы изобрести во времена Ренессанса, а он об этом почему-то не подумал.
Мы вошли в трапезную и посмотрели на шедевр Леонардо.
– Да от него ничего не осталось, – сказал он. – Как жаль…
Мы вышли на улицу и начали рассуждать: захотел бы Леонардо обменять свой блистательный век на наш технический? Он ведь наполнен вещами, которые привели бы его в восторг. Все эти аэропланы, железные дороги, автомобили, фотоаппараты, микроскопы, радио и – сверх всего – исследования атомной энергии и покорение космоса.
3
Байрон однажды выразил глубокое презрение к Петрарке – так обычно человек практический относится к теоретику. «Я настолько презираю Петрарку, – написал он, – что не стал бы даже домогаться его Лауры, раз этот ноющий, выживший из ума метафизик так ею и не овладел». Дон Жуан, излагая взгляды Байрона на брак, замечает:
Принимая во внимание позицию Байрона, интересно было бы взглянуть на его лицо, когда в 1816 году библиотекарь в библиотеке Святого Амвросия предложил ему величайшее сокровище – принадлежавшую некогда Петрарке рукопись Вергилия! Естественно предположить, что английский поэт должен был бы заинтересоваться! Байрон, который мог бы при случае и нагрубить, увидел то, что заинтересовало его больше Вергилия, а потому он и не оскорбил библиотекаря. А увидел он белокурый локон Лукреции Борджиа.
Я вспомнил об этом, когда пришел туда и представил рекомендательное письмо. Библиотекарь в строгом черном костюме сказал мне тут же – скорее в утвердительной, нежели в вопросительной форме: «Вы, конечно же, хотите увидеть принадлежавшую Петрарке рукопись Вергилия».
Библиотека находится в одном из тех старых дворцов, которые кажутся маленькими с улицы, а внутри выясняется, что они просто огромные – настоящий лабиринт со смежными комнатами, мраморными лестницами и галереями, окружающими внутренний двор. Читальный зал занимает маленькое помещение со сводчатым потолком и украшен аллегорическими фигурами. На столах – лампы под абажуром. За ними в окружении фолиантов и манускриптов сидели шесть или семь пожилых ученых. На лицах выражение отчаяния, так хорошо знакомое женам писателей. Более приятное впечатление оставляла молодая женщина, возможно американка: какую-то рукопись она листала так быстро, словно просматривала дамский журнал.
Вергилий меня поразил: огромная рукопись, которую сначала я принял за факсимильное издание. Когда понял, что это оригинал, то не решался притронуться к страницам книги, и библиотекарь, заметив мое затруднение, любезно спустился со своего возвышения, и мы стали переворачивать страницы вместе. Думаю, что рукопись эта бесценна, к тому же она представляет, как выражаются книготорговцы, «дополнительный интерес», ибо на форзаце Петрарка своим изящным почерком описал, как впервые увидел Лауру и как через двадцать один год услышал о ее смерти.
Приключения такой книги должны быть удивительными: за шесть с половиной столетий она сменила огромное количество владельцев, изредка попадая в сравнительно спокойную библиотечную гавань, испытала опасности многочисленных войн и чудом уцелела при пожарах. Библиотекарь рассказал мне, что сначала она принадлежала отцу Петрарки, однако в 1326 году ее украли после того, как семья поселилась в Авиньоне. Через двенадцать лет Петрарка нашел ее, а возможно, вор, раскаявшись, вернул рукопись. Во всяком случае, с того дня 1338 года она постоянно была у поэта. После кончины Петрарки творение Вергилия вместе с другими книгами поступило в библиотеку Висконти в Павии, где и оставалось до французского завоевания 1499 года. С того времени оно сменило много владельцев, пока в XVI веке кардинал Борромео не выкупил его для библиотеки Святого Амвросия. И все же приключения рукописи на этом не закончились. Наполеон привез ее в Париж, но в 1813 году рукопись вернули в Милан.
Можно представить себе радость поэта, когда в 1338 году рукопись к нему вернулась. Петрарка захотел сделать ее еще красивее и уговорил своего друга Симоне Мартини, работавшего в то время в папской столице в Авиньоне, проиллюстрировать рукопись. Великолепные иллюстрации выглядят такими же свежими, как и шестьсот лет назад. Рукопись имеет тем большую ценность, что Петрарка сделал в ней запись. Вот что он написал:
«Лаура, со всеми блестящими своими достоинствами, впервые предстала глазам моим в шестой день апреля в году 1327 от Рождества Господа нашего, и было это ранним утром в церкви Святой Клары в Авиньоне. В том же городе, в тот же час и того же дня апреля, только в году 1348 свет этот покинул нашу землю, а я тогда был в Вероне и – увы – не знал о постигшей меня участи. Горестная весть дошла до меня в Парму в письме от моего друга Людвига утром 19 мая того же года. Непорочное и прекрасное тело ее погребено было в церкви францисканцев вечером того же дня. Душа ее, однако, в чем я совершенно уверен – так же как Сенека, говоривший о Сципионе Африканском, – вернулась на небеса, в свой родной дом. Написав эти слова в память о своем горе, я испытал чувство сладкой горечи и выбрал эту страницу, так как чаще всего обращаю сюда свой взор, а потому могу размышлять о том, что в жизни не осталось у меня более удовольствий. Глядя постоянно на эти строки, буду думать, что пройдет немного лет, и я улечу из этого мира. И будет это, хвала Господу, для меня легко, принимая во внимание прошлые мои праздные заботы и пустоту надежд».
Загадка Лауры – была ли она реальной или воображаемой женщиной? – вызывала такой интерес в XVI столетии, что два энтузиаста, занимавшихся творчеством Петрарки, открыли гробницу в Авиньоне и доложили, будто нашли в ней ее скелет и свинцовую коробку с сонетом Петрарки, однако кардинал Бембо, крупный эксперт того времени, объявил тот сонет подделкой. Хотя Лаура до сих пор является загадкой, большая часть ученых считает, что звали ее Лаура де Новее, которая в 1325 году вышла замуж за Гуго де Сада в Авиньоне. Когда Петрарка увидел ее спадавшие на плечи светлые волосы, он стал поэтом и, словно средневековый рыцарь или трубадур, назвал ее своей прекрасной дамой.








