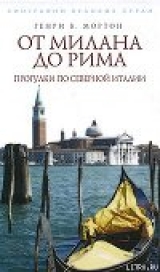
Текст книги "От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии"
Автор книги: Генри Мортон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 43 страниц)
Тосканский пейзаж как нельзя более подходит к духу Нового Завета. Под стрекот цикад, под голубым итальянским небом привольно раскинулся коричневый и серебристо-серый ландшафт с каштановыми лесами, темными кипарисовыми рощами, вулканическими валунами и деревенскими домами под красными черепичными крышами. Я назвал бы это самым цивилизованным сельским видом на земле. Человеческий труд украсил этот пейзаж, подобно тому как вышивка украшает скатерть. Нет здесь ни одного холма, ручья или рощи, которые не рассказали бы историю о Боге, любви или смерти.
На горных склонах я видел много ферм. Все они построены по одному, римскому образцу: строение с арочным входом, двором для волов, свинарником, конюшней для мулов, а над всем этим жилые помещения, в которые можно подняться по наружной лестнице. Возле каждой фермы стоит стог сена, уложенный вокруг шеста, наверху непременный горшок с цветком. В каждом дворе лежит груда жирного навоза, готового уйти в землю. Хотя о тосканском пейзаже написано немало, думаю, мало кто в число его красот зачислит эти черные горы, а ведь они поддерживают естественный ритм сельской жизни. Никаких тебе химических удобрений! Земля удобрена так, как предназначила сама Природа. Для этого потрудились овцы, свиньи, мулы и божества Тосканы – белые волы. В наш технический век натуральная, обработанная вручную земля, удобренная скотом, – невиданное зрелище. Очень часто землю Тосканы не обработать плугом, а потому приходится копать лопатой.
Горожанину любая сельская местность кажется счастливой. Видит он ее обычно летом, когда для фермера наступает передышка в постоянном его конфликте со стихией. Летом в Тоскане вы можете подумать, что земля сама за собой ухаживает, что виноградники и оливы растут сами по себе, и ими не надо заниматься, что поле вспахать – одно удовольствие. Вам покажется, что вода зимой не замерзает, что счастливому фермеру и делать нечего, знай себе – блаженствуй да поджидай, когда под щедрыми лучами солнца созреет урожай.
На горной дороге возле Грилло я увидел фермера, стоящего на обочине в лучшем своем костюме. Подумав, что он хочет подъехать до Ареццо, я остановил машину. «Нет, – сказал он, – я просто жду здесь дочь: она должна приехать в автобусе из Монте Сан Савино». И он поведал мне старую историю: молодые люди покидают деревню, уезжают в город, а жизнь так дорога, что невозможно свести концы с концами. Один из его сыновей был в Родезии, другой учился в Милане на инженера-телевизионщика, дочь работала медсестрой в Ареццо. Он их не винил. Фермер грустно улыбнулся, а я поехал дальше, унося в памяти худое загорелое смышленое лицо с длинным носом.
Я продолжил путь по крутой горной дороге, окруженной с обеих сторон холмами, засаженными виноградником и оливами. Поднялся на вершину. Здесь среди скал и валунов росли низкие дубы. Я въехал в провинцию Ареццо. Налево в дымке я увидел долину Арно, затем дорога, запетляв, спустилась в спокойную равнину, по которой ходили волы с красными кисточками на плоских лбах. Я оказался в Ареццо, месте рождения многих знаменитых людей.
10
Куда бы римляне ни отправлялись, они непременно брали с собой тарелки, блюда и миски из красной керамики, поверхность которой блестела, как сургуч. Такую посуду находят повсюду, где делают раскопки. Вещи хрупкие, и беспечные римские девушки-служанки много ее в свое время расколотили. Зайдите в любой европейский музей, и вы непременно ее там увидите. Черепки, а иногда и целые сосуды находили в Лондоне даже в двадцатые годы нашего столетия под собором Святого Павла, когда укрепляли фундамент. В Гилдхолле и лондонских музеях этой посуде отведены целые залы. Старомодные археологи называли ее «самосской глиняной посудой», хотя вернее следовало бы сказать «аретинская посуда», так как производство ее началось в Ареццо, а потом уже распространилось на всю Галлию.
На некоторых сосудах выполнены изящные рельефы – это охотничьи или мифологические сцены. Гончары подписывали лучшие свои произведения, окружали подпись маленьким картушем и ставили ее на основании блюда или чаши. Известны нам сейчас сотни, а возможно, и тысячи имен гончаров, а также и даты, когда та или иная работа была закончена. Поэтому гончарные изделия обладают почти такой же ценностью, что и монеты, с точки зрения определения даты.
Впервые я заинтересовался керамикой в конце Первой мировой войны. Я тогда выздоравливал после ранения в военном госпитале в Колчестере. Прочитав, что под землей здесь когда-то проходила одна из главных древнеримских дорог, я добился разрешения провести небольшие раскопки. К огромному своему удивлению, я очень скоро обнаружил римское кладбище и выкопал стеклянную урну с костями. После исследования, проведенного местным музеем, выяснилось, что останки эти принадлежали некой римлянке и бойцовому петуху. Такая удача вдохновила меня на дальнейшие подвиги. В результате я добыл большое количество фрагментов аретинской глиняной посуды, а среди них я обнаружил штамп с именем горшечника. Звали его Флавий Герман, и работ его в Англии до сих пор не находили. Я все порывался поехать в Колчестер, чтобы посмотреть в местном музее эти предметы. Сам я в двадцатые годы собрал недурную коллекцию из штампов гончаров. В то время в лондонских лавках старьевщиков можно было приобрести остатки великих коллекций XIX века либо купить их за несколько шиллингов на аукционах «Сотбис», а вот сейчас – я просто уверен – вы обойдете весь Лондон и не найдете ни одного такого предмета.
Глиняной аретинской посудой я заинтересовался с юных лет, много воскресений потратил в охоте за нею, а потому, сами понимаете – как был счастлив оказаться в Ареццо, в городе, где впервые появилась эта прекрасная посуда. К радости моей прибавилось и удивление, когда, открыв сверток, поджидавший меня в отеле, я обнаружил в нем три прекрасные аретинские чаши, к тому же каждая посудина была подписана лучшим гончаром эпохи Августа – Перенниусом. Я едва мог поверить своим глазам. Все три сосуда были украшены выпуклым фризом: на одной чаше изображена охота на медведей; на другой – медведь, напавший на охотника; на третьей – богини. Каждая фигура отделялась от следующей классическим декоративным рисунком. Столетия спустя Рафаэль и его современники обнаружили эти рисунки в руинах и гротах и назвали их «гротесками». Чаши, разумеется, были современными репликами, вылепленными из форм, что находятся в музее Ареццо. Подарил мне их известный горожанин, с которым я пока еще не встречался. Мне показалось странным, что Ареццо приветствует меня с таким энтузиазмом, словно бы дух древнего города захотел вознаградить меня за то, что когда-то я выказал ему свое расположение.
Я поставил чаши на стол так, чтобы утром после пробуждения они первыми попали мне на глаза, и улыбнулся: ведь так я, будучи ребенком, поступал с новой книжкой или игрушкой.
11
Я решил, что синьор Альберто, подаривший мне римскую посуду, похож на древнего этруска больше, чем повстречавшийся мне в Парме торговец мрамором. У Альберто были большие карие глаза, бородка клинышком, длинный любопытный нос и улыбка Моны Лизы. Между прочим, он оказался единственным итальянцем, пригласившим меня домой уже после двух встреч. Там он познакомил меня с женой и двумя детьми. Сам он некогда служил офицером регулярной итальянской армии, но в конце войны присоединился к партизанам: вместе с ними выгонял немцев из родных гор. Когда я сказал ему, какое удовольствие доставил мне его подарок и как я интересуюсь аретинской посудой, он довольно рассмеялся и, хлопнув себя по груди, воскликнул: «Мы, этруски, все ясновидцы!»
Затем мы посетили с ним музей. Благодаря его влиянию все витрины открыли, и мы могли подержать в руках самые лучшие экземпляры аретинской посуды – целые чаши и тарелки. Керамику столь редкого качества редко экспортировали в варварские провинции, такие как Британия. Синьор Альберто удивился, узнав от меня, как много аретинской посуды находили в Англии, особенно под центральной частью Лондона. Теперь, после возведения высоких зданий – их фундаменты уходят под древние римские мостовые – о новых находках говорить не приходится.
Ареццо – очаровательный маленький город, простой, неперенаселенный, сравнительно спокойный и дружелюбный, приятная тихая гавань в туристическом потоке. Мой новый приятель гордился знаменитыми земляками: Меценатом, богатым другом Горация и Вергилия, Петраркой – дом, в котором поэт родился, был разбомблен во время войны, однако восстановлен, и теперь там находится Академия. В этом же городе родился Гвидо д'Ареццо, он реформировал нотное письмо. Синьор Альберто упомянул и Леонардо Бруни, историка Флоренции, язвительного публициста Пьетро Аретино, которого многие боялись и ненавидели, но он, тем не менее, был закадычным другом Тициана и его биографом. Все искусствоведы в долгу перед этим человеком. Не забыл он, разумеется, и Вазари, автора «Жизнеописаний художников»– Однако же почти никто из них не остался в родном городе: Меценат уехал в Рим, Петрарка – в Авиньон и Падую, Гвидо – в Феррару, Аретино – в Венецию. Единственным, кто построил себе здесь дом, был Вазари, только и его видели здесь не часто.
Дом его сохранился почти без изменений. Чтобы посмотреть на него, мы прошли по виа Венти Сеттембре. Это большое двухэтажное каменное строение. Войдя в него с улицы, тут же попадаешь в обстановку состоятельного художника XVI века. Разве не интересно, повидав множество расписанных Вазари во Флоренции герцогских стен и анфилад залов в палаццо Веккьо, созданных им же, оказаться в простом помещении, которое он спроектировал для самого себя? Это здание напомнило мне дом Джулио Романо в Мантуе. Художникам и архитекторам после долгих лет работы в огромных помещениях, когда, лежа на спине, они расписывали потолки, приятно было спуститься вниз и оказаться в комнатах нормальных пропорций. Этот дом не создавали эффектным, в нем просто жили.
В главной комнате дома Вазари я обратил внимание на углубленные подоконники и большой камин. Стены и потолок расписаны были классическими аллегорическими сценами – Вазари все же не избавился от этого и в частной жизни. Но, несмотря на Венеру над камином и изображенную в пару ей на противоположной стене Диану Эфесскую, комната была уютной, и человек вполне мог здесь читать и писать, а по временам смотреть из окна на проходящих по улице знакомых.
В отличие от большинства художников, Вазари никогда не испытывал серьезных материальных затруднений. Его любили, человек он был талантливый, необычайно трудолюбивый. Договориться с ним было легче, чем с гениями: у тех и характер был, как правило, скверный, и работу они в срок не выполняли. Для престарелых пап и кардиналов время имело большое значение, а потому, наняв Вазари, они могли чувствовать себя спокойно: знали, что работа будет сделана вовремя. Возможно, что это обстоятельство и стало залогом его успеха. Он был сыном гончара. С женитьбой не спешил, хотел прежде встать на ноги, а потому в брак вступил в сорок лет. Дом он приобрел, когда ему было двадцать девять, и девушки Ареццо, должно быть, давно сочли Вазари убежденным холостяком. Брак его, тем не менее, оказался счастливым, хотя и бездетным.
Как удивился бы он, если бы узнал, что в будущем больше ценить его станут за книгу, а не за живопись. Его великое классическое произведение родилось в 1544 году, за званым обедом. Кардинал Фарнезе сказал, что неплохо было бы описать жизни итальянских художников, скульпторов и архитекторов. Вазари в то время было тридцать три года, через семь лет вышло из печати первое издание его книги. Работая над заказами во Флоренции и Риме, он продолжал много лет собирать материал для второго издания. Неутомимый труженик умер во Флоренции в возрасте шестидесяти трех лет, а похоронили его в Ареццо. Мы стояли в его доме и думали о долгих годах, проведенных здесь Монной Вазари, пока муж ее трудился на папу и герцога. Супруги мечтали, должно быть, о времени, которое так никогда и не наступило, когда бы муж вышел в отставку и окончательно поселился в уютном каменном доме.
– Человек совершает большую ошибку, – сказал синьор Альберто, – когда амбиции уводят его из родного города. Я предпочитаю быть маленькой рыбой в Ареццо, чем китом в Милане или Риме.
Альберто на самом деле не слишком интересовался римской глиняной посудой, главной его страстью был Пьеро делла Франческа. Мы стояли с ним на темных хорах церкви Святого Франческо. Храм находится в центре города, на гребне холма. Альберто попросил зажечь свет, и сторож осветил фрески. Постепенно на стенах и потолке открывалась одна сцена за другой, словно окна в блестящий благородный мир, рассказывая средневековую легенду о святом распятии.
Странно, что произведение этого гения предыдущие поколения не оценили по достоинству. Всего сорок лет назад Пьеро делла Франческа причислили к бессмертным классикам. Теперь критики говорят о хорах в Ареццо с тем же придыханием, что и о Лоджиях Рафаэля и Сикстинской капелле. Я горжусь, полагая, что, даже если бы я не прочел и слова об этом художнике и пришел сюда случайно, то понял бы их величие.
Родился Пьеро в маленьком городе Сансеполькро, слишком далеко отсюда, чтобы можно было считать его гениальным сыном Ареццо. По складу своему Пьеро был математиком и на стенах святых зданий создавал мир блестящий и прекрасный, но такой же бесстрастный, как у Евклида. Я спросил у Альберто, сохранились ли о художнике какие-либо истории или легенды. «Нет, – сказал он, – личная жизнь Пьеро осталась загадкой. Неизвестно даже, почему называли его делла Франческа, а не деи Франчески, ведь он не был незаконнорожденным. Отца его звали Пьеро де Франчески, а мать – Романа ди Перино да Монтерчи».
Альберто восхищался тем, что Франческа не поддался соблазнам Флоренции, а вернулся в зрелом возрасте в родной город, где сделался членом городского совета. В старости художник ослеп. Больше о нем ничего не было известно. Даже Вазари, который написал о нем всего лишь через пятьдесят лет после его кончины, не сумел разузнать никаких биографических подробностей и привел лишь один анекдот. Лошадь как-то раз прониклась неприязнью к нарисованной Пьеро лошади и, веря, что она живая, каждый раз била ее копытом.
– В наше время, – сказал Альберто с улыбкой фавна, – никто бы не удивился, если бы лошадь Пьеро ударила бы обидчицу!
Из документов явствует, что умер Пьеро делла Франческа в Сансеполькро 12 октября 1492 года. В этот день Христофор Колумб высадился в Америке.
Некоторые критики считают, что женщины Пьеро наделены небесной красотой, а вот мне они кажутся надменными гордячками. Я спросил у Альберто, думает ли он, что изображенные художником женщины – плод его воображения или он писал с натуры.
– Я вам покажу, – загорячился он. – Это настоящие аретинские женщины. Они, как и я, этруски. Вы сегодня же увидите в Сансеполькро этот тип, да и во всей долине Тибра они встречаются.
Мы выехали из Ареццо. В миле от города находилась ювелирная фабрика. Меня представили владельцу и провели в большой цех, где сидели за работой сто пятьдесят девушек.
– Вон там, – шепнул Альберто, указывая на одну из девушек, – словно сошла с картины Пьеро делла Франческа! А вот и еще, посмотрите на ту, с каштановыми волосами… ну просто царица Савская!
Прогуливаясь днем по Ареццо, я стал свидетелем интересной сцены. Шесть маленьких мальчиков, в свитерах и шортах, шумно возились на длинной террасе против здания суда. Площадь Гранде окружена старинными зданиями, их арки ведут к примыкающим к площади улицам. Один из мальчиков держал в вытянутой руке кусок картона, остальные мальчишки по очереди подскакивали к нему верхом на метле. Судя по прыжкам, которые выделывал на метле каждый мальчик, я понял, что изображают они рыцарей на боевом коне. Тут до меня дошло, что они играют в джостру сарацинов. Это турнир, который берет начало в XIII веке. Участвовали в нем всадники в боевом облачении. Они на-скакивали на столб с перекладиной, к которой прикрепляли деревянную фигуру. Когда по «сарацину» наносился тяжелый удар, фигура вращалась и в свою очередь сильно ударяла по спине всадника.
Я подумал, что маленькие мальчики играли, наверное, в эту игру перед началом турнира в каждом средневековом городе.
12
Тибр и Арно берут начало в горах, что к северу от Ареццо, и текут некоторое время параллельным курсом. Затем, вместо того чтобы идти через Ареццо, Арно, по выражению Данте, «корчит презрительную мину» и, совершив большую петлю, устремляется к Флоренции, Пизе и Тирренскому морю. Тибр таких ужимок не делает, а спокойно и уверенно течет к Риму.
Долины этих рек входят в число самых красивых мест Италии. И на самом деле, почти невозможно решить, какая из этих двух долин более привлекательна. Полагаю, многие люди предпочтут более капризное верхнее течение Арно. Место это называется Казентино. Здесь среди гор и водопадов раскинулись города и деревни, история которых уходит во времена Рима. В современных их названиях слышен отзвук прежних, латинских имен: Суббиано – Sub Janum; Кампогиалли – Campus Gallorum; Пьеве-аль-Баньоро – Plebs Balnei Aurei; Цинцелли – Centum Celiac; Траяна – Trajanus; Камполучи – Campis Luchii; Каполона – Caput Leonis и т. д. На самых высоких точках Центральных Апеннин, в горах Казентино, находятся два монастыря – Камальдулы и Лаверна, где святой Франциск принял стигматы.
Долина Тибра нравится мне не меньше Казентино. Я любовался юным Тибром, скачущим вприпрыжку по камням. Отсюда начинается его долгое путешествие в Рим. Мне кажется, что крестьяне в этих двух богатых долинах отличаются от сельских жителей Флоренции и Сиены. Должно быть, местные крестьяне в большей степени привержены старинному укладу жизни. В долине Тибра я и в самом деле видел заносчивых молодых женщин, которых изображал Пьеро делла Франческа.
В лабиринте боковых дорог, изгибающихся на три-четыре мили к западу от юного Тибра, есть гора, а на ней множество белых домиков с красными крышами. Называется этот городок Монтерки – современное сокращение от Mons Herculis – Геркулесова гора. В этом городке родилась мать Пьеро делла Франческа. С крепостной стены открывается великолепный вид. Я смотрел оттуда на север, на другой берег Тибра, и видел Альпы, поворачивался в противоположную сторону и видел Умбрию. Приятно стоять здесь летним утром и следовать взглядом за белыми нитками дорог, петляющими между виноградниками и фруктовыми садами, ощущать кожей горячий и ленивый воздух и слушать знакомые сельские звуки – лай собак, песню невидимого крестьянина и скрип воловьей упряжки на повороте дороги.
На плоском подножье Монтерки встали в двойную шеренгу кипарисы. Деревья указывают дорогу к кладбищу, приютившемуся на противоположном склоне холма. В крошечной кладбищенской часовне находится, быть может, самая знаменитая фреска Пьеро делла Франческа – «Мадонна дель Парто» – «Беременная Мадонна». Под фреской стоит алтарь. Войдя в часовню, я застал там всего одну крестьянскую девушку. Она только что зажгла на алтаре лампу. Крестьянка повернулась, и я понял, что она в таком же положении, что и Мадонна. На фреске Пьеро изобразил похожую на круглый шатер постройку. В Ареццо я уже видел на фресках похожую купольную постройку и спящего в ней Константина, только шатер здесь выглядит богаче и наряднее. Два крылатых ангела грациозно раздвигают полог, и внутри мы видим молодую женщину в светло-голубом платье, сшитом по моде XV века и рассчитанном на беременность.
Это одна из самых красивых женщин Пьеро делла Франческа. Как и остальные картины этого художника, фреска надолго остается в памяти. Она будоражила мое воображение, и мне снова хотелось увидеть ее, а потому я ходил сюда еще три раза.
Когда пришел во второй раз, часовню посетили две беременные женщины. Они прошли по кипарисовой аллее и поставили на алтарь две маленькие баночки с оливковым маслом. Окунув фитиль в масло, подожгли его, помолились и вышли из часовни. Местные деревенские женщины непременно приходят к Мадонне дель Парто и просят ее о благополучном разрешении от родов.
Как странно видеть на кладбище жизнеутверждающее начало. Рождение и смерть слишком часто встречались на пороге этой часовни. Очевидно, об этом и хотел сказать Пьеро делла Франческа.
В нескольких милях от Монтерки, перепрыгнув через малютку Тибр, я шел по плодородной земле, с виноградниками, оливковыми деревьями и упитанным белым скотом. А вот и Сансеполькро, место рождения художника. Городок маленький: остроконечные красные крыши, осыпающиеся крепостные стены. День был базарный, и на площади установили прилавки с овощами, поношенной одеждой и сельскохозяйственными орудиями. Я спросил у прохожего, как пройти к зданию, где фреска «Воскрешение» Пьеро делла Франческа, и он показал мне на старинную постройку. К крыльцу вели два лестничных марша. Оказалось, что там помещается городской суд. В открытую дверь я увидел, что идет заседание: стоит полицейский, выступает адвокат, судья в мантии, похожей на облачение студента-выпускника, с важным видом что-то записывает. Я уж решил было, что ошибся и попал не по адресу, но тут смотритель издал шипящий звук – так итальянцы привлекают обычно к себе внимание – и поиграл в воздухе пальцами, приглашая следовать за собой. На торце, вой стене большого зала я увидел «Воскрешение».
На фреске раннее утро. Рассвет чуть подкрасил тонкие облака на голубом небе. Четыре римских солдата крепко спят подле мраморного саркофага. Они караулили всю ночь, но теперь, с зарею, уснули и лежат в неудобных позах. Трое даже не сняли с головы шлемов. Над распростертыми телами сгустилась могучая сила. Христос поднялся из могилы и стоит над солдатами, глядя прямо перед собой. Босой левой ногой он оперся о мрамор. Алый плащ, тронутый утренними лучами, тяжелыми складками спадает с левого плеча, оставляя правую руку и правый бок обнаженными. Он держит знамя с красным крестом. На теле, под грудью, кровавая рана, след от копья. Фигура его кажется осязаемой, и в то же время видно, что он из другого мира. Если бы это можно было увидеть в жизни, то впечатление было бы потрясающим.
Такой сдержанной силы в позе и в лице Спасителя ни на одной другой картине я не видел. Здесь он ближе к Пантократору. [95]95
Пантократор (от греч.pantokrator – всевластитель), иконографический тип Христа. Пантократором называют обычно поясное изображение Христа (в центральном куполе или конхе храма), благословляющего правой рукой, в левой держащего Евангелие и окруженного ангелами (на барабане или в апсиде). Тип Христа-Пантократора – смысловой и композиционный центр архитектурно-живописных ансамблей православных церквей – утвердился в IX–XI вв. с окончательным сложением типа крестово-купольного храма. Изображения Пан-тократора перешли на иконы и в итальянскую мозаику XII в.
[Закрыть]Из-под купола византийской церкви прямо на тебя смотрят широко открытые ищущие глаза. Это тебе не нежный, сочувствующий Сын Божий с привычных нам картин. Контраст между расслабленными фигурами спящих людей и напряженной, выпрямленной фигурой Христа – кульминационный момент драмы. Как могут эти люди отрешенно спать в присутствии столь мощной силы? Я смотрел на бородатое лицо могучего, лишенного сентиментальности Христа, и в мозгу моем пронеслись слова: «Он спустился в ад и восстал из мертвых на третий день».
13
Два или три года назад я зашел в букинистический магазин в Кейптауне и купил там довольно редкую книгу о Флоренции. Продавец – его звали Энтони Кларк – говорил о той Италии, которою видел во время войны, в бытность свою артиллерийским офицером.
«Мне приятно думать, – сказал он, – что я поспособствовал сохранности картины Пьеро делла Франческа „Воскрешение“. Я попросил его рассказать мне об этом. Позднее он записал для меня свой рассказ.
Это произошло в 1944 году. Я был тогда командиром отряда 1-го полка морских пехотинцев, батарея „А“. Наш полк поддерживал огнем независимую 9-ю бронетанковую бригаду. Какое-то время мы базировались возле Читта ди Кастелло, а затем двинулись на север. В это время я и получил приказ обеспечить наблюдение за Сансеполькро. С первыми лучами солнца я выехал в танке на восточные склоны гор, а затем, захватив портативную рацию, в сопровождении сигнальщика пошел на вершину. Мы очистили себе место в глубине большого куста и устроились как можно удобнее – ведь нам надо было сидеть там весь день, наблюдать и ждать. Прямой связи с нашими орудиями мы не имели, так как у рации не было нужного диапазона, и это обстоятельство повлияло на то, что произошло впоследствии. Связаться мы могли с танком, а танк должен был передать нашу информацию батарее.
Орудия стояли от нас на расстоянии двух-трех миль в южном направлении. Я распорядился выпустить залп по определенной точке примерно в середине долины.
Потом стали ждать. Солнце поднялось уже высоко и ярко светило. Сансеполькро лежал точно на ладони. По связи мне доложили, что враг, скорее всего, находится в городе и что мне нужно обстрелять его, прежде чем туда вступят наши войска. Нацелив на город орудия – их было четыре, – я приказал выпустить по Сансеполькро два-три залпа. Командир моей батареи, Марк Линтон, информировал меня по связи, что снарядов у них в избытке, а потому можно не экономить и стрелять сколько понадобится. Наступление назначили на следующее утро, и теперь дело было за нами: сначала мы должны были очистить город. Я приказал вести обстрел Сансеполькро, а сам тем временем осматривал город ярд за ярдом, но не видел нигде и следа врага, хотя, разумеется, это вовсе не означало, что его там не было! Не знаю почему, но я испытывал смутное беспокойство. Откуда мне известно название города? Где-то я слышал это слово – Сансеполькро. Должно быть, это связано с чем-то важным, раз я запомнил. Только вот что я о нем слышал?
Затем к нам с сигнальщиком пожаловал гость. Это был оборванный подросток с собакой. Мы спросили: „Немцы – Сансеполькро?“ и показали на город. Он покачал головой, улыбнулся и махнул рукой в сторону гор. Немцы покинули город, и это подтвердило мои предположения. И тут я вспомнил, почему я знаю это название – Сансеполькро. „Величайшая картина в мире!“ Мне было около восемнадцати лет, когда я прочел очерк Олдоса Хаксли. Я вспомнил описание его трудного путешествия из Ареццо и как в конце он был вознагражден за муки. Он увидел „Воскрешение“, „величайшую картину в мире!“
Я подсчитал количество снарядов, которые выпустил по Сансеполькро, и был уверен, что если и не уничтожил величайшую картину, то ущерб городу нанес огромный. Потому больше не стрелял… Мы сидели, сигнальщик и я, в нашем укрытии и наблюдали, но врага так и не обнаружили. Когда стемнело, вернулись на боевую позицию.
На следующий день мы без потерь вошли в Сансеполькро. Я немедленно спросил о картине. Здание осталось невредимым. Я поспешно вошел в двери, и вот она, невредимая и великолепная. Горожане уже начали обкладывать ее мешками с песком, но не успели: высота прикрытия доходила лишь до пояса. Я поднял голову и посмотрел на крышу. „Один снаряд, – думал я, – и этого было бы достаточно, чтобы уничтожить творение, сотни лет восхищавшее мир“. Вот так обстояло дело. Иногда думаю: а как бы я себя чувствовал, если бы уничтожил „Воскрешение“? Одно время хотел написать Олдосу Хаксли. Инцидент этот, полагаю, мог бы стать отличной иллюстрацией силы литературы, доказательством того, что перо сильнее меча!
Я снова пошел смотреть картину вместе с Альберто. Он взял с собой камеру со вспышкой. Это было необычным приключением, если вспомнить благоговейную атмосферу Уффици. Отношение к шедевру было здесь домашнее. Когда Альберто сказал, что хочет сделать фотографию, ему тут же притащили крепкий стол и с обеих сторон поддержали, чтобы он на него забрался. По-моему, среди помощников я узнал и магистрата.
Днем мы ходили в гости к одному из многочисленных друзей Альберто. Дом его стоял на крепостном валу Сансеполькро. Хозяина в этот момент не было, но жена настояла на том, чтобы мы выпили по стакану вермута, и провела в сад. Мы смотрели на остроконечные крыши и трубы Сансеполькро, на серебряную нить Тибра. На другом берегу видна была фабрика Буитони. Макароны и спагетти прославили городок Сансеполькро во всех частях света. Нас провели по фабрике, и мы полюбовались блестящими машинами, прессовавшими пасту. Затем нас подвели к машинам, упаковывавшим готовую продукцию. Началось это все в XIX веке благодаря примитивным машинам старушки Буитони. Сейчас чугунные машины стоят в музее фабрики.
14
Некоторые маленькие города Казентино и долины Тибра можно заметить на расстоянии нескольких миль: они венчают холмы, другие, такие как Ангьяри, увидите, если подниметесь над ними по горному серпантину. Там вы обретаете орлиное зрение: вы не только различаете улицы города, вы даже можете определить, базарный ли сегодня день. Затем начинаете спускаться, и обзор сужается, вам уже не видно, что происходит за крепостными стенами. Более того, с каждым дорожным витком стены эти становятся все выше. Спустившись в долину, вы задираете голову и видите, что город стоит на высоченной скале.
Даже самые маленькие города могут достойно встретить папу или короля. И хотя обитатели их – мелкие фермеры, а самые важные горожане – священник, аптекарь или начальник полиции, люди знают, как обстоят дела в большом мире. Удивительно, какие сокровища могут ожидать вас в этих местечках – даже театр, как в Ангьяри. В маленькой крепости в горах я, к своему изумлению, увидел на стене доску с надписью: „Театр Ангьяри“ Академии, этакий нежданный негаданный маленький Ла Скала. Он связывает городок если не с Платоном, то, по меньшей мере, с веком зарождения Академий. Сейчас, разумеется, времена изменились. Я заметил рекламу фильма „Зажатая в тиски“. На большом плакате изображена была женщина, съежившаяся перед направленным на нее револьвером.
Не забуду, как приютил меня Ангьяри во время сильного ливня. Пьяцца превратилась в озеро, свою лепту внес в него каждый ручеек, стекавший с горы. Вода выстреливала как из пушки, а затем грациозной волной стекала с крыши. Сточные канавы мгновенно переполнились. Прибежище я нашел в антикварном магазине. В помещении протискивался бочком: так оно было заставлено. Тут тебе и старинные шкафы из каштана и красного дерева; умывальники; медные кастрюли; ванны и кувшины, картины в покоробленных рамах, столы, стулья – да всего и не перечислишь. Владельца я обнаружил между пирамидами, составленными из стульев и столов. Вместе с двумя приятелями он ел арбуз. Отодвинув несколько кресел и карточный столик, они мне любезно улыбнулись и предложили алый кусок. Приглянулся мне там старинный инкрустированный письменный стол из каштана. Купить его можно было за бесценок, но очень уж он был тяжел, а в наши дни морем громоздкий багаж туристов на родную землю не доставляют.
Любимым своим городом я бы назвал Поппи, пожалуй, он является негласной столицей Казентино. В Северной Италии часто встречаешься со Средневековьем, а этот городок представляется мне живым фрагментом далекого прошлого. Это город чародеев, рыцарей и длинноволосых дев, сидящих у окон замков. Даже маленький автобус, связывающий Поп-пи с Ареццо, легко можно вообразить себе драконом, которого волшебник заставил пыхтеть, как дизельный двигатель, и вот мотается он туда-сюда, со стонами, визгом и внезапными выхлопами дыма. Этот город с каменными аркадами, ведущими к замку, можно назвать родственником флорентийского палаццо Веккьо. Вечером, когда зажигают фонари, Поппи становится весьма зловещим, и парочку миролюбивых горожан, играющих в домино в винном магазине, можно принять за убийц. В центре города нет достаточно большого перекрестка, чтобы можно было назвать его пьяццей, но есть все же на вершине холма место, где встречается несколько улиц. Посередине стоит прямоугольная часовня в стиле барокко, посвященная Мадонне, изгоняющей чуму. Рассказывают, что несколько столетий назад, когда сюда заглянула чума, священник обошел город с иконой Мадонны, и эпидемия тут же прекратилась. Над алтарем написаны слова „Аве Мария“. В десять часов вечера жители ложатся спать, но иногда в столь поздний час собирается в темноте небольшая группа людей. Они ждут прибытия из Ареццо последнего автобуса. О своем приближении он дает знать еще из долины. Дракон скрежещет зубами и храпит, затем зловеще рычит и, взбираясь на кручу, кажется, теряет силы, но нет, снова слышно, как он начинает пыхтеть. Размеры его почти соответствуют ширине узких улиц. Наконец он приходит, издает драконье рычание и выпускает пары, пропахшие дизельным маслом. Пассажиры во главе с местным священником встают со своих мест и, словно по команде выполняя физическое упражнение или в едином порыве совершая религиозный акт, одновременно вздымают руки и опускают чемоданы, корзины и коричневые пакеты. Священник выходит из автобуса первым, в темноте поблескивает стальная оправа очков, шляпа с загнутыми полями похожа на взъерошенного кота, под мышкой он держит большой сверток. Встречающие начинают громко чмокать детей и радостно приветствовать родственников и друзей. Общее ликование: слава Богу, все живы и здоровы и снова дома, в безопасном и уютном Поппи.








