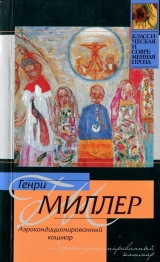
Текст книги "Аэрокондиционированный кошмар"
Автор книги: Генри Валентайн Миллер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
«Имена и адреса (ничего себе!) всех жертвователей в Фонд пирамиды будут записаны на пергаментной бумаге и помещены в стеклянный контейнер с выкачанным воздухом, установленный в центре зала на специальном пьедестале. Их имена будут также занесены в вышеупомянутую книгу, которая будет распространяться среди публики. Таковое содействие в ускорении строительства пирамиды и замуровывании ее помещений будет оценено по достоинству».
И в заключение следует декларация казначея всего предприятия, Первого Национального банка, Роджерс, Арканзас: «Мы полагаем, что исторически и археологически это предприятие имеет всемирное значение, и с радостью принимаем участие в его осуществлении. Мы лично знакомы с мистером Харвеем. Он один из крупнейших вкладчиков этого банка, пользующийся заслуженной репутацией ответственного и надежного джентльмена». И далее в том же духе.
Мне кажется, что это заявленьице также должно быть отпечатано на прекрасном пергаменте, положено под стеклянный колокол, запломбировано и погребено вместе с другими важнейшими документами. Останется только восхищаться людьми будущего тысячелетия, если они, додумавшись опять до выплавки стали и производства динамита, окажутся еще и способными, с помощью тех чудодейственных книг-ключей, разгадать значение слова «джентльмен». Очень хорошо могу вообразить, как они ломают себе головы, пытаясь понять, что представляло собой это вымершее животное. Уверен, что за всеми этими трогательными заботами сделать как можно доходчивее фотографии и прочие изображения людей, машин, костюмов, четвероногих и птичек мистера Харвея ни разу не посетила мысль, что термин «джентльмен» будет начисто лишен смысла для людей будущего. И очень сомневаюсь, что те, кто откроет пирамиду однажды в далеком будущем, будут иметь хоть какое-нибудь представление о том разряде людей, к которому причисляли мистера Харвея. А было бы чертовски интересно, если бы мы только смогли, почитать научное исследование какого-нибудь ученого сухаря, анализирующего содержимое этого необычного хранилища времен цивилизации, существовавшей предположительно 250 ООО лет назад. И мы, внимательно следя за всеми скачками этого мудрого дятла от сучка до сучка древа познания, могли бы в самом деле скептически отнестись к знаниям людей будущего о том, что происходило в смутном, не поддающемся определению периоде, свидетелем которого мог быть, вероятно, только портлендский цемент. Действительно, портлендский цемент! Первые мои годы после школы прошли в удушливой атмосфере цементной компании. Все, что я помню из той жизни, так это термин f.o.b. [26]26
free on board – франко-борт, оплата расходов по погрузке фрахтователем.
[Закрыть]Означало это то, что я должен был слезать с высокого насеста, на котором сидел, заполняя опросные бланки, бежать два пролета по лестнице вниз получать грузовые тарифы до Пенсаколы, до Нагасаки, до Сингапура или Оскалузы. За все время службы в цементной компании я так и не увидел ни одного мешка с цементом. Зато я видел фотографии цементных заводов на стенах вице-президентского кабинета, когда в крайне редких случаях получал доступ в это святилище. Мне некогда было поинтересоваться, из чего приготовляют цемент. Но, судя по письмам, которые мы время от времени получали от разгневанных клиентов, не все портлендские цементы были одинаково высокого качества. Некоторые из них не выдерживали мало-мальски приличного дождя. Ну ладно, это к делу не относится. А вот что мне хотелось бы сказать, прежде чем закончить разговор о пирамиде: по моему непросвещенному мнению, молодые пары, отправляющиеся в свадебное путешествие, поступали бы очень правильно, если бы, благополучно пройдя положенную проверку на реакцию Вассермана, не покупали билеты до Ниагарского водопада, а поехали бы в Монти-Ни. И во время пребывания в Роджерсе, а пожить в Роджерсе логично, если ты собираешься посетить Монти-Ни, пусть остановятся в отеле Харриса, одном из лучших отелей из самых недорогих во всей Америке. Я рекомендую эту гостиницу без всяких оговорок!
* * *
В случае Альберта Пайка мы имеем дело с человеком, столь же озабоченным стремлениями и благополучием человечества в целом, но совершенно другого темперамента и мировоззрения. Я ничего не слышал о нем, пока не попал в Канзас-Сити, где встретился с одним художником, хорошо знакомым мне еще по Парижу. Помимо прочего этот мой приятель был масоном. Обычно я узнавал от него о масонстве и других интересных вещах во время наших вечерних прогулок от кафе «Дом» к улице Фрудево. На этой улице, как раз напротив Монпарнасского кладбища, он жил, и я нередко получал там стол и кров в голодные и бездомные времена. Мне он казался в те дни странноватым малым. Разобраться во многом из того, о чем он тогда рассказывал, я не мог. Я предпочитал посмеиваться над ним втихомолку, о чем после очень сожалел; во искупление этого греха я и сделал крюк чуть ли не в тысячу миль для того, чтобы поприветствовать его в Канзас-Сити. Разумеется, я не обмолвился ни словом о своем раскаянии, предоставив моим поступкам говорить за меня. В награду я получил от него при прощании совершенно неожиданный подарок. Он одолжил мне на время книгу, которую мне страшно хотелось прочитать и с которой, думал я, он не расстанется ни на минуту. Тем более, как я понял, он всегда смотрел на меня как на довольно безответственную личность. «Феникс», так называлась эта книга, представлял собой иллюстрированный обзор теории и практики оккультизма, автора звали Мэнли Холл, издание 1931–1932 годов. Как бы то ни было, задолго до того, как я оказался в Литтл-Роке, где, кстати говоря, был с самым сердечным гостеприимством встречен другим крупным масоном, я проглотил книгу Мэнли Холла. Но, проскакав единым духом по ее очень неудобного формата страницам, – она больше напоминала какой-нибудь атлас, чем оккультный обзор, – я совершенно упустил из виду, что Альберт Пайк был родом из Литтл-Рока. Я едва не сбился с верного пути, сразу кинувшись в Консисторию, и лишь через несколько часов услышал от судьи Макхонея целую лекцию о необычайных достоинствах выдающегося гражданина Вселенной Альберта Пайка. Еще повезло, что я не стал дожидаться сведений о таком человеке из уст гида, который водил меня по Консистории. Вместилище разума этого зануды – подозреваю, тоже масона, но уж верно самой низкой степени, – было загромождено кучей статистической рухляди. Китайскому епископу, которого он, обалдев от счастья, вел почетным эскортом по мрачным достопримечательностям, может быть, было интересно, но меня все это ничуть не трогало, даже подавляло. Особенно картинка какого-то шведского художника, по поводу которой именно потому, что это был швед, гид заметил, что вот, мол, более изысканная живопись, чем другие олеографии, украшающие стены. Мы пришли в зал заседаний, и наш проводник, осторожно хлопоча возле электрического щита, стал создавать некую, как ему казалось, поэтическую мистериальную атмосферу, включая и выключая самое разнообразное по цвету и яркости освещение. Эта печальная экскурсия сопровождалась сухими цифрами относительно количества братьев, которые могут одновременно присутствовать на общей трапезе, времени, отведенного правилами для подготовки к продвижению от третьей степени к тридцать второй, и так далее. Самое лучшее, что там было, – гардеробная комната с реквизитом, хранившимся в отдельных стенных шкафчиках. Поразительное разнообразие одежд, и среди них уникальное одеяние «бедного человека». В самых великолепных костюмах было нечто азиатское, в других даже что-то от Тибета, если они только не были приготовлены для местной пожарной команды. Я узнал там кое-что и об Йоркском обряде для евреев «и прочих» (а кто они, «прочие»?), и о Шотландском, к которому принадлежал Альберт Пайк. Увиденные в этом хранилище маски немедленно пробудили во мне интерес. Но как только я начал расспрашивать нашего гида, до него сразу же дошло, что я не масон, и он поспешно убрал маски с глаз долой, явно почувствовав себя виноватым в излишней откровенности. Какого черта, подумал я, Атьберт Пайк с его талантом нашел в этой белиберде, во всех этих фокусах-покусах. Вслух формулировать мое удивление было бессмысленно – среди этой дешевой театральщины наш гид чувствовал себя как дома. Он еще приберег для нас изящную шуточку – предложил заглянуть в «комнату клуба миллионеров». Так он назвал бильярдную, где очумевшие неофиты могли на несколько кратких часов отвлечься от бесконечной утомительной зубрежки.
Вернувшись в свою берлогу, я вытащил книгу Мэнли Холла и перечитал его искрометное, вдохновенное эссе о великом американском масоне. Мои глаза сразу же нашли этот замечательный отрывок:
«Франкмасонство Альберта Пайка слишком значительно и глубоко, чтобы в суть его могли проникнуть люди с подрезанными крыльями, которым не хватает вдохновения, чтобы взмыть ввысь в сферы разума. Альберт Пайк был истинно посвященный. Он чувствовал достоинство и величие неустанного труда во имя разума, науки и всечеловеческой справедливости. Ему было ведомо то высокое призвание, которому посвятили себя мастера-строители. Провидческими очами пронзая завесу над будущим, он вместе с Платоном и Бэконом мечтал о царстве правды на Земле, о возвращении золотого века».
Холл утверждает, что Пайк без устали стремился донести до мира понимание того, что масонство – это не одна из религий, а единственная религия. «Для различных вероисповеданий, – пишет Холл, – характерно по большей части стремление заявить ошибочность других догматов. Масонство отвечает естественным побуждениям человека поклоняться Богу, Творцу мироздания, и добру в мире. Поэтому оно не противоречит никаким религиозным догматам, оно выше всех вероучений. Масоны предостерегают людей против напрасных пререканий и споров из-за каждой буквы вероучения и зовут их соединиться во всеобщем поклонении перед Великим Архитектором Вселенной. Масонство увлекает человека от бесплодных умствований к практическому применению той великой морали и этических истин, которыми достигается нравственное самоусовершенствование».
О Пайке говорили, что он был гигантом и физически, и духовно, велик и телом, и разумом, и сердцем, и душой. Вся чаша суетных земных почестей была им испита до дна. За тридцать два года своего служения Великим Командором он принял множество важных персон, приезжавших к нему со всего света за советом и помощью. «Кто знает, – высказался один из его почитателей, – может быть, Альберт Пайк – реинкарнация Платона, который обходил наши края стороной девятнадцать столетий?» Его называли и Альбертом Великим, и Гомером Америки, Великим Мастером-строителем, Истинным Хозяином Покрывал, Оракулом масонства и Зороастром современной Азии. Зная греческий и латынь, он впоследствии научился множеству языков и наречий, включая санскрит, древнееврейский, арамейский, халдейский, персидский и языки американских индейцев. Санскриту он выучился в семидесятилетнем возрасте. «Его неопубликованные манускрипты, хранящиеся в библиотеке Верховной великой ложи, – пишет Мэнли Холл, – представляют собой самое значительное из известных собраний по изучению символики масонского Братства».
Я выберу несколько цитат из самого Пайка – лучшее свидетельство его характера и воззрений. Взяты они из его исследования «Масонская символика».
«Установители Степеней [27]27
Имеется в виду масонская иерархия.
[Закрыть]восприняли от самых древних времен священнейшие и наиболее значимые символы, коими пользовались еще до возведения Соломонова храма. Символы эти наполнены для них содержанием, скрытым от профанов. В символах этих выражены самые сокровенные и таинственные учения, касающиеся Бога, Вселенной и человека. И те, кто установил Степени и воспринял эти символы, пользовались ими для выражения того же сакрального и святого учения, толкуя их совсем по-другому, чем теперь толкуют в наших ложах. По крайней мере к такому убеждению я пришел после многих лет изучения и размышлений. У меня также нет сомнений, и я готов объяснить эту свою убежденность, что главнейшие символы франкмасонства, именно те, что относятся к подлинно древним, согласуются с фундаментальными принципами великой и широко распространенной религиозной философии и иероглифически выражают некоторые глубочайшие идеи относительно бытия Божия, знамений и деяний Божиих, всеобщей гармонии, Творящего Глагола и Божественной Премудрости, единства божественного и человеческого, духовного и материального в человеке и в природе, те самые идеи, что воскресали во всех религиях и были предметом изложения великих философских школ во все времена. Древние символы франкмасонства ведут к познанию истин, лежащих в основе всех великих религий; это и есть франкмасонство истинное. И только тот истинный франкмасон, кто правильно истолковывает для себя эту систему знаков».
Как подчеркивает Мэнли Холл, «Пайк здесь опирается на неизменный постулат метафизики и оккультизма: под внешней символикой и догмами религии таится эзотерический ключ к таинствам природы, к тайным глубинам и скрытым способностям человеческого сознания».
Я читал дальше и наконец наткнулся на завет (и ответ на мой непроизнесенный вопрос в Консистории), оставленный Пайком членам Братства. Это послание должно быть обращено и к художникам, особенно к художнику слова, который, хотя и редко осознает это, гораздо ближе к посвященным, чем иные представители Бога на Земле.
«Религии подвергаются порче, истлевают в формах пустого лицедейства, в заученных обессмысленных словах. Символы остаются, они, как раковины, вынесенные из морских глубин и лежащие недвижимыми и мертвыми на прибрежном песке; и, подобно раковинам, они безгласны и безжизненны. Уподобится ли навсегда им масонство? Или же эти древние символы, унаследованные от первозданных верований и самых первых посвященных, будут вырваны из рабства плоских банальностей и ложных истолкований, им будет возвращено их былое положение и они наполнятся смыслом, снова станут святыми оракулами философской и религиозной истины, вещателями Божественной Премудрости, тем, чем были они для наших внимающих и зрящих прародителей? И тогда станет ясно все превосходство масонского Братства над прочими современными союзами, эфемерными, подделывающимися под чужие формы и искажающими чужие символы».
Кажется почти невероятным, что в такой глухомани, как Озарковы горы, в веке, отданном грубому материализму, появилась фигура, подобная Альберту Пайку. Научившийся всему самостоятельно, обязанный всем лишь самому себе, он сочетал в одной колоссальной блестящей личности замечательные качества поэта, квалифицированного юриста, военачальника, эрудированного ученого, знатока каббалы, герметической философии и старейшины масонского Братства. Его фотографии поражают сходством с Уитменом, еще одним великим патриархом XIX столетия. По обоим видно, что плотским радостям они явно не чужды. Пайк, рассказывают, был большим гурманом. «Шести футов и двух дюймов ростом, он обладал пропорциями Геракла и фацией Аполлона. Лицо его и массивная львиная голова вызывали в памяти образ Зевса, изваянный каким-нибудь греческим скульптором». Так пишет о нем один из современников. А другой описывает его так: «Его широкий открытый лоб, спокойное и уверенное выражение лица и могучее телосложение сразу же вызвали во мне представление о давно прошедших временах. Обычная одежда рядового американца казалась неподходящей для такой величественной фигуры. Куда более его внешности пристало бы одеяние древнего грека – он должен был быть одет, как Платон, когда он вел беседы о божественной философии со своими слушателями среди рощ Академии в Афинах, под лучезарным небом Греции».
Удивительно, что край, бывший в представлении других американцев краем примитивных невежественных тугодумов, породил воистину царственную фигуру человека, который мог и мудро, и остроумно рассуждать об учениях Пифагора, Платона, Гермеса Трисмегиста, Парацельса, Конфуция, Заратустры, Элифа Леви, Николя Фламеля, Раймона Люлля и прочих.
Удивительно, что в обстановке, по внешнему виду враждебной всякому изучению таинственного и постижению его, этот человек в своей книге «Мораль и догмы» сумел изложить в нескольких строках то, на что знаменитым ученым не хватило толстых томов. «Преисполняешься восхищением, проникая в святая святых каббалы и постигая доктрину столь логичную, столь простую и в то же время столь абсолютную. Необходимое слияние понятий и знаков; освящение наиболее фундаментальных реальностей простыми буквами; триада слов, букв и чисел; философия простая, как азбука, бездонная и бесконечная, как Слово; теоремы более полные и понятные, чем теоремы Пифагора; теология, для суммирования принципов которой хватит пальцев одной руки; бесконечность, умещающаяся в детской ладошке; десять цифр, двадцать две буквы [28]28
По числу букв еврейского алфавита.
[Закрыть], треугольник, квадрат, круг – вот и все элементы каббалы. И здесь основные законы писаного Слова, отблески сказанного Слова, того самого, что создало небо и землю!»
Письмо Лафайету
Яи думать не думал, что когда-нибудь приобрету автомобиль, если бы не Дадли и Фло. Дадли – один из тех гениев, о которых я уже пообещал рассказать в этой книге. О Дадли и Лейфе, потому что, не будь Лейфа, Дадли мог скончаться еще в колыбели и «Письмо Лафайету» никогда не было бы написано.
Дадли говорит, что все это началось с гребного тренажера: «Снится мне империя» и т. д., и т. п. Для меня же началось это в самом сердце Юга, незадолго до прибытия туда Сальвадора Дали с его кабинетом Калигари. Нет, это началось даже чуть раньше, с «Поколения» – хлопоты вокруг этого мертворожденного плода очень нас сдружили. Это произошло, как… Ладно, будем конкретнее… Часа в четыре утра в доме одного моего приятеля раздался телефонный звонок. Звонили из Кеноши (а может быть, из Де-Мойна). Молодой человек по фамилии Дадли (не путать с ударником Джо Дадли) и другой юноша Лафайет Янг, оба из хороших семей, вроде бы здоровые духом и телом, несколько взволнованные или же слегка под мухой, спрашивали, не уехал ли из города Генри Миллер и могут ли они с ним встретиться. Через месяц с небольшим они прибыли в еле ковыляющем «форде», побывавшем во многих переделках, с черным чемоданчиком, фонографом «другими необходимыми причиндалами. Чтоб долго не рассказывать, мы подружились тут же. Они имели при себе совместно зачатый плод – рукопись под названием «Поколение». Думаю, что это происходило где-то поздней зимой или ранней весной. Еще у них в запасе имелась пока что не написанная книга «Письмо Лафайету». Лафайет был не кто иной, как малыш Лейф, Лафайет Янг из Де-Мойна. Через несколько недель «Поколение» благополучно скончалось, но «Письмо Лафайету» сумело выжить. В самом деле, оно начало развилисто ветвиться, словно печеночный мох. Леом мы снова сошлись вместе под одной крышей в ольшой южной усадьбе. Мы – это Дадли, его жена Фло и я. Лейф отсутствовал, но обещал вот-вот появиться. Он и появился однажды, в третьем часу ночи, когда мы его никак не ждали. Нам пришлось стремительно спасаться бегством. Но это совсем другая история, и я могу ее описать только, так сказать, посмертно, обы меня не притянули за диффамацию и клевету.
Следующая наша встреча произошла в Кеноше, в доме Дадли и Фло. Лейф в то время сосал лапу у себя в Де-Мойне. К великой моей радости, Дадли уже приступил к «Письму Лафайету». Огрызком карандаша в пухлом гроссбухе писал он эту вещь своим микроскопическим почерком. Мечта превращалась в неопровержимую увесистую реальность. Я как раз тот самый гребной тренажер и увидел на чердаке, где повсюду валялось содержимое таинственного черного чемодана Дадли. «У меня теперь другой транспорт, – объяснил хозяин. – Брошенный автомобиль, я его раскопал на автомобильном кладбище, в своей империи. Я ведь все еще шарю повсюду. Ищу не колеса, не двигатель, не сцепление, не фары. Ищу совсем другое. Перехожу реки, болота, джунгли, пустыни – в поисках следов майя. Мы все пытаемся найти что-нибудь. Кто своего отца, кто свое имя, кто свой адрес».
Я чуть не подпрыгнул, услышав эту сентенцию. Всего несколько месяцев назад он выглядел совсем запутавшимся, растерянным, пробовал освободиться от человека за фортепьяно; этот навязчивый параноидальный образ он воплощал в сотнях рисунков и говорил о нем так вдохновенно, что эта одержимость чуть было не перешла и на меня.
«Это как тяжелая болезнь, – говорил Дадли о наконец-то начатом «Письме». – Мне надо теперь отбросить прочь свою жизнь, да и литературу тоже. Книга открывается кошмаром, эвакуацией, безудержным расточительством образов».
И опять ошарашившая меня фраза. Вообразите, что молодой человек из Кеноши, еще ни одной строчки в жизни не написавший, объявляет, что начнет с «безудержного расточительства образов».
Лейф, как я уже сказал, находился все еще в Де-Мойне, засел в сортире, превращенном им в рабочий кабинет. Лейф был мастером писать письма, как говорится, руку на этом набил. Вот он и писал: «Все это уйдет в песок. Я отрекаюсь, отказываюсь, отваливаю». Или вот еще: «Я обрел веру – я верю в смерть». Слова его рассыпались по страницам, как листья, разметанные бурей. В них всегда присутствовали зеленый ветер, зеленые ветви, журчанье ручья, удары тамтама, клацанье счетной машинки, храп сумасшедшего. «Все это надо выбросить», – пишет он и продолжает говорить о Ставрогине, или о Де Саде, или о Вийоне, или о Рембо, или о маленьких соломенных гномах, живущих подо льдом, которые промелькнули перед ним, когда он путешествовал по Аду с Данте и Вергилием. «Что такое письмо? – спрашивает Лейф. – Несколько сотен слов, стопы бумаги, кормушка от правительства да блевотина тут, там или в любом месте на людях. Не нужны вы мне. Я подаю в отставку. Я отваливаю». И так далее, и тому подобное. Он точно человек, подбрасывающий вам в штаны горячие угли. И ему ничего не остается, кроме как жить жизнью великого князя в дурдоме, в городе, населенном призраками, потакающими каждой его причуде, каждому капризу, что взбредет ему в голову, когда он реализует в своих действиях поведение персонажей обожаемых им книг, которые он пожирает, словно червь-паразит. Но совсем скоро Лейф упакует свой багаж и отправится в Мексику писать книгу о Нормане Дугласе или Генри Миллере. Издаст он эту книгу в двух экземплярах – один для героя книги, другой для своей семьи. Просто чтобы показать, что он не совсем никчемное создание.
«Дорогой Лафайет» – вот так начинается книга Дадли. Начинается следующим утром в мастерской. Что еще за мастерская? Да не спрашивайте меня! Фло свалилась с температурой. Она бредит, превратилась в пророчицу. Аннигилируется по всем статьям. А тут монологи в большом стиле. «Вот я и начинаю, – говорит Дадли, – на самой низшей точке своей жизни. Я двигаюсь и вспять, и вперед – полифонично. Да, бесконечная импровизация. Я всю жизнь буду писать и никогда не закончу. Это книга длящейся жизни. Процесс – вот что это такое». (Представляете, как это захватывающе интересно слушателям «Информацию – пожалуйста»!)
За всем этим пианист, с которым он познакомился как-то вечером водном из кабаков Чикаго. Я видел наброски Дадли с него, и мне было мучительно на них смотреть. Он еще делал гравюры на ту же тему – всегда «одинокое эго». Он одевал его на гравюрах в маленькие одежки, гравировал маленький стул, маленький туалетный столик, крохотную любовницу – все для маленького человечка, его эго. Пианист стал для Дадли символом последнего артиста на этом свете. «Он еще с колыбели придушен, – говорит Дадли. – Наркотиками накачан, загипнотизирован, одержимым стал. Все этапы эволюции также прошел». (Это «также» – еще одна характерная особенность Дадли.) И он продолжает возиться с одиноким эго, возвышать пасынка судьбы, в котором есть что-то обезьянье и что-то негритянское, пианиста, играющего в подводном мраке среди рудиментов эволюционного механизма. Временами он скелет – или аристократ, излучающий флуоресцентный свет. Иногда он нервная система. Или он снова становится Богом, богом умозрительного мира Дадли. А в финале, когда не остается ничего, только песок, и зеленый ветер стихает повсюду, он превращается в осьминога, перебирающего щупальцами жемчужные раковины. Главное, как излагает это Дадли, что этот тип делает мечту процессом. Совершенный артист, последний артист на Земле, он превращает грезу в реальность… Как сказал бы Лейф: «Богты мой, вот оно что!» Тем временем, пока развертывается форма, пока загадочные слова оракула незаметно переходят в предсказания, пока чахнут и исчезают образы, кто-то, кажется, спит себе наверху, погруженный в сон, глубокий, как у каталептической фигуры на переднем плане знаменитой картины Марка Шагала. Мужчина (может быть, и женщина) по дороге в Верону [29]29
Два городка в США одноименны итальянской Вероне один в штате Пенсильвания, второй в штате Нью-Джерси.
[Закрыть]ночует в Гэри на обочине шоссе, в кармане – сандвич, к губам поднесен револьвер. Человек пишет письмо тому, кого он может никогда больше не увидеть, человек без адреса, человек, отца которого не спасла даже вызванная пожарная команда с аппаратом для искусственного дыхания. Дело в том, что человека этого только что выпустили из психиатрички. И потому сейчас ему позарез необходимо разобраться, определить и переоценить всё: жизнь, искусство, человеческие отношения, повадки птиц и собак, роды и виды растительного мира, водоплавающих животных, морские приливы и отливы, океанские течения, деформацию Земли, метеорные потоки и так далее. Должны в перспективе получить свою долю и болотная трава, и рудничный газ, и ржавчина, и перегной. «Я же не писатель, – не перестает он повторять. – Я просто рассказываю. Потерянная душа. Общаюсь только с одним человеком, которого знаю. А вообще-то рассказываю вслепую, без адреса». Рассказ движется то вспять, то вперед, мечется от прошлого к будущему, от мастерской, где лежит пророчествующая Кассандра, к яме в глухом лесу, которую он вырыл для себя, чтобы исчезнуть после кражи всех книг из публичной библиотеки в Чикамауга. Присутствует также и сшитый портным костюм, а этот пункт имеет совершенно непредсказуемые последствия: он приводит во времена Дэниела Буна, уникальные и целеустремленные времена. Есть там также и ностальгические сценки на траве из жизни парикмахеров, когда крошка Фло орудует усердно большими ножницами и Самсон лишается своих локонов. Это упорно продолжается двадцать четыре часа в сутки, неизменно со дня на день уменьшаясь в размерах и доходя до мыльной пены под деревом сикомора.
Есть пассажи ясные и четкие, как витражи. Вот, например, Нелли, Нелли из Аркадельфии готовится в некоем городе поиграть в бридж с богатыми вдовами. Или Американский легион проходит парадом мимо здания какого-то банка, и Лейф и Дадли в первый раз по-настоящему знакомятся друг с другом. Или приезд Лейфа в Кеношу. Как он выходит из обтекаемого вагона скоростного поезда: голубой хлопчатобумажный костюм, огромные башмаки, роговые очки, длинные волосы и эспаньолка. Опускает трость и прохаживается, поглядывая по сторонам. «Ну, что ты об этом думаешь?» (не важно, к чему относится вопрос). И Лейф отвечает: «Это прекрасно. Это необъяснимо прекрасно!» Или другой случай, когда Лоуренс Вайл принес голубя с кровотечением из гузки. И Лейф, преисполненный сострадания, благоговейно принял птицу, осмотрел ее и потом совершенно необъяснимо свернул ей шею и произнес необъяснимое слово: геморрой!
Насколько я понимаю, это «Письмо Лафайету» будет и потопом, и ковчегом вместе. Погодные условия вполне подходящие. Кто-то должен выдернуть затычку, и небесные шлюзы разверзнутся. Думаю, что это сделает Дадли. А если не он, то какой-нибудь другой гениальный человек. Кто? Молодые американцы впадают в отчаяние. Они понимают, что шансов у них уже нет. И не только потому, что война с каждым днем все ближе. Война не война, а добром все равно это не кончится.
Человек, родившийся в Кеноше, Ошкоше, Уайтуотере или Тускалузе, имеет те же привилегии, что и рожденный в Москве, Париже, Вене или Будапеште. Но белый американец (не будем говорить об индейцах, нефах или мексиканцах) не имеет ни малейшего шанса. Даже если у него есть какой-то талант, он все равно обречен. Талант этот задавят так или иначе. По американскому способу, так его соблазнят взяткой и превратят в продажную тварь. Или же вообще не будут замечать, а, заморив голодом, приведут к повиновению и сделают из него тупого поденщика. И это не стихия уносит нас от берегов, просто таков американский взгляд на вещи. Здесь ничего не приносит плодов, кроме утилитарных проектов. Вы можете проехать тысячу миль, и ничто вам не напомнит о существовании на свете искусства. Вы узнаете все о пиве, сгущенном молоке, резиновых изделиях, консервированной пище, надувных матрасах и так далее. Но вы не увидите и не услышите чего-то, имеющего отношение к шедеврам искусства. Мне покажется просто-напросто чудом, если молодой американец даже слышал такие имена, как Пикассо, Селин, Жионо и им подобные. Он должен из шкуры своей вылезти, чтобы познакомиться с их произведениями, но что ему делать, когда он встретится с работами мастеров Европы? Как сможет он понять, что, собственно, предстало перед ним и какое отношение это к нему имеет? Если он человек впечатлительный, чувствующий, к тому моменту, когда он соприкоснется со зрелыми работами европейцев, он уже будет наполовину помешанным. Большинство одаренных молодых людей, попадавшихся мне в этой стране, производили впечатление слегка тронутых. А что ж вы хотите? Они прожили среди существ с интеллектом гориллы, жили с фанатиками жратвы и выпивки, продавцами успехов, изобретателями технических финтифлюшек, гончими из рекламных свор. Боже мой, если бы я был молодым человеком в теперешние времена, если бы я только вступал в мир, который мы сотворили, я бы вообще отключил свои мозги или, подобно Сократу, отправлялся бы на рыночную площадь и там на глазах у всех изливал бы свое семя на землю. И уж конечно, никогда и в мыслях у меня не было бы написать книгу, или создать картину, или сочинить музыкальную пьесу. Кто, кроме горстки отчаянных душ, может распознать произведение искусства? Что вам делать с самим собой, если ваша жизнь посвящена красоте? Согласитесь ли вы с перспективой провести остаток жизни в смирительной рубашке?
«Отправляйтесь на Запад, юноша!» – так говорили когда-то. Сегодня нам приходится говорить: «Застрелитесь, юноша, здесь вам не на что надеяться!» Я знал кое – кого, кто сумел выстоять и добраться до вершины (я подразумеваю Голливуд), правильнее сказать, под купол дешевого цирка. Только на днях я разговорился с одним парнем, он однажды так изголодался, что пришиб молотком теленка, приволок домой, чтобы съесть втихаря. Мы прогуливались с ним вдоль пляжа в Санта – Монике. Эту историю он рассказал мне как раз тогда, когда мы проходили мимо особняка одной экс-звезды. Она в заботах о своем любимом пекинесе снабдила собачью конуру настилом из паркета, чтобы песик не испачкал лапки и не подхватил чесотку. А наискосок стоял дом богатой вдовушки, которую так разнесло, что она не может ходить вниз и вверх по лестнице и потому лифт проносит ее прямо от кровати к столу и обратно. Тем временем один юный литератор сообщает мне в письме, что нашел работу, его издатель нанял его на роль прислуги за все. Он пишет мне, как работает по четырнадцать часов в сутки, печатая на машинке, продавая книги, отправляя на почту пакеты, выгребая золу, шоферствуя и т. д. и т. п. А издатель, который богат как Крез, провозглашает его гением. И говорит, что молодым людям все эти занятия во благо, ибо любой труд чтим Господом.








