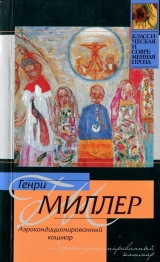
Текст книги "Аэрокондиционированный кошмар"
Автор книги: Генри Валентайн Миллер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Что мне нравится в Дадли и некоторых других, так это то, что они достаточно умны, чтобы не желать для себя никакой чтимой Господом работы. Они лучше будут просить милостыню, брать в долг или воровать. Полгода повседневной штатной работы – и они получили хороший урок. Дадли мог бы быть арт-директором, если б захотел. Лейф мог бы возглавить страховую компанию, если б захотел. Они не захотели. Была не была – вот их девиз. Нагляделись они на отцов своих и дедов, на все блистательные успехи в мире американской трепотни. Они предпочитают быть бездельниками, раз уж полагается кем-то быть. Молодцы! Мои поздравления. Они знают, чего хотят.
«Дорогой Лафайет, я сижу здесь с трупом моей юности…» Не помню теперь уже, так ли это начиналось, но начало очень неплохое. Так и надо начинать – с гуано, с черного ящичка, наполненного останками прошлого. Начинайте прямо с бесхозного пустыря на окраине Гэри. Начинайте со смрада химикалиев, рухнувших надежд, заплесеневелых обещаний. Начинайте с нефтяных вышек, выступающих из моря. С оборонной программы и с флота слепленных из цемента суденышек. С облигаций Займа Свободы и гибели филиппинцев. Начните где-нибудь в пустыне беспросветной нищеты, угнетения, уныния и тоски. Запускайте динамо-машину. Посадите своего пианиста на его табуретку и дайте ему косячок. Верните 58 946 искалеченных и убитых в этом году на городской асфальт и соберите для них страховые деньги. Позвоните Западному Союзу и спойте им «С днем рождения тебя!». Купите шесть «паккардов» и один старый «студебекер». Включайте стартер. Наберите 9675 и настройтесь на Бинга Кросби или Дороти Ламур. И пусть вам почистят ваше канотье и отгладят ваши белые штаны. Если вы правоверный еврей и едите только кошерное, проследите, чтобы у вас была еврейская похоронная контора – право, она ничуть не дороже всех прочих. И конечно, купите жвачку, чтобы освежить ваше дыхание. Делайте все, что хотите, будьте кем угодно, говорите все, что взбредет в голову, потому что все сдвинулись и никто не заметит ничего странно,›. У нас теперь 9567 журналов лежат на прилавках вдоль и поперек всей страны. Одним голосом больше, пусть визгливым голосом и истеричным, не имеет значения, никто и не заметит. Ходовой товар продолжает расходиться. Рождество в этом году нам устроят пораньше по причине войны. А на следующий год у вас есть шанс заиметь платиновую искусственную ногу, если только правительство не реквизирует платину для самолетных крыльев. Пойте, пляшите и веселитесь, ведь времени – то мало. Мы ринемся в атаку в 1943-м или даже раньше, если эти «чертовы коммунисты» позволят. Покупайте британские ценные бумаги, этим вы поможете спасти жизнь еще одному индусу. Будете обучаться штыковому бою, помните, что метить надо в мягкие части, а не в кости и хрящи. Если вы летите на пикирующем бомбардировщике, проверьте, в порядке ли ваш парашют. Если вам стало скучно, забегите в киношку по соседству и посмотрите, как бомбят Чунцин, – это довольно красиво, несмотря на грохот и дым. Но вам, конечно, надо будет принять меры, чтобы бомбы ваши падали правильно: на япошек, а не на китаёз, на гуннов, а не на томми, ну и так далее. И когда до вас донесутся вопли боли и ужаса, не обращайте внимания: это всего лишь вопят ваши враги, помните это. Нынешний год будет хорошим годом для бизнеса в Америке. Это утешает. Заработки подскочут до потолка. Будет написано 349 новых романов и намалевано 6000 новых картин, одна другой лучше. А еще в этом году откроют несколько новых сумасшедших домов. Так что, Дадли, садитесь в свой гребной тренажер и работайте веслами во всю мочь. Это рекордный во всех отношениях год.
Последнее известие, полученное мной от Дадли, касалось велосипедного путешествия, которое он собирался совершить, чтобы окончательно не спятить от «Письма Лафайету». Фло с ним не ехала, она готовилась к открытию лечебницы для невротиков. Я уже говорил вначале, что, если б не Дадли, я ни за что не купил бы автомобиль. Передвигаясь с места на место, я буквально привязался к «форду» Дадли модели 1926 года. Особенно после рекордного рейса, когда он вез нас встречать великого Сальвадора Дали со всеми его пожитками; мы их доставили в полном порядке, за исключением клетки для птиц и музыкальной чернильницы. По вечерам, когда нам ничего не оставалось делать, кроме как прогуливаться взад и вперед по шоссе, я разговаривал с Дадли обо всем. То есть мы обсуждали и вселенские проблемы, и механизмы действия зубчатых передач. Тогда-то мне и стало ясно, что Дадли – художник с головы до ног. Тем более в сравнении с великим Сальвадором Дали. Дали работал как одержимый. Когда он заканчивал работу, он был измочален так, что из него уже нельзя было выжать ни капельки. Дадли казался совсем неспособным работать – в то время. Он созревал, наливался соком. Когда он начинал разговаривать, его пот прошибал. Некоторые наши знакомые считали его просто неврастеником. А Дали его и не замечал почти. Дали вообще ничего не замечал. Он сам сказал как-то, что ему все равно, где он находится в данный момент; он с таким же успехом мог работать и на Северном полюсе. А Дадли впечатлителен. Все вокруг его удивляет и вызывает любопытство. Иногда, чтобы совсем не закиснуть, мы отправлялись в Фредериксберг отведать тамошней итальянской кухни. Ничего особенного. Мы просто ели и болтали. Болтали обо всем. У нас было приподнятое настроение. Мы ничего не решали. Назавтра к полудню температура, как обычно, повышалась до 110 градусов в тени [30]30
По шкале Фаренгейта; по Цельсию – примерно 30 градусов.
[Закрыть]. Мы, бывало, сидели и прохлаждались кока-колой в одних подштанниках, пока Дали наверху работал. Поглядывали на травку, на стрекоз, на великаны-деревья, на работающих негров да слушали жужжанье всяких летучих тварей. На завтрак, ленч и обед у нас был Каунт Бейси. К вечеру мы переходили на джин с тоником и виски с содовой. Опять разговор. Опять вялость и безделье. И снова о Вселенной. Мы разбирали ее до винтика, копошились, как в швейцарских часах. А Дали между тем уже покрывал краской по меньшей мере три квадратных дюйма холста. Сидел как приклеенный на своей скамеечке. А когда присоединялся к нам за столом, считал своим долгом забавлять нас. Дадли с трудом заставлял себя улыбаться ужимкам и кривлянью Дали. Такого рода психом ему быть не хотелось. Куда лучше мы проводили время в гостях у Шепа и Софи в их хижине. У них было восемь или девять детишек, и они всегда хотели есть и пить. Иногда мы приносили с собой патефон, и дети пели и танцевали вволю. Там мы имели дело не с параноидальными образами, а просто с Шепом и его семьей. На обратном пути Дадли говорил без умолку. И всегда гарниром к его разговору подавались «безудержно расточительные образы». Слушая его, мы просто пьянели. А когда он уставал, он спускался вниз, в подвал, где была его мастерская, и там снова принимался за своего пианиста, изображая его в десятках разных ракурсов. Так рудокоп спускается в рудник. Дадли копал все глубже и глубже в поисках драгоценного металла. И все ценное, что находил, прятал, вероятно, в карманах своего широченного пиджака, сшитого лет десять назад. Все ценное он держал в карманах своего пиджака. А когда ему решительно нечем было заняться, он принимался очинять свои карандаши, их у него было великое множество. Или выходил к машине, поднимал капот, чтобы просто убедиться, что все жизненно важные части в порядке. А то, взяв кирку и лопатку, шел на шоссе и ремонтировал какой-нибудь кусочек пути. Дали должен был принимать его за придурка. Но придурком он не был. Он созревал, он пребывал в предродовом состоянии. Когда нам становилось совсем скучно, мы садились друг напротив друга и разыгрывали сценки, изображая, как Лейф приходит в какой-нибудь городишко и спрашивает почтовые марки. Дадли досконально знал душу Лейфа, все ее трещины и щели. Он мог даже уменьшиться в росте на шесть-семь дюймов и окончательно перевоплотиться в Лейфа, просящего дать ему самое точное, самое последнее расписание поездов.
Ну, а когда и это надоедало, Дадли мог изобразить отсутствие боковых зубов и чавкал, как Дали, поедающий картофельное пюре по-испански. Или он мог вытянуться на земле во весь свой рост и закидать себя листьями – так он поступил когда-то в Санкт-Петербурге, Флорида, когда решил покончить с собой. Он мог делать все, только что не летал, но не потому, что Бог не дал ему крыльев, – у него просто не было желания летать. Он хотел зарываться в землю, все глубже и глубже. Он хотел превратиться в крота, прорыть однажды туннель сквозь всякие магнезированные и хлоридные известняки. Все это, конечно, чтобы добраться до своего отца, бывшего когда-то звездой футбола. И воттак, потихоньку-полегоньку пришло время начинать… И он начал: «Дорогой Лафайет…» Я понимал, что это письмо окажется лучшим из всех писем, которые один человек писал когда-нибудь другому, превзойдет даже письмо Нижинского Дягилеву. Как он сам говорил, он будет продолжать письмо вечно, потому что такие письма не напишешь ни за неделю, ни за месяц, ни за год; оно бесконечно, безмерно мучительно и безгранично поучительно. Лафайет может и не дожить до последних строк. Никто не доживет. Письмо будет продолжаться, оно будет писаться само, безостановочно, как автоматический пистолет. Оно уничтожит все, что попадется ему на глаза. Сделает чистыми, как стеклышко, мрачные, наполненные призраками пространства, и тем, кто придет вслед за нами, будет где разгуляться, будет вволю корму, полно ясного неба и свободной фантазии. Раз и навсегда избавит оно всех от фирмы «Убийства, Смерть, Болезни и компания». Освободит всех рабов.
Удачи тебе, Дадли, и тебе, крошка Лейф! Давайте-ка сядем теперь вместе и напишем новое «Письмо Лафайету». Аминь!
С Эдгаром Варезом в пустыне Гоби
«Мир пробуждается. Человечество на марше. Ничто не может его остановить. Осознавшее себя, не подавляемое никем, не вызывающее жалости. Марш, марш! Пошли! Они идут! Миллионы ног с бесконечным громким топотом, наступая, продвигаясь вперед, прибавляя шаг. Ритмы меняются. Быстро, медленно, стаккато, волоча ноги, наступал, с трудом продвигаясь вперед, прибавляя шаг. Иди! Финальное crescendo создает впечатление, что уверенное, безжалостное движение никогда не кончится… Оно спроецировано в пространстве…
Голоса в небе, будто их заставляет невидимая магическая рука, нажимающая кнопки волшебного радио, заполняют все пространство, переплетаются, звучат в унисон, проникают друг в друга, раскалываются, разбегаются, отталкиваются один от другого, накладываются друг на друга, сшибаются и заглушают друг друга. Отдельные фразы, лозунги, обрывки речей, прокламации: Китай, Россия, Испания, фашистские государства и противостоящие им демократии все взрывают свои парализующие средства…»
Чье это воззвание? Анархиста, одержимого амоком? Туземца с Сандвичевых островов, вышедшего на тропу войны?
Нет, друзья мои, эти слова принадлежат композитору Эдгару Варезу. Он излагает замысел своего будущего опуса. У него и еще есть что сказать…
«Вот чего следует избежать: пропагандных интонаций, равно как и всяческих журналистских спекуляций по поводу современных событий и доктрин. Надо дать эпический сгусток нашей эпохи, очистив ее от манерничанья и снобизма. Для этого я предлагаю разбросать кое-где обрывки фраз, стилизованных в духе Американской, Французской, Русской, Китайской, Испанской, Германской революций: взрывы метеоритов и слова, повторяющиеся, как мерные грохочущие удары тяжелого молота. Мне хотелось бы найти торжественную, даже пророческую интонацию – заклинание, и тем не менее обнаженное произведение, готовое к бою, так сказать. И также какие-то фразы из фольклора, для придания человеческого, земного характера. Хочу, чтобы это «человеческое» включало в себя все, от самого примитивного до самых последних научных открытий».
Предвижу реакцию на то, что он создаст. Скажут: «Да он псих». Или: «Он что, с зайчиком в голове?» Или: «Откуда он взялся, этот Варез?»
Миллионы невежественных американцев способны вполне правдоподобно кивнуть понимающе при упоминании таких имен, как Пикассо, Стравинский, Джойс, Фрейд, Эйнштейн, Блаватская, Дали, Успенский, Кришнамурти, Нижинский, Бленхайм, Маннергейм, Мессершмитт и так далее. И уж конечно, каждый знает, кто такая Шерли Темпл, а многим даже знакомо имя Райму. А вот Рамакришна – наверное, не найдется и одного из сотен тысяч, кто бы когда-нибудь слышал это имя, и уж не услышит до конца дней своих, если только эта книжка не станет бестселлером, в чем я очень сомневаюсь.
К чему я это клоню? Да к тому, что есть что-то несуразное в подаче жизненно важной информации в этом лучшем из демократических миров. Такой человек, как Андре Бретон, признанный отец сюрреализма, ходит по Манхэттену, и никто его не узнаёт, никому он практически не известен. Миллионы американцев, благодаря случаю «Бонуита Теллера», знакомы теперь со словом «сюрреализм». Сюрреализм, если вам захочется спросить первого встречного, означает у нас Сальвадор Дали. Вот это и есть золотой век информации. Если вы хотите понять, что такое смерть, найдите на радио программу «Приглашаем на урок». А если хотите, чтобы вам наплели с три короба о том, что происходит в мире, покупайте газеты или послушайте президента Рузвельта во время его «бесед у камелька». А уж если вам сразу не усвоить этот избыток информации и дезинформации, почему бы вам не купить «Дайджест» – некоторые так и поступают.
Для получения информации об Эдгаре Варезе, да еще поданной удивительно поэтически, рекомендую вам статью Пола Розенфелда в последнем номере «Твайс э йеа», альманаха, выпускаемого дважды в год Дороти Норман в Нью-Йорке, Мэдисон-авеню, 509. По этому адресу вы найдете стоящего на страже крепости Альфреда Стиглица. С таким часовым тревожиться нет причины.
Розенфелд написал о музыке Вареза так полно и так понятно, что какие бы слова я ни захотел сказать, они покажутся лишними. Интересным в Варезе кажется мне то, что он как будто лишен способности слушать. В таком же состоянии пребывал бы сегодня, после пятидесяти лет работы и Джон Марин, если бы не преданность и любовь его друга Альфреда Стиглица. Что касается ситуации с Варезом, то здесь все более непонятно, поскольку музыка его есть, безусловно, музыка будущего. И будущее это уже с нами с тех пор, как музыка Вареза стала известна немногим избранным. Разумеется, это не та музыка, которая сразу же привлечет внимание толпы.
Иные люди, и Варез относится к их числу, подобны динамиту. Думаю, что уж этого одного достаточно, чтобы объяснить, почему к ним подходят с такими предосторожностями и опасениями. Пока еще мы не знакомы с музыкальной цензурой, хотя я помню какое-то сочинение Хунекера, где он удивлялся, почему у нас нет цензуры для некоторых музыкальных пьес. Я совершенно серьезно считаю, что если бы Варезу была предоставлена полная свобода действий, его не только подвергли бы цензуре, но и побили камнями. Почему? Да по очень простой причине – он пишет не такую музыку. Эстетически мы, наверное, самый консервативный народ в мире. Нам надо напиться до чертиков, чтобы почувствовать себя свободными. Вот тогда-то весело и от души мы проламываем друг другу черепа. Мы так хорошо – или так по-дурацки – воспитаны, что в обычном состоянии неспособны радоваться ничему новому, ничему непохожему, пока нам все об этом не расскажут. Мы не доверяем своим пяти чувствам, мы полагаемся лишь на наших критиков и воспитателей, а они всего лишь неудачники в искусстве.
Короче говоря, слепой ведет слепого. Это и есть демократический путь. А будущее, которое всегда рядом, заканчивается неудачей, разочарованием, задвигается за угол, оказывается пришибленным, искалеченным, а иногда и вообще уничтожается, создавая привычный мираж эйнштейновского мира, мира, который ни рыба ни мясо, мира конечных кривых, ведущих к могиле, или в богадельню, или в психушку, или в концлагерь, или в теплые, уютные стойла демократическо – республиканской партии. И тут поднимаются маньяки, стремящиеся восстановить закон и порядок при помощи топора. Когда миллионы жизней будут загублены, когда наконец мы их схватим и оттяпаем головы, нам будет немного легче дышаться в наших обитых войлоком клетках. При таких условиях очень освежающе, поверьте мне, действует Моцарт в исполнении великого гипнотизера Тосканини. Если вы можете позволить себе нанять за десять, или двадцать пять, или пятьдесят долларов какую-нибудь терпеливую душу, чтобы выслушивала ваши сетования на судьбу, вы сможете снова приспособиться к этому безумному миру и обойтись без унизительной потребности приобщиться к «Христианской науке». Вы можете привести в порядок, тетешкать свое эго, а то и вообще избавиться от него, как избавляются от бородавки или бурсита. И тогда вы сможете наслаждаться Моцартом еще полнее, чем прежде, – так же как трелями Тетраццинни или колыбельными Бинга Кросби. Музыка – отличный наркотик, если только не принимать его слишком всерьез.
МИР ПРОБУЖДАЕТСЯ!
Просто повторять эту фразу про себя по пять раз на дню вполне достаточно, чтобы вы превратились в анархиста. Но как вы разбудите этот мир, если вы музыкант? Сонатой для ржавых консервных открывалок? Никогда не задумывались над этим? Или, может быть, вам лучше оставаться спящим?
СОЗНАТЕЛЬНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО!
Пробовали ли вы когда-нибудь представить себе, что это может означать? Только отвечайте честно. Хоть на одну минуту в вашей жизни вы задумывались, что может значить для человечества стать сознательным полностью, не уступающим эксплуатации и не вызывающим жалость? Ничто не может помешать прогрессу осознавшего себя человечества.
Ничто.
Как стать сознательным? Это не очень-то безопасно, знаете ли. Это вовсе не означает, что у вас появятся два автомобиля и свой собственный дом с музыкальным органом. Это означает, что вы будете страдать еще больше – вот что надо уяснить себе прежде всего. Вы же не хотите умереть, не хотите быть безразличным, бесчувственным; вы не хотите тревожиться и впадать в панику, не хотите испуганно оглядываться, не хотите швырять тухлые яйца в то, чего вы не понимаете. Вы хотите понимать все, даже неприятные вещи. И вы захотите вобрать в себя все больше и больше – даже то, что кажется враждебным, злым, угрожающим. Да, вы будете становиться все больше и больше, расти до Бога. Вам не придется откликаться на газетные объяаления для того, чтобы узнать, как надо общаться с Богом. Богбудетс вами все время. И если я кое-что в этом смыслю, вы станете больше слушать и меньше говорить.
КОНЦЫ ПУТЕЙ – ЭТО ИХ НАЧАЛА
Как долго вам оставаться в компании Мистера Джордана [31]31
Ночной горшок.
[Закрыть], зависит от вас. Одни эволюцинируют стремительно, другие плетутся черепашьим шагом. «Существует только движение», как говорит Варез. Это вселенский закон. Если вы не приноровите свой ритм к ритму универсума, вы замрете, попятитесь к исходной точке, превратитесь в овощ, в амебу или в воплощенного сатану.
Никто не просит вас выбрасывать за окно Моцарта. Сохраняйте его. Дорожите им. Сохраняйте и Моисея, и Будду, и Лао-Цзы, и Христа. Берегите их в своем сердце. Но дайте место и для других, приближающихся, тех, кто уже скребется у ваших дверей.
Нет ничего убийственнее статус-кво, как бы это ни называлось: демократией ли, фашизмом, коммунизмом, буддизмом или нигилизмом. Если вы как-то представляете себе будущее, знайте, что таким оно в один прекрасный день и предстанет перед вами. Мечты сбываются. Они-то и есть подлинное содержание реальности. Реальность не пестуют и не поддерживают законами, официальными декларациями, указами, бомбардами и армадами. Реальность – то, что все время прорастает из смерти и разложения. Вы ничего не можете с этим поделать, ни прибавить, ни убавить; вы только можете все более и более познавать ее. Те, кто познает ее частично, – творцы; те же, кому ведомо все, суть боги, живущие среди нас в молчании и неизвестности. Назначение художника, а это один из типов творца, пробуждать нас. Художник подстегивает наше воображение. «Воображение – вот решающее слово», – говорит Варез. Они делают доступными для нас куски реальности, отпирают двери, которые мы привыкли держать закрытыми. С ними беспокойно, с одними больше, чем с другими. Я вспоминаю русских, выходящих в одиночку навстречу наступающим танкам. Такими маленькими и беззащитными кажутся эти солдаты, но, когда они попадают в цель, они причиняют не поддающиеся оценке разрушения. Таковы и некоторые художники, и среди них Варез. У нас есть веская причина бояться их, у тех из нас, кто спит. Они несут с собой огонь, который не только светит, но и сжигает. Одинокие фигуры, вооруженные только идеями, зачастую даже одной идеей, они разносят вдребезги целую эпоху, в которой мы были запеленуты, словно мумии. У некоторых из них хватает сил, чтобы воскрешать мертвых. Другие, застигнув нас врасплох, околдовывают нас, и требуются столетия, чтобы мы могли стряхнуть их чары. Третьи обрушивают на нас проклятия за нашу тупость и косность, и тогда кажется, что и сам Бог не в силах снять эти проклятия.
За каждым творческим актом, поддерживая его, как колонна, стоит вера. Вдохновение – ничто, оно приходит и уходит. Но с тем, кто верит, случаются чудеса. Вере нечего делать с процентами прибыли; уж если на то пошло, она должна иметь дело с провидцами. Люди, которые знают и верят, могут провидеть будущее. Они не хотят предложить нечто, что выше нашего понимания, – они хотят подложить нечто под нас. Нашим мечтам они дают надежную опору. Миру не дают остановиться не потому, что это прибыльное предприятие (Бог, кстати говоря, ни цента не вложил в дело). Мир продолжает существовать потому, что в каждом поколении находится несколько человек, верящих в него безоговорочно, абсолютно; они подтверждают это своими жизнями. И они стремятся еще глубже постичь этот мир, и из этих усилий рождается музыка; из диссонирующих элементов жизни они ткут узоры, полные гармонии и смысла. Не будь этой постоянной борьбы нескольких творческих личностей за расширение чувства реальности в людях, мир наш, попросту говоря, протянул бы ноги. Совершенно ясно, жизнь в нас поддерживают не законодатели и генералы, а люди веры, люди предвидения. Они, как живительные бактерии, подпитывают бесконечный процесс становления. Так освободим же место для этих жизнетворцов!
«Этот революционный век, в котором мы живем, – говорит наш современник [32]32
Из книги «Искусство как высвобождение энергии» Дэна Рудьяра.
[Закрыть], – отмечен не только переходом между двумя непродолжительными культурными циклами, между так называемой эпохой Рыб и эпохой Водолея. Он представляет собой гораздо более значительное явление, он – начало, канун, первый шаг к эре, которая объемлет собою сотни тысяч лет…»
И вот что говорит тот же автор о «музыкальном пространстве»:
«Западная классическая музыка обращала все свое внимание на структуру музыки, на то, что называют музыкальной формой. Полностью пренебрегали изучением законов звуковой энергии, проникновением в языковые средства реального звукового бытия. Развивались по большей части роскошные абстрактные системы, не воплощавшие в музыке звуковых явлений реального мира. Потому-то музыканты Востока часто говорят, что наша музыка есть музыка пробелов, дырявая музыка. Наши ноты, по их словам, пограничные знаки интервалов, между ними пустота пропасти. Мелодии прыгают от края одной пропасти к краю другой, не текут, не скользят. Они едва касаются живительной почвы. Это музыка мумий, заспиртованных натуралий, искусно набитых чучел – они могут казаться живыми, но на самом деле они безжизненны и недвижимы. Внутреннее ее пространство – пустота. Звуковые реалии мертвы, потому что не наполнены звуковой энергией, звуковой кровью. Только кожа да кости. Мы называем их «чистыми» звуками. Да, они настолько чисты, так безгрешны, что от них никогда не будет никакого беспокойства – истинный религиозный идеал: певцы Сикстинской капеллы, мужчины, лишенные репродуктивной способности. Вот он, символ европейской музыки, чистой музыки».
«Но теперь, с появлением так называемой атональности, со все расширяющимся претворением в жизнь того, о чем сказал Варез – «Музыка должна звучать», того, что является не чем иным, как подлинным выражением переживания живого человеческого существа, – мы медленно и нерешительно приходим, вопреки европейским реакционерам от музыки, именующим себя неоклассиками, к новому восприятию музыки, основанному на ощущении звуковой полноты, к тому, что русские назвали «пансоноризмом», а мы несколькими годами раньше «звукоплеромой»; ее и пытается осуществить Генри Коуэлл при помощи придуманных им «звуковых кластеров».
С особенной выразительностью в этом исследовании музыкального пространства говорится о звуке. «Каждый дошедший до нашего уха звук представляет собой сложную сущность, состоящую из разных элементов, расположенных в том или ином порядке и связанных между собою известными отношениями. Другими словами, звук – это молекула музыки и как молекула может быть расщеплен на атомы и электроны, которые в конечном счете можно представить себе как волны всепроникающих излучений звуковой энергии, пронизывающих все мироздание. Они подобны недавно открытым космическим лучам; профессор Милликен дал им достаточно занимательное определение: родовые крики простых элементов – гелия, кислорода, кремния, железа».
Но музыка ли это? Такой вопрос неизбежно возникает, когда речь заходит о Варезе. Он уходит от этого вопроса таким манером – цитата взята из его недавней статьи «Организованный звук для звукового фильма».
«Поскольку содержание термина «музыка», как мне кажется, постепенно сужается, я предпочитаю обходиться выражением «организованный звук» и уклоняюсь таким образом от надоевшего вопроса: «Но музыка ли это?» «Организованный звук» мне представляется более подходящим термином, схватывающим двойственность музыки как искусства-науки, со всеми последними лабораторными открытиями, позволяющими нам надеяться на безусловное высвобождение музыки, равно как и на безоговорочное признание моей собственной работы как отвечающей требованиям прогресса».
Но музыка ли это? Называйте это как хотите, у людей вообще ум за разум заходит, когда они не могут назвать вещь и отнести ее к какой-нибудь категории. Испуг, чуть ли не паника при встрече с новым. Разве мы не слышали тот же самый вопль в других искусствах? Но литература ли это? Но скульптура ли это? Но живопись ли это? И да, и нет. Понятное дело, это не водопровод, не железнодорожная инженерия, не хоккей, не игра в «блошки». Когда вы каталогизируете все вещи, исключая новое произведение искусства или новую форму искусства, вы в конечном счете приближаете блаженный конец того, что в зависимости от случая может быть или музыкой, или живописью, или скульптурой, или литературой. Когда судья Вулси принимал свое памятное решение по делу джойсовского «Улисса», на горизонте маячила каталажка. Об этом мы помним, но склонны забывать, что защищавший книгу достопочтенный старый чудак напирал на тот факт, что она обращена к очень незначительному меньшинству общества, что в целом книга очень трудна для понимания и вследствие этого вред от ее непристойных пассажей ограничится ничтожно малым числом наших добропорядочных граждан. Этот робкий, осмотрительный подход к устранению препятствий, когда противостоят работе со спорными достоинствами, он не служит, сказал бы я, просвещению умов. Вместо того чтобы задаваться вопросом: «Как много вреда принесет обсуждаемая книга?», почему бы не спросить: «А сколько добра?», «А сколько радости?» В табу, хотя и неузаконенном, могущественная сила. Что же так пугает людей? То, чего они не понимают. В этом отношении цивилизованный человек ничуть не отличается от дикаря. Новое всегда несет с собой ощущение оскорбления чувств, святотатства. То, что отжило, священно; то, что ново, то, что не такое, всегда несет зло, опасность, грозит гибелью.
Я очень ясно помню свою первую встречу с музыкой Вареза. Я услышал ее в великолепной записи и был потрясен. Словно получил нокаутирующий удар. Придя в себя, я снова поставил пластинку. На этот раз я смог разобраться в эмоциях, которые пережил в первые минуты; настолько ошеломила меня новизна, эта длящаяся, непрерывная новизна, что определить, как назвать то, что я чувствую, было невозможно. Чувства шли крещендо, сгустившись до плотности кулака, врезающегося в твою челюсть. Позже, в разговоре о своей новой работе Варез спросил, не согласился ли бы я дать ему несколько фраз для хора. «Магических фраз, заклинаний», – сказал он, и все, что я слышал прежде, вернулось ко мне с удвоенной силой и смыслом. «Мне надо как-то передать ощущение пустыни Гоби», – сказал еще Варез.
Пустыня Гоби! У меня голова пошла кругом. Более точного образа, чем этот, невозможно было придумать, чтобы описать первичный эффект его организованного в музыку звука. Любопытная вещь: после прослушивания музыки Вареза вы как-то притихаете. И это не растроганность, не переполненность чувствами, как обычно представляют себе, а благоговейный страх. Это оглушает, да, если для вас музыка – успокаивающее средство и ничего более. Это какофония, да, если вы полагаете, что мелодия – это все. Это пытка для нервов, да, если вам непереносима сама мысль о диссонансах, не имеющих конечного разрешения. Ну и бегите от этой беспокоящей, тревожной, может быть, неприятной музыки. И что вы получите в результате? Несет ли наша музыка покой, гармонию, воодушевляет ли она? Можем ли мы похвастать перед новой музыкой чем-нибудь еще, кроме буги-вуги? Что предлагают нам из года в год наши дирижеры? Только свежие трупы. А над этими прекрасно набальзамированными сонатами, токкатами, симфониями и операми публика отрывает джатгербаг. Днем и ночью радио поит нас сивухой самых тошнотворных сентиментальных песнюшек. Из церквей к нам доносятся погребальные плачи по Христу, музыка, которая не более священна, чем сгнивший турнепс.
Варезу хочется вызвать настоящую космическую пертурбацию. Если б он смог управлять радиоволнами и одним поворотом рычажка взорвать кое-что на карте мира, думаю, он бы умер от счастья. Когда в разговоре о своей новой работе и о том, чего он хочет достичь, он упоминает нашу Землю и ее вялых, наркотически зависимых обитателей, вы можете видеть, как он пытается ухватить Землю за хвост и раскрутить над своей головой. Он хотел бы заставить ее вертеться, как волчок, как колесо в аттракционе, чтобы сбросить с нее раз и навсегда убийства, мошенничества и прочие паскудства. Кажется, он спрашивает: вы что, глухи, немы, слепы? Конечно, сегодня есть музыка, но у нее нет звука. Конечно, смертоубийство продолжается, но на него не обращают внимания. Конечно, газетные заголовки кричат о трагедиях, но где же слезы? Или это мир резиновых изделий стучит резиновой колотушкой? Это игра в крокет или космологическое очковтирательство? Смерть но одно, а отсутствие жизни – совсем другое.








