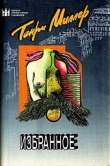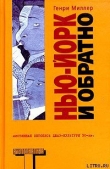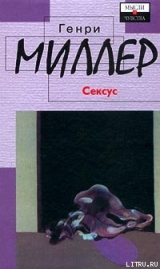
Текст книги "Сексус"
Автор книги: Генри Валентайн Миллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 36 страниц)
3
Суббота. Середина дня. Светит яркое веселое солнце. Я сижу в саду доктора Уши Хаши Дао и потягиваю бледненький китайский чай. Доктор только что вручил мне рулон фейерверочной бумаги с текстом длинного стихотворения о Матери Всего Сущего. Я смотрю на доктора: вот так выглядит совершенный человек, не очень общительный, однако. Мне хотелось задать ему какой-нибудь вопрос о подлинном дао, но так уж случилось, что в этой точке времени, говоря ретрогрессивно, я еще не читал «Дао дэ цзинь» 2424
Книга великого философа древнего Китая Лао-цзы (вторая пол. VI – первая пол. V в. до н. э.), основателя философского учения даосизма
[Закрыть]. Если б прочел – не было бы нужды задавать ему вопросы, в том числе и этот: зачем мне сидеть в его саду и ждать женщину по имени Мара? Будь я настолько интеллектуалом, чтобы ознакомиться с этим самым прославленным и самым эллиптическим произведением древней мудрости, мне бы удалось избежать множества бед и не изведать тех горестей, о которых я собираюсь рассказать.
Но пока я сижу в этом саду на углу Бродвея и Семнадцатой, и мысли у меня совсем другие. Если быть честным, сейчас я не могу вспомнить, о чем я тогда думал. Смутно припоминаю, что мне не понравились стихи о Матери, они показались мне полнейшей хреновиной. Больше того, не понравился и сам автор – это я помню отчетливо. Хорошо помню, что кипятился я оттого, что понимал: похоже, меня еще раз нагрели. Усвой я к тому времени хотя бы частичку дао, я бы не терял спокойствия. Я сидел бы там, по-коровьи благодушный, благодарный за то, что светит солнце и я живу на белом свете. Сегодня, когда я пишу это, нет ни солнца, ни Мары, но, хотя я еще не превратился в благодушную корову, чувствую себя переполненным жизнью и в согласии со всем миром.
Из глубин дома донесся телефонный звонок. Плосколицый китаеза, уж, конечно, какой-нибудь учитель философии, сказал мне на своем пиджине, что леди просить меня телефон. Звонила Мара, только что, если верить ее словам, вставшая с постели. Перебрала вчера, сообщила она. И Флорри тоже. Обе отсыпаются поблизости в гостинице. В какой гостинице? Это не важно. Чтобы собраться, ей нужно полчаса. Ждать еще полчаса! Настроение упало окончательно. Сначала шпагат на вечеринке, а теперь похмелье… А кто там еще рядом с ней в постели? Не с буквы ли «К» начинается его фамилия? Никому не позволено говорить с ней таким тоном. А я вот говорю, понятно? Скажи, где ты, и я мигом буду у тебя. Не хочешь говорить? Тогда пошла ты к такой-то матери, мне на тебя…
– Алло! Алло! Мара!
Молчание. Да, ее должно было пронять. А во всем виновата эта поблядушка Флорри. Флорри с вечным своим зудом между ляжек. А что еще о ней думать, если только и знаешь об этой девке, что она никак не может найти хер такой величины, чтобы прочесал ее как следует. На нее взглянешь, и сразу же возникает мысль о том, как славно было бы перепихнуться, о том, как бы ударить по рубцу. О ста трех фунтах в эластичных чулках. О ста трех фунтах ненасытной плоти. Да к тому же она еще и пьянчуга. Сука ирландская. Сука из сук, если хотите знать. И норовит подражать сценической речи, будто еще вчера работала в шоу Зигфельда 2525
Зигфельд – владелец популярного нью-йоркского кабаре в те годы.
[Закрыть].
Целую неделю от Мары ни звука. Потом как гром с ясного неба – телефонный звонок. Голос унылый. Мог бы я где-нибудь пообедать с ней? Надо поговорить о важном деле. И серьезность такая, какой никогда раньше я в ней не замечал.
И вот я лечу в Виллидж на свидание с ней, и на кого же я наталкиваюсь? Кронский! Пробую проскочить мимо, но не тут-то было!
– Куда мы так торопимся? – спрашивает он и улыбается вкрадчивой язвительной улыбочкой, какую он всегда предъявляет в самый неподходящий момент.
Объясняю, что тороплюсь на свидание.
– И собираемся пообедать?
– Не собираемся, а собираюсь, – подчеркиваю последнее слово.
– О, только не в одиночестве, мистер Миллер! Я же вижу, вам нужна компания. Что-то у вас сегодня не такой уж блестящий вид, чем-то вы обеспокоены. Надеюсь, не женщина?
– Слушай, Кронский, – говорю ему. – Я должен кое с кем встретиться. И ты мне совсем не нужен.
– Ну, мистер Миллер, кто же так обращается со старыми друзьями? Я просто настаиваю теперь, чтобы мы пошли вместе. Обед за мой счет! Неужели от этого откажешься?
Ну что было с ним делать!
– Ладно, черт с тобой, пойдем вместе. Может быть, ты и пригодишься, все-таки ты иногда меня выручаешь. Только без всяких твоих штучек. Я тебя познакомлю с женщиной, которую люблю. Может, на твой взгляд она окажется нехороша, но я все равно хочу вас познакомить. Рано или поздно я на ней женюсь, и раз я, как мне кажется, никогда не смогу от тебя отделаться, ей придется тебя терпеть. Пусть привыкает теперь, а не после. Есть у меня предчувствие, что она тебе не понравится.
– Очень серьезно звучит, мистер Миллер, придется принимать меры для вашей защиты.
– Если начнешь соваться не в свое дело, я тебе башку откручу, – отвечаю я со свирепой улыбкой. – Насчет этой особы я шутить не намерен. Ты раньше меня таким не видел, говоришь? Не можешь в это поверить, да? Ну-ка, посмотри на меня: видел ли ты более серьезного человека? И запомни: встанешь у меня на дороге – прикончу тебя за милую душу!
Невероятно, но Мара пришла раньше нас. Столик она выбрала в самом дальнем темном углу ресторана.
– Мара, – сказал я, – это мой давний друг доктор Кронский. Он очень хотел прийти вместе со мной. Надеюсь, ты не против?
К моему удивлению, она приняла его совсем по-дружески. Что же касается Кронского, то он, увидев Мару, вмиг позабыл о своих смешках и шуточках. И больше всего говорило его молчание. Обычно, когда я знакомил его с женщиной, он делался очень шумным: без умолку болтал, да и невидимые крылья у него за спиной трепетали тоже не беззвучно.
И Мара была необычайно тиха, говорила каким-то убаюкивающим гипнотизерским голосом.
Только мы успели заказать и обменяться первыми любезностями, как Кронский, не сводя с Мары умоляющих глаз, произнес:
– Мне кажется, что-то происходит, что-то трагическое. Если вам надо, чтобы я ушел, я уйду немедленно. Не бойтесь сказать правду. Но мне хотелось бы остаться. Может быть, я смогу помочь вам. Я друг этого парня и был бы рад стать и вашим другом. Поверьте, я говорю искренне.
Довольно трогательно, еще бы! Явно взволнованная, Мара ответила ему со всей сердечностью.
– Конечно, оставайтесь, – сказала она, и рука ее потянулась к нему через столик в знак признательности и доверия. – При вас мне будет даже легче разговаривать. Я много о вас слышала, но не думаю, что ваш друг был к вам справедлив.
Она бросила на меня укоризненный взгляд, а потом мило улыбнулась.
– Да, – быстро проговорил я. – Я никогда не изображал его абсолютно точно. – И, повернувшись к Кронскому, добавил: – Ты знаешь, Кронский, у тебя отвратнейший характер, и все-таки…
– Ну-ну, – прервал он с презрительной гримасой. – Не разводи здесь эту достоевщину. Сейчас ты скажешь, что я твой злой гений. Да, может быть, я имею на тебя некоторое, ты скажешь, даже сатанинское, влияние, но я никогда тебя не стеснялся, как ты меня. И я делал все, что бы ты ни попросил, даже если это было неприятно дорогим для меня людям. Я ставил тебя выше всех. Почему – сам не могу объяснить, ты ведь этого не заслуживаешь. А вот сейчас, признаюсь тебе, мне грустно. Я вижу, что вы любите друг друга, что вы друг другу подходите, но…
– Считаешь, что для Мары это не ахти как, да?
– Я этого еще не сказал, – произнес он с настораживающей серьезностью. – Я вижу только, что вы один другого стоите.
– Значит, вы думаете, я достойна его?
Мара задала этот вопрос так смиренно, что я изумился: никак не подозревал, что она может спросить об этом постороннего. Кронский чуть не подпрыгнул на месте.
– Достойна его… – Он ощерился. – Достоин ли он вас – вот как надо ставить вопрос. Да чем же он отличился, что женщина спрашивает, достойна ли она его? Он ведь и делом еще никаким не занялся – он в спячке. На вашем месте я бы ему не доверял ничуть. Он и другом-то настоящим не может быть, куда уж там мужем или любовником! Милая Мара, и не помышляйте о таких вещах. Заставьте его сделать что-нибудь для вас, пришпорьте его, пусть рванет во весь опор, если вы хотите, чтоб он перед вами раскрылся. Самый верный совет, какой я, человек его любящий и понимающий, могу вам дать: истерзайте его, исколошматьте, разбередите все в нем, загоните его. А иначе вы пропали – он вас слопает. Не потому что он негодяй, не потому что захочет навредить вам… о нет! Он сделает это по доброте душевной. Он даже постарается, чтоб и вы поверили, что, по сути, только в ваших же интересах он вонзает в вас свои когти. Он будет мучить вас с улыбкой и говорить, что это делается для вашего блага. Это же в нем, а не во мне есть что-то сатанинское! Я лишь прикидываюсь, а у него все по-настоящему. Из всех двуногих он самый жестокий ублюдок, и самое странное, что вы и любите его потому, что он жесток и не скрывает этого от вас… И он заранее предупредит вас перед тем, как ударить побольнее. С улыбочкой предупредит. А потом поднимет вас, погладит ласково, спросит, не очень ли больно. Сущий ангел. Ублюдок!
— Я, конечно, не знаю его так хорошо, как вы, – тихо ответила Мара, – но должна сказать честно, с этой стороны он никогда мне не открывался, по крайней мере до сих пор. Я знаю, что он добрый и внимательный. И надеюсь, что я все сделаю для того, чтобы он всегда оставался таким со мной. Я не только люблю его, я верю в него как в личность и пожертвую чем угодно, лишь бы он был счастлив.
– А сами-то вы не очень счастливы сейчас? – спросил Кронский, словно не услышав ее слов. – Скажите, что он сделал, чтобы вы…
– А он ничего и не мог сделать, – живо возразила Мара. – Он не знает, что со мной происходит.
– Ну а мне вы можете рассказать?
Голос Кронского изменился, глаза увлажнились, он стал похож на жалкого, норовящего лизнуть хозяйскую руку щенка.
– Не дави на нее, – сказал я. – Придет время, она нам все расскажет.
Я взглянул на Кронского. Выражение его лица снова изменилось, он отвернулся. Я взглянул на Мару: в ее глазах стояли слезы, а потом она заплакала. И тут же извинилась, поднялась из-за столика, пошла к туалету. Кронский посмотрел на меня с вялой, безжизненной улыбкой – так умирающий ловит обессилевшими губами последние струйки лунного света.
– Не воспринимай все так трагически, – сказал я. – Мара крепкий орешек, она справится.
– Это ты так говоришь! Ты же понятия не имеешь, что значит страдать. Ты блажной и свою блажь называешь страданием. Неужели ты не видишь, как ей плохо? Ей надо, чтобы ты что-то сделал для нее, а не ждал сложа руки, пока все само собой рассосется. Если ты не выспросишь, что с ней, тогда это сделаю я. Ты на этот раз поймал настоящую женщину. А настоящая женщина, мистер Миллер, вправе ждать от мужика не только слов или размахиваний руками. Так вот: если она захочет, чтобы ты сбежал с ней, бросил жену, ребенка, работу, я тебе скажу: «Давай!» Ты слушай ее, а не свой себялюбивый внутренний голос!
Он откинулся на спинку стула, поковырял в зубах зубочисткой. И после паузы спросил:
– Ты познакомился с ней в дансинге? Должен тебя поздравить, ты умеешь распознавать настоящий товар. Такая девушка может из тебя что-то сотворить, если ты сам ей не помешаешь. Впрочем, боюсь, уже поздно. Ты ведь довольно далеко зашел, сам знаешь. Еще год с такой женой, как твоя, и тебе конец. – Он смачно сплюнул на пол. – Тебе везет, счастье само валится тебе в руки. Я же работаю как проклятый, а чуть-чуть зазеваюсь, и все летит кувырком.
– Это потому, что я гой 2626
Носящее слегка пренебрежительный оттенок обозначение всякого нееврея.
[Закрыть]. – Мне вздумалось пошутить.
– Ты не гой. Знаешь, ты кто? Черный жид. Есть такие блестящие язычники, на которых каждый еврей хотел бы походить. Поимей это в виду… Мара, конечно, еврейка? Ладно, ладно, не притворяйся, что не знаешь! Она тебе еще не говорила, что ли?
Мысль о том, что Мара еврейка, показалась мне такой нелепой, что я рассмеялся.
– Хочешь, чтоб я тебе это доказал, да?
– Мне все равно, кто она. Только уверен, что не еврейка.
– А кто же? Надеюсь, ты не скажешь, что она чистокровная арийка?
– Никогда этим не интересовался, – сказал я. – Спроси сам, если тебе хочется.
– Спрашивать я не стану, – сказал Кронский. – При тебе она может и соврать. Но при следующей встрече я тебе скажу, прав я или нет. Уж я-то евреев с первого взгляда узнаю.
– Когда мы познакомились, ты и меня за еврея принял. Он расхохотался.
– Так ты в это поверил? Да я хотел тебе польстить, дураку. Была б в тебе хоть капля еврейской крови, я б тебя линчевал из уважения к своему народу. – Он покачал головой, на глазах выступили слезы. – Прежде всего еврей – человек хваткий. Сам знаешь, как у тебя с этим. Еврей – добродетельный человек. В тебе есть хоть капля добродетельности? Потом, еврей умеет почувствовать, и даже самый нахальный еврей всегда почтителен и осторожен… Мара идет. Кончаем эту тему.
– Ну что, обо мне говорили? – Мара снова была за нашим столиком. – Чего ж не продолжаете? Я не против.
– Ошибаетесь, – сказал Кронский. – Мы вовсе не о вас говорили.
– Врет он, – вмешался я. – Мы говорили именно о тебе. Вернее, начали говорить. Прошу тебя: расскажи ему о своей семье, то, что мне рассказывала.
Мара помрачнела.
– С чего это вы говорили о моей семье? – сказала она с плохо скрытым раздражением. – Вот уж совсем неинтересный предмет – моя семья.
– Не верю. – Тон у Кронского был самый решительный. – Вы что-то скрываете от нас…
Они обменялись взглядами, и это поразило меня. Она словно подсказывала ему быть поосторожнее. Они общались как подпольщики, и способ их общения меня исключал. Передо мной возникла фигура той женщины на заднем дворе, их соседки, как пыталась ввинтить мне Мара. А если это ее приемная мать? Я попробовал припомнить, что говорила она о своей матери, но сразу же заблудился в сложном лабиринте, который она нагородила вокруг этой явно болезненной темы.
– И что же ты хочешь знать о моей семье? – повернулась она ко мне.
– Не хочу спрашивать ни о чем для тебя неудобном, – сказал я. – Но расскажи, если это не секрет, о твоей мачехе.
– А откуда родом ваша мачеха? – спросил Кронский.
– Из Вены.
– А вы тоже родились в Вене?
– Нет, я родилась в Румынии, в маленькой деревушке в горах. Во мне. может быть, есть цыганская кровь.
– Вы думаете, ваша мать была цыганка?
– Да, говорят, что так. Говорят, отцу пришлось сбежать от нее и жениться на моей мачехе. Потому, я думаю, она так ненавидит меня. Я – паршивая овца в семейном стаде.
– А отца вы, кажется, любите?
– Обожаю. Мы с ним очень похожи. А всем остальным я чужая, у меня с ними ничего общего.
– Но вы помогаете всей семье? – спросил Кронский.
– Кто вам это сказал? Ох, вы меня все-таки обсуждали, когда…
– Нет, Мара, никто мне ничего не говорил. Это можно узнать по вашему лицу. Вы многим жертвуете ради них и потому несчастны.
– Не стану отрицать, – сказала она. – Я делаю все это ради отца. Он болен и больше не может работать.
– А что же ваши братья?
– Ничего. Просто лодыри… Я их избаловала. Понимаете, в шестнадцать лет я убежала из дома. Целый год меня не было с ними, а когда вернулась, увидела, что в доме полная нищета. Они совершенно беспомощны. Одна я на что-то способна.
– И вы их всех содержите?
– Пытаюсь, – сказала она. – Это так тяжело, что иногда хочется все бросить. Но не могу. Они просто умрут с голоду, если я их брошу.
– Ерунда! – взревел Кронский. – Именно так и надо поступить!
– Нет, не могу. Пока жив отец, я на все пойду, проституткой стану, только б ему не было плохо.
– Уж это они вам точно позволят, еще бы! – сказал Кронский. – Послушайте, Мара, ведь вы сами себя ставите в ложное положение. Вы же не можете за всех отвечать. Пусть сами о себе позаботятся. Заберите с собой отца, мы вам поможем присматривать за ним. Он ведь не знает, как вам приходится зарабатывать? Вы ведь ему не рассказывали о дансинге?
– Нет, ему – нет. Он думает, что я служу в театре. Но мать знает.
– Это ее беспокоит?
– Беспокоит? — Мара горько усмехнулась. – С тех пор как мы живем вместе, ей всегда было плевать на то, чем я занимаюсь. Она говорит, что я пропащая. Шлюхой меня называет. Я, мол, вся в свою мать.
Я вмешался в разговор.
– Мара, – сказал я. – Я не думаю, что все так уж плохо. Кронский прав: тебе надо освободиться от них. Почему бы не поступить так, как он предлагает, бросить их всех и взять отца к себе?
– Я бы так и сделала, – сказала Мара. – Но только отец никогда мать не оставит. Она его крепко держит, он с ней совсем как ребенок.
– А если он узнает, чем ты занимаешься?
– Он никогда не узнает. Я никому не позволю рассказать ему об этом. Мать однажды заикнулась, так я предупредила, что убью ее, если она вздумает ему рассказать. – Мара опять горько усмехнулась. – И знаешь, что произошло потом? Она стала говорить, что я отравить ее хотела…
В эту минуту Кронский предложил продолжить разговор на квартире у его приятеля в Аптауне. Приятель в отъезде, и мы можем оставаться там хоть всю ночь. В метро поведение Кронского изменилось: снова появились взгляды исподлобья, ехидные шуточки, мефистофелевская язвительность, – словом, он стал таким же бледноликим гадом, каким был всегда. Это означало, что, считая себя неотразимым, он имеет право строить глазки каждой смазливой бабенке. На лбу у него выступила испарина, воротничок взмок. Он прыгал с темы на тему, речь его стала лихорадочной, бессвязной. Таким диким способом он пытался создать атмосферу происходящей с ним драмы; он бестолково размахивал руками, словно попавший в перекрестье двух прожекторов, обезумевший от света нетопырь.
К моему ужасу, Маре пришелся, казалось, по вкусу этот спектакль.
– Он совершенно сумасшедший, твой приятель, – шепнула она мне, – но он мне нравится.
Замечание достигло ушей Кронского. Он трагически усмехнулся и вспотел еще сильнее. Чем больше он усмехался, чем больше паясничал и кривлялся, тем печальнее было на него смотреть. А ему и в голову не приходило, что он может выглядеть ужасно. Это же он, Кронский, сильный, полный жизни, пышущий здоровьем, общительный, беспечный, безрассудный, беззаботный малый, способный справиться с любыми возникающими у кого бы то ни было проблемами! Кронский мог говорить часами подряд, что часами – днями, если у кого-то хватит мужества и терпения слушать его. Он просыпался уже готовым к разговору, тотчас же ввязывался в спор по любому поводу, и всегда о судьбах мира: о его биохимической структуре, астрофизической природе, политико-экономических формах. С миром дела обстояли плохо, Кронский это знал, потому что накопил кучу фактов о дефиците нефти, о боеспособности армии Советов или о состоянии наших арсеналов и фортификаций.
Как о вещи совершенно бесспорной он говорил, что солдаты Красной Армии не могут воевать этой зимой, потому что у них столько-то шинелей, такое-то количество сапог и всего прочего. Он говорил об углеводах, жирах, сахаре и т. д. и т. п. Он рассуждал о мировых ресурсах так, как подобает рассуждать мировому лидеру. В международном праве он разбирался лучше самых признанных авторитетов. Не было ни одной вещи под солнцем, о которой он не имел бы полной и исчерпывающей информации. Пока еще он всего лишь врач-интерн в городской больнице, но через несколько лет он станет великим хирургом, или психиатром, или еще кем-нибудь великим – он еще не сделал окончательного выбора. «А почему ты не хочешь стать президентом Соединенных Штатов?» – спрашивали его друзья. «А потому что я не полоумный, – отвечал он с кислой гримасой. – Думаете, если захочу, я не смогу стать президентом? Вы же не считаете, что президентам требуются мозги? Нет, мне нужно настоящее дело! Я хочу помогать людям, а не дурачить их. Если б я взялся за эту страну, я бы вычистил весь дом снизу доверху и начал бы с того, что кастрировал таких, как вы».
Час или два он занимался очисткой мира, наводил порядок в огромном здании, мостил дорогу к человеческому братству и торжеству свободной мысли. Каждый день своей жизни он отдавал мировым проблемам, просвещению завшивевшего человеческого разума. В какой-нибудь из дней, приведенный в раж положением невольников на Золотом Береге 2727
Имеется в виду бывшая английская колония в Западной Африке, теперь – Республика Гана.
[Закрыть], он закидывал нас биржевыми ценами на золото в слитках и сырую кожу или какими-нибудь другими статистическими фантасмагориями, объясняющими, по его мнению, как исподволь зарождается ненависть между людьми, как душат чрезмерной работой слабогрудых, бесхребетных людишек, корпящих над финансовыми бумагами, ради придания веса такому неосязаемому предмету, как политэкономия. В другой раз его приводили в бешенство хром или марганец, которые скупались на мировом рынке не то Германией, не то Румынией, чтобы, кажется, затруднить хирургам Красной Армии операции в госпиталях, когда наступит Великий День. Да и вообще, как бы шло развитие мира вне надзора доктора Кронского – эта тайна так и не прояснялась. У доктора Кронского также никогда не возникало сомнений в правильности своего анализа состояния дел в мире. Кризисы, паники на биржах, наводнения, революции, эпидемии – все эти события происходили лишь для того, чтобы подтвердить его выводы. Бедствия и катастрофы приводили его в восторг: он квакал и отфыркивался, похожий на эмбрион вселенской жабы.
Как идут его личные дела – никто никогда не получил бы ответа на этот вопрос. Личных дел не было. Он отмахивался от них руками и ногами – неужели нельзя спросить о чем-то более глубоком и важном?
Первая его жена умерла из-за врачебной ошибки, вторая сошла бы с ума, если бы знала, о чем мы рассуждаем. Он мог размышлять о чудесных современных зданиях, в которых хотел поселить жителей Новой Республики Человечества, и не мог очистить свое маленькое гнездо от клопов и прочих паразитов; по причине своей вовлеченности в мировые события – в наведение порядка в Африке, на Гваделупе, в Сингапуре и других местах – в его собственном доме порядка было маловато, что означало немытую посуду, незастланную постель, разнокалиберную мебель, прогорклое масло, неработающий бачок в туалете, протекающие трубы, грязные расчески на столе, в общем, милое, жалкое, умеренно безумное состояние разрухи, в самой персоне доктора Кронского проявлявшееся в виде перхоти, экземы, фурункулов, волдырей, рухнувших мостов, жировиков, бородавок, гнилого запаха изо рта, поносов и иных второстепенных расстройств, не имеющих, впрочем, никакого значения: ведь как только установится Новый Истинный Мировой Порядок, все относящееся к прошлому исчезнет и человек воссияет в чистых покровах аки новорожденный агнец.
Друг, в доме которого мы оказались, был, как сообщил нам Кронский, натура художественная. Состоять в дружбе с великим Кронским мог художник только необыкновенный, один из тех, кто возвещает человечеству приход Золотого века. Друг Кронского был сразу и художником-живописцем, и музыкантом, и одинаково велик в обоих воплощениях. По причине его отсутствия мы лишились возможности услышать его музицирование, но зато могли полюбоваться картинами. Но только некоторыми, поскольку большую часть своих картин он уничтожил. Он уничтожил бы все, если бы не Кронский. Я спросил мимоходом, чем же он сейчас занят. Оказалось, руководит показательной лесной школой для умственно отсталых детей в Канаде. Кронский сам организовал это предприятие, но слишком занят общими вопросами, чтобы вникать в мелкие хозяйственные детали. Кроме того, друг его болен туберкулезом и ему полезно постоянно жить на свежем воздухе. Но Кронский посылает ему телеграммы с самыми различными указаниями. Это только начало, уже скоро они освободят обитателей больниц и богаделен и докажут обществу, что бедняк может сам позаботиться о бедняке, слабый о слабом, калека о калеке, а дебил о дебиле.
– Это и есть картина твоего приятеля? – спросил я Кронского, когда он включил свет и огромная масса желтовато-зеленой блевотины обрушилась на нас со стены.
– Одна из его ранних работ, – сказал Кронский. – Он ее сохранил из чисто сентиментальных побуждений. Лучшие вещи я отправил в хранилище. Но тут есть одна вещица, она даст тебе некоторое представление о его возможностях. – И он посмотрел на «вещицу» с гордостью, словно сам был создателем этого шедевра. – Великолепно, правда?
– Ужасно, – сказал я. – У него комплекс дерьма. Его, должно быть, родили на задворках, в луже, которую напрудил старый мерин, в гнусный февральский день да еще рядом с нефтеперегонным заводом.
– Можешь говорить все, что угодно, – немедленно отомстил мне Кронский. – Ты не умеешь распознавать подлинного художника. Тебя только позавчерашние революционеры восхищают. Ты дохлый романтик.
– Твой приятель, может быть, и революционер, но не художник, – не унимался я. – Он же ничего не любит, в нем только ненависть, но и то, что он ненавидит, не может изобразить. У него рыбий глаз. Ты говоришь, что он болен туберкулезом, да нет – у него разлитие желчи. И он смердит, и квартира его смердит. Почему ты не откроешь окна? Воняет, словно здесь собака сдохла.
– Не собака, а морская свинка. Я использовал эту квартиру под лабораторию, вот здесь немножко и пахнет. У вас очень чувствительный нос, мистер Миллер. Вы эстет.
– А выпивка здесь найдется? – спросил я.
Выпивки, конечно, не было, но Кронский предложил сбегать.
– Возьми чего-нибудь покрепче, – сказал я. – Меня здесь тошнит. Понятно, почему этот тип подцепил чахотку.
Кронский ретировался как-то даже застенчиво.
– Ну как? – взглянул я на Мару. – Дождемся его или смоемся отсюда?
– Это будет очень невежливо. Нет, давай подождем. А мне нравится его слушать. Даже больше – мне интересно. И он очень высоко тебя ставит. Это видно по тому, как он на тебя глядит.
– Он только поначалу интересен, – сказал я. – Если честно, он мне до смерти надоел. Я эту чепуху много лет слушал. Херня чистейшая. Он, может, и умный, но с зайчиком в голове. Помяни мое слово, он когда-нибудь покончит с собой. И кроме того, у него дурной глаз. Всякий раз после встречи с ним мои дела обязательно разлаживались. От него же смертью несет, неужели ты не чувствуешь? И он вечно то брюзжит, то балаболит, как мартышка. Как ты можешь заводить такого друга? А он хочет, чтобы ты стала подругой его печалей. В чем его печали, я понять не могу. Он печалится о судьбах мира. А я куска дерьма не дам за этот мир. Ни я не могу сделать эту жизнь справедливей, ни он… никто. Почему он не попробует просто жить? Мир может оказаться не таким уж плохим, если, Мара, мы попробуем сами чуть больше радоваться жизни. Нет, он мне осточертел…
Кронский вернулся с каким-то жутким пойлом. Ничего другого, сказал он, в такое время достать нельзя. Сам он редко выпивал больше наперстка, и ему было все равно, отравимся мы или нет. Он-то надеется, что мы отравимся, сказал он. А у него – депрессия. И депрессия, кажется, рассчитанная на всю ночь. Мара, как последняя идиотка, почувствовала к нему жалость. А он, вытянувшись на софе, улегся головой ей на колени. Началась другая стадия: ирреально-безличностная скорбь обо всем мироздании, не факты и обличения, как раньше, а песня, записанная на диктофон, песня, обращенная к миллионам обездоленных существ во всем мире. Доктор Кронский всегда пел эту песню в темноте, лежа головой на женских коленях, пощипывая пальцами ковер на полу.
Его голова, похожая на раздувшуюся кобру, пригрелась на Аридных коленях, слова текли изо рта, как течет газ из неплотно закрученного вентиля. Это было заклинание простейшей, неделимой человеческой частицы, протодуши, блуждающей в подземельях всеобщего страдания. Доктора Кронского больше не было, были только боль и муки, сталкивающиеся, как позитроны и нейтроны, в вакууме, оставшемся от исчезнувшей личности. В этом состоянии несуществования даже внезапное, чудесное рождение Всемирной Республики Советов не высекло бы из него ни искорки энтузиазма. Говорили нервы, железы внутренней секреции, селезенка, печень, почки, сосуды и капилляры, почти выступающие на поверхности кожи. Но кожа сама была оболочкой мешка, в котором чередовались кости, мышцы, сухожилия, пропитанные кровью, жиром, лимфой, желчью, мочой, калом и всем прочим. Смертоносные микробы копошатся в этом вонючем мешке; микробы одолеют в конце концов – не важно, как и когда – коробку с упакованным в ней веществом серого цвета, называемую вместилищем разума. Тело всегда в заложниках у смерти. И доктор Кронский, такой живой, такой витальный в рентгеновских лучах мировой статистики, хрустнет, как вошь под грязным ногтем, когда настанет время вылезать из кокона. В часы такой мочеполовой депрессии в голову доктору Кронскому не приходило, что с точки зрения Всеобщего Разума смерть может принимать совсем другое обличье. Он столько резал, рассекал, препарировал человеческих тел, что воспринимал смерть весьма конкретно: она была для него шматком остывшего мяса, брошенного на цинковый стол покойницкой. Электричество выключено, машина остановилась, а через некоторое время появится запах. Voila, нет ничего яснее и проще! Самое привлекательное существо, какое только можно вообразить, после смерти становится странным, холодным куском какой-то водопроводной трубы. Он наблюдал свою жену, когда омертвление уже овладевало ею: несмотря на всю свою привлекательность, она была замороженной треской, заметил он вскользь. Мысль о страданиях, перенесенных ею, уступила место проникновению в то, что происходило внутри этого тела. Смерть уже вошла в это тело, и работа смерти зачаровывала Кронского. Смерть всегда с нами, утверждал он. Смерть прячется в темном углу и ждет подходящего момента, чтобы поднять голову и ударить. Единственно реальное, что нас связывает, – постоянное присутствие смерти в каждом.
И Мару захватило все это. Она поглаживала его по волосам и тихо мурлыкала, словно вбирала в себя ровно струящееся шипение газа, выходящее из тонких бескровных губ. Мне было неприятно именно ее сочувствие страдальцу, а не унылая монотонность его заклинаний. Образ Кронского ассоциировался у меня с тоскующим козлом, и это было смешно. Он проглотил слишком много пустых консервных банок, он обожрался бракованными автомобильными деталями. Он был ходячим кладбищем фактов и цифр. Он умирал от статистического несварения.
– Знаешь, что ты должен сделать? – сказал я как можно спокойнее. – Ты должен покончить с собой. Сейчас, в этот вечер. Тебе и впрямь жить не для чего, зачем себя обманывать? Мы скоро уйдем, а ты – давай! Ты парень дошлый, знаешь, как это сделать по-тихому и чисто. По-моему, это твой долг перед миром. Тебя ведь тошнит от самого себя.
Как током ударили эти слова страдающего доктора Кронского. Словно дельфин над водой взлетел он над своим ложем и мигом оказался на ногах. Потом хлопнул в ладоши и с грациозностью хромого носорога сделал несколько па. Он впал в экстаз, как впадает в экстаз золотарь, узнав, что жена произвела на свет очередное чадо.