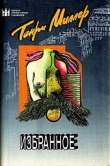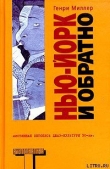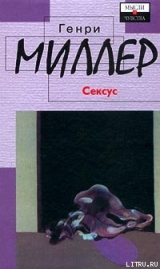
Текст книги "Сексус"
Автор книги: Генри Валентайн Миллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 36 страниц)
Ночь за ночью слова, сны, плоть, призраки. Обладание и необладание. Цветы под луной, широкоплечие пальмы, запах джунглей, яростный лай ищеек, пузырьки лавы, хрупкое детское тело, медленный снегопад, бездонная пропасть, и там неясная дымка расцветает и превращается в плоть. Плоть… Тело… А что есть тело, как не луна? А что есть луна, как не ночь? А ночь жаждет, жаждет, жаждет… непереносимо.
«Думай о нас!» – сказала она в тот вечер и быстро побежала вверх по ступеням. Словно я мог думать о ком-то еще. Только о нас, бесконечно подымающихся по ступеням. Только мы, двое, и ступени, ведущие в бесконечность. И еще «мнимые ступени»: ступени в мастерскую моего отца, ступени к преступлению, к безумию, к воротам открытий. О чем же еще я мог думать?
Творчество! Сотворить бы легенду, раскрывающую передо мной ее душу.
Женщина в попытках избавиться от своего секрета. Отчаявшаяся женщина пытается в любви найти самое себя. Перед бесконечностью тайны она как сороконожка, и земля уползает из-под каждой ноги. Каждая дверь ведет в еще большую пустоту. Ей надо плыть, как звезда плывет в бесконечном океане времени. Ей надо запастись терпеливостью радия, лежащего в глубинах Гималайских хребтов.
Вот уже лет двадцать, как я начал изучать фотогеничность души. К этому времени я провел сотни опытов и в результате узнал чуть больше – о самом себе. Наверное, точно так же обстоит дело и с политическими вождями, и с гениями войн: они ничего не открывают из тайн мироздания, в лучшем случае узнают кое-что о природе судьбы.
Вначале они кидаются на каждую проблему, как на штурм: решительно и смело идут напрямик, и чем решительнее и смелее их приступ, тем быстрее они запутываются в паутине. Нет ничего более неловкого, чем героическая личность. Столь грандиозные смуты и трагедии не удаются никому, кроме них. Сверкнув мечом над Гордиевым узлом, они обещают быстрое освобождение: иллюзия, кончающаяся морями крови.
В творце-художнике есть что-то общее с героем. Хотя он действует совсем на другом поприще, он тоже верит, что предлагает решение проблем. Но его триумфы – мнимые. После свершения каждого великого дела перед государственным деятелем, воителем, поэтом или философом жизнь предстает все в том же загадочном обличье. Сказано, что счастливейшие народы те, у которых нет истории. Тот же, кто имеет историю, кто историю творит, лишь подчеркивает своей деятельностью бесплодность великих подвигов. В конечном счете он исчезает так же бесследно, как и тот, кто просто жил и радовался.
Творческая личность (в борении со своей средой) должна испытывать радость, которая уравновешивает, если не превосходит, муки самовыражения. Художник, говорим мы, живет в своей работе. Но этот уникальный способ очень зависит от индивидуальности. Только в той мере, в какой художник постигает разнообразие жизни, ее щедрость, он может сказать, что живет в своем произведении. Если такого постижения нет, то не имеет смысла и не дает никакого преимущества замена живой реальности на воображаемую жизнь. Каждый, кто стремится подняться над повседневным мельтешением, делает это не только в надежде расширить или углубить свой жизненный опыт, но и просто начать жить. Только так борьба художника приобретает смысл. Взгляни под этим углом зрения – и разница между успехом и поражением стирается. Вот это и постигает в пути каждый большой художник: процесс, в который он вовлечен, дает жизни другое измерение; идентифицируя себя с этим процессом, он расширяет жизнь. А раз так, то подстерегающая его, готовая над ним восторжествовать смерть отодвигается в сторону, он защищен от нее. И он понимает наконец, что великую загадку никогда не разгадаешь, она включена в твою подлинную суть. Сам стань частью тайны, прими ее в себя и живи в ней. В этом принятии в себя и заключается решение: искусство – не эгоистические выверты интеллекта. Через искусство, кроме того, устанавливается в конце концов контакт с реальностью: вот какое великое открытие совершает художник. Здесь все игра и выдумка, здесь нет твердой опоры для метания стрел, рассеивающих миазмы глупости, алчности и невежества. Мир не надо приводить в порядок: мир сам по себе воплощенный порядок. Это нам надо привести себя в согласие с этим порядком, надо понять, что мировой порядок противопоставлен тем благоизмышленным порядочкам, которые нам так хочется ему навязать. Мы стремимся к власти, чтобы утвердить добро, истину, красоту, но добиться ее мы можем только путем разрушения одного другим. Это счастье, что у нас нет силы. Перво-наперво мы должны приобрести способность провидения, а потом научиться выдержке и терпению. До тех пор, пока мы будем покорно признавать, что есть взгляд зорче нашего, пока будем хранить почтение и веру в высшие авторитеты, слепые будут поводырями слепых. Люди, верящие тому, что усердием и мозгами можно преодолеть все, тем более оказываются обескураженными донкихотским и непредвиденным поворотом событий. Это те, кто вечно разочарован, не в состоянии упрекнуть своих божков или самого Бога, они оборачиваются к своим собратьям, в бессильной ярости оглашая воздух пустыми словесами: «Предательство! Глупость!» – и прочим, и тому подобным.
Огромная радость для художника – постигать высший порядок вещей, распознавать в своих осознанных и стихийных порывах общие черты человеческих творений и того, что мы называем творением Божьим. В произведениях фантастики порядок, обнаруживающий наличие регулирующего закона, куда нагляднее, чем в других произведениях искусства. Нет ничего менее беспорядочного, менее хаотичного, чем фантастика. Эта штука, представляющая собой не что иное, как чистейший вымысел, пройдя через спады и подъемы, устанавливает, как вода, свой собственный истинный уровень. Бесчисленные истолкования не приносят ничего, лишь усиливают значение того, что кажется неинтеллигибельным, а говоря не философски, не постигаемым лишь разумом. Эта неинтеллигибельность, как бы то ни было, имеет глубокий смысл. Она задевает всех, хотя кое-кто предпочитает прикинуться незадетым. В фантастике присутствует нечто, что можно уподобить эликсиру алхимиков. Этот таинственный элемент, часто определяемый как «полная бессмыслица», несет в себе привкус и аромат того огромного непостижимого мира, где наша душа воспринимает ритмы космоса и общается с непознаваемым. «Бессмыслица» – одно из самых неистолкованных слов в наших толковых словарях. Оно представляет лишь отрицательную величину, так же как и «смерть». Никто не может объяснить, что такое «бессмыслица» – ее можно только продемонстрировать, указать на нее. Но добавим, что осмысленное и бессмысленное оказываются равноценными, стоит лишь приглядеться попристальнее. Бессмыслица – часть других миров, она лежит в других измерениях, и жест, которым мы отталкиваем ее, безапелляционность нашего обвинительного приговора свидетельствуют о том, что ее природа обременительна для нас. Мы отбрасываем все, что не вмещается в убогие рамки нашего разумения. А ведь между глубиной и бессмыслицей можно, оказывается, обнаружить весьма неожиданное сходство.
Почему же я немедленно не бросился с головой в бессмыслицу? Потому что, как и другие, я этого боялся. Но еще важнее тот факт, что, не поставив себя вовне, я завяз в самом сердце паутины. Я прошел собственную разрушительную школу дадаизма: сначала ученый-исследователь, потом критик, а потом убивец с крушащим все молотом. И вот мои литературные эксперименты лежат в руинах, как античные города, взятые вандалами. Я хотел приступить к строительству, но не было надежных материалов, а проекты и планы не дошли даже до первоначальных эскизов. Если материалом искусства является человеческая душа, то я не представлял себе, что может вырасти из мертвых душ под моей рукой.
Запутываться во множестве драматических эпизодов, беспрестанно участвовать во всех означает среди прочего и то, что человек не подозревает даже об очертаниях той гигантской драмы, в которой деятельность людей представляет лишь крохотную частицу. И когда вы беретесь за перо, вы кладете конец одному роду деятельности и вызываете совсем другие силы. Погруженный в молитвенную сосредоточенность, монах неспешными шагами вступает под своды храма и тем самым пускает в ход ритуал молитвенного общения с Богом – вот живая картинка начала писательского труда. Разум, занятый до того наблюдением и осмысливанием, теперь задумчиво бродит в мире форм и образов, они беспрерывно снуют вокруг, приводимые в движение простым взмахом его крыльев. Нет, он не тиран, подчиняющий своим желаниям перепуганных обывателей порабощенного им царства. Он скорее исследователь, пробуждающий к жизни дремлющие создания его фантазий. Акт фантазирования, словно бодрящий сквозняк, врывается в заброшенный дом, и вся обстановка твоего сознания оказывается в новой ambiance 5555
атмосфере (фр.).
[Закрыть]. Стулья и столы приходят на помощь, затхлый воздух улетучивается, представление начинается.
Бесполезно докапываться до цели этой игры. С таким же успехом можно вопрошать Творца: зачем взрываются вулканы, зачем беснуются тайфуны – ведь они ничего не приносят, кроме разрушений и гибели? Но гибельны-то они для тех, кого поглощают в своих воронках, а для тех, кто выберется из них, кто изучает их – они созидательны. Фантазер, если он не погибнет в кораблекрушении, вернувшись из путешествий, может – и обычно так он и поступает – превратить свои рухнувшие снасти в материал для другого дела. Лопнувший мыльный пузырь не вызывает у ребенка ничего, кроме удивления и восторга. Изучающий иллюзии и миражи реагирует по-другому. Мыльный пузырь может открыть ученому целый мир эмоций и мыслей. Тот же самый феномен, заставляющий ребенка визжать от восторга, рождает в мозгу серьезного экспериментатора ослепляющую вспышку истины. В художнике эти контрастирующие, то смешивающиеся друг с другом, то поглощающие одна другую реакции оказываются сильнейшим катализатором того, что можно назвать претворением. Наблюдательность, умение анализировать, способность к обобщению – все эти дарования бледны и безжизненны без претворения. Роль художника в том, чтобы отодвинуться от реальности, погрузившись в нее. Это значит увидеть на поле битвы больше, чем просто «гибель», как представляется это невооруженному глазу. Ибо с начала времен картина, которую мир предлагает человеческому взору, вряд ли может показаться чем-либо иным, кроме зрелища безнадежно проигранного сражения. Так было всегда и так будет, пока человек не перестанет смотреть на себя как на очаг противоречий, пока он не научится быть «я» другого «я».
10
По субботам я обычно уходил из конторы в полдень и завтракал либо с Хайми Лобшером и Ромеро, либо с О'Рурком и О'Марой. Иногда к нам присоединялись Керли или Джордж Мильтиадис, греческий поэт и ученый из посыльной службы. Иногда О'Мара приглашал с собой Ирму и Долорес. Эти две, некогда скромные секретарши в рекламном отделе Космококковой службы, теперь могли позволить себе покупки в больших магазинах на Пятой авеню. Ленч затягивался до трех, а то и до четырех часов, а потом я тащился проторенным путем в Бруклин к Мод и малышке выполнять еженедельный долг.
Если шел снег, то наши прогулки по парку отменялись. Мод очень неплохо смотрелась в домашнем халате, с длинными, свободно спадавшими к поясу волосами. Комнаты были жутко загромождены мебелью. Мод сидела, откинувшись на кушетке, возле которой всегда держала коробку конфет.
Глядя на то, как мы здороваемся друг с другом, человек со стороны мог бы подумать, что встречаются старые друзья. Дочки частенько не оказывалось дома – убегала к соседям играть с кем-нибудь из подружек.
«Она прождала тебя до трех часов», – говорила Мод, придавая своему голосу тон мягкого упрека, но я чувствовал, что втайне она взволнована тем, что мы остались наедине.
Я принимался объяснять, сколько работы было у меня в конторе, а она смотрела на меня, как бы говоря: «Знаю я твои оправдания. Хоть бы придумал что-нибудь новенькое».
«Ну, как твоя подруга Долорес? – вдруг спрашивала она. – Или, – и быстрый, острый взгляд на меня, – она уже больше тебе не подруга?» Подобные вопросы были своего рода осторожным намеком на то, что с другой женщиной (с Моной) я не обойдусь так, как обошелся с ней. Имени Моны она никогда не упоминала, я, разумеется, тоже. Мод произносила только «она», «ей», но нельзя было ошибиться, кого она имеет в виду.
Таким образом, в этих вопросах имелся глубоко затаенный смысл. Процедура развода только начиналась, разрыв наш еще не был окончательно подтвержден законом, и почем знать, что может случиться за это время. В конце концов, мы ведь не превратились во врагов. Нас навсегда связал вернейший залог – наша дочь. До тех пор, пока Мод не устроит свою жизнь по-новому, они обе будут зависеть от меня. Ей хотелось бы знать больше о моей жизни с Моной, так ли уж удачно она сложилась или нет, но чувство собственного достоинства мешало проявлять слишком большой интерес. Она, конечно же, говорила себе, что семь лет совместной жизни не такой уж малозначительный фактор даже в этой, на вид ничего не сулящей ситуации. Одно неверное движение Моны – и я вернусь в прежнюю жизнь. Вот ей и следует наилучшим образом использовать эту новую странную дружбу, устанавливающуюся между нами. А там, глядишь, появится почва и для других, более близких отношений.
Я просто жалел ее, когда эти неожиданные упования проявлялись в ней чересчур отчетливо. Мне ничуть не грозила опасность снова завязнуть в тине семейной жизни. Что бы ни случилось с Моной – а я считал, что нас может разлучить только смерть, – к Мод возврата не будет. Уж скорее я перекинулся бы к кому-нибудь вроде Ирмы или Долорес, или даже к Монике, официанточке из греческого ресторана.
– Что ж ты не подойдешь поближе – я ведь не кусаюсь. Голос ее доносился откуда-то издалека.
Часто, когда мы с Мод оставались вдвоем, сознание мое отключалось. Как сейчас, например: я реагировал на нее в каком-то трансе, тело отзывалось на ее зов, но все остальное отсутствовало. Происходила недолгая схватка двух начал, вернее, борьба ее воли с моим безволием. У меня не было ни малейшего желания угодить ее эротическим порывам. Я появлялся здесь, чтобы провести несколько часов и отправиться восвояси, не бередя старых ран и не нанося новых. Иногда, впрочем, я по рассеянности прикасался рукой к ее пышным формам. Поначалу это было что-то вроде бессознательного поглаживания котенка. Но мало-помалу она давала мне почувствовать, что это доставляет ей удовольствие; потом, убедившись, что мое внимание начинает обращаться к ее телу, она резко отбрасывала мою руку.
– Ты забыл, что я больше не твоя жена!
Она любила вот так осаживать меня, понимая, что вызовет этим мои новые попытки, понимая, что тем самым заставит сфокусировать мои мысли вслед за пальцами на запретном предмете – на ней самой. Это поддразнивание служило еще и другой цели – оно пробуждало в ней сознание своей силы: она может дать, может и отнять. Своим телом она словно говорила мне: «Пользуясь этим, ты не можешь игнорировать меня». Пользоваться ее телом я могу лишь унижая другую ради нее. «Я дам тебе больше, чем любая другая, – казалось, говорила она, – если только посмотришь на меня, если ты разглядишь меня, меня настоящую».
Она слишком хорошо знала, что я смотрел мимо нее, что наши центры притяжения оказались в разладе еще большем и угрожающем, чем когда-либо прежде. И ей было абсолютно ясно, что только своей плотью она может меня привлечь.
Поразительно, как давно знакомое нам тело, к которому привыкли и зрение, и осязание, превращается в жгучую тайну, едва мы почувствуем в обладателе этого тела что-то уклончивое, что-то ускользающее от нас. Вспоминаю, с каким вновь пробудившимся пылом исследовал я тело Мод, узнав, что она побывала на осмотре у гинеколога. Особую пикантность ситуации придавало то, что врач был ее давним обожателем, причем одним из тех, о ком она ни разу не упоминала. Ни с того ни с сего она объявила мне однажды, что встретила как-то своего старого поклонника, о котором знала, что ему вполне можно довериться (ничего себе!), и потому решилась позволить ему осмотреть себя.
– Прямо так пришла и попросила себя осмотреть?
– Ну, не совсем так, – ответила она с загадочной улыбкой.
– Так расскажи, как все было!
Мне было любопытно, показалась ли она ему лучше, чем несколько лет назад, или нет. Не попробовал ли он приставать к ней? Он, конечно, был женатым человеком, об этом она мне уже сказала, но не сочла за труд и сообщить, что мужчина он невероятно привлекательный, прямо-таки магнетическая личность.
– Ладно, а что ты испытала, когда легла на стол и раздвинула ноги перед бывшим поклонником?
Она старалась убедить меня, что осталась совершенно холодной, что доктор Хиллари, или как там его, просил ее не стесняться и расслабиться, говорил, что он всего лишь врач, и все такое прочее.
– И тебе удалось расслабиться?
Она опять улыбнулась, улыбнулась одной из тех поддразнивающих улыбок, которые появлялись у нее во время разговоров о вещах «стыдных». Я не отставал:
– Так что же он с тобой проделывал?
– Да ничего особенного. Просто исследовал вагину. – Она не рискнула выразиться «мою вагину». – Пальцами. В резиновых перчатках, конечно, – поспешила она добавить, словно прогоняя мысль, что процедура могла быть чем-то большим, чем поверхностный осмотр.
И совершенно неожиданно вдруг сообщила:
– Он нашел, что у меня все просто великолепно.
– Ах он нашел! Нашел… Он, значит, как следует искал.
Я вспомнил этот случай, потому что она как бы мимоходом пожаловалась, что ее в последнее время снова стали беспокоить старые боли. Несколько лет назад она упала, да так, что ей показалось, что она что-то повредила себе внизу живота. Она говорила об этом так серьезно, что когда взяла мою руку и положила ее прямо к себе туда, на бугорок Венеры, я воспринял этот жест, как совершенно невинный. У нее там были такие густые заросли, сущий терновник, они бы немедленно встали дыбом, если бы в них заблудились мои пальцы-скитальцы, – просто жесткая щетка из проволоки. Но такие лохматые штучки доводят до исступления, когда их коснешься сквозь тонкий бархат или шелк.
Часто в былые дни, когда она носила легкие соблазнительные наряды и вела себя кокетливо и вызывающе, я внезапно прихватывал ее в каком-нибудь людном месте, в фойе театра или на станции надземки. Она свирепела, но я прижимался теснее к ней, закрывая спиной от взглядов, щупал вовсю и приговаривал: «Да никто ж не видит, что я делаю; только не дергайся». Я говорил, говорил, а пальцы все глубже зарывались в ее муфту, и она цепенела от страха. Зато как только гасили свет в зрительном зале, она совершенно спокойно раздвигала ноги и позволяла мне забавляться вовсю. И так же спокойно расстегивала мои брюки и играла с членом, пока актеры играли свои роли на сцене.
У нее и сейчас внизу все полыхало. Это хорошо ощутила моя рука, гревшаяся возле ее споррана 5656
Часть национальной шотландской одежды – сумка мехом наружу, носимая на поясе.
[Закрыть]. А слова ее все продолжали журчать: она боялась, что наступит неловкое молчание и уже нельзя будет делать вид, что не замечаешь моей тяжелой руки на своем теле.
Идя навстречу ее молчаливой просьбе, я прикинулся страшно заинтересованным в ее дальнейших рассказах. Я напомнил ей о ее покойном отчиме – ну конечно, она тут же оживилась: стоило только воскресить это воспоминание, я немедленно ощутил горячее прикосновение ее руки к моей; она словно вдавливала мою руку в себя. Пальцы мои перебирали жесткие завитки ее волос и продвигались все дальше и дальше, а она все говорила и говорила о своем отчиме. Два чувства смешались во мне. Когда-то, когда я только начал захаживать к ним, я жутко ревновал ее к этому человеку. Женщина двадцати двух лет, в самом, как говорится, соку сидит на коленях у своего «папочки» и о чем-то воркует с ним низким, постельным голосом – нестерпимое зрелище! «Я его люблю», – говорила она, будто это ее совершенно извиняло: ведь слово «любовь» звучало для нее абсолютно целомудренно, в нем она не ощущала никакого плотского привкуса.
Такие сцены происходили летом, и я, нетерпеливо дожидаясь, когда же этот мышиный жеребчик отпустит ее, снова вспоминал ее жаркую наготу, едва прикрытую легким, почти прозрачным по летнему времени, платьем. А сейчас это предоставлено ему! Я почти физически ощущал ее вес у него на коленях, как она плотно сидит, как вздрагивают ее бедра, как бессознательно прижимается ее зад к застежке его брюк. Я понимал, что как бы безгрешны ни были намерения старикана, этот созревший плод, упавший ему в руки, не мог не волновать его. Только труп мог остаться нечувствительным к дыханию жизни, к жару, исходившему от ее юного тела. Да, чем больше я ее узнавал, тем естественнее казался мне этакий наивный, но весьма действенный способ, которым она предлагала себя. И не так уж далека от нее была мысль об инцесте; если уж ей предстояло быть «схваченной» кем-то, то она предпочла бы, чтобы это совершил ее «любимый папочка», а то обстоятельство, что он не был ей родным отцом, что не родственные чувства притягивали его к ней, что он ее «выбрал», только упрощало ситуацию, если, конечно, Мод в самом деле могла позволить себе открыто взглянуть на вещи. И я никак не мог выбить из нее эти отвратительные, извращенные представления о любовных отношениях. Она хотела, чтобы я ласкал ее, как ласкают детей, нашептывал всякую милую чепуху, баловал, нежил, забавлял. Ей хотелось, чтобы все шло по этому чертовому кровосмесительному образцу, с невинными объятиями и поцелуями. Она и знать не желала, что у нее имеется гайка, а у меня винт. Ей хотелось любви с многозначительным молчанием, вздохами, пожатиями рук украдкой. Я был слишком прям, слишком груб для нее.
Потом, когда она отведает настоящий вкус этих вещей, она чуть ли не свихнется – от страсти, от гнева и ярости, от стыда, унижения и всего прочего. Она никак не могла предположить ни того, что это так приятно, ни того, что это так омерзительно. Омерзительно было самозабвение, охватывавшее ее. Сознание, что нечто, висящее у мужчины между ног, способно заставить ее позабыть обо всем, выводило ее из себя. Ей так хотелось быть независимой – ведь уже выросла, перестала быть ребенком! И никакой посредник между ней и тем, в чем она уступала, в чем она сливалась, в чем она обменивалась ощущениями, ей не был нужен. Она глубоко таила в своей груди некое маленькое плотное зернышко и только ему, этой своей сути, могла позволить давать наслаждение повинующемуся телу. А то, что тело и душа нерасторжимы, особенно в акте совокупления, возмущало ее больше всего. Она всегда вела себя так, словно, отдавая свою дыру во власть пениса, она лишалась какой-то крупицы своего подлинного «я», какого-то элемента, потерю которого нельзя ничем восполнить. И чем яростнее она сопротивлялась этому, тем глубже было ее погружение в экстаз, тем полнее самозабвение. Никакая женщина не совокупляется так бешено, как истеричка, стремящаяся сохранить ясность рассудка.
И сейчас, чувствуя под пальцами жесткие упругие завитки ее зарослей, нащупывая время от времени самый край ее щели, мыслями я был в далеком прошлом. Я представлял себя совершенно явственно ее приемным отцом, который в гипнотических сумерках согретой за день комнаты забавляется со своей похотливой дочкой. Все было одновременно и настоящим, и ненастоящим. Если б я вел себя согласно ее желанию, если бы играл роль нежного, понимающего любовника, награда была бы обеспечена. Она утопила бы меня в своей страстной покорности. Только не прерывать игры – и она раскроет навстречу мне свои ноги и пышущее жаром жерло вулкана между ними.
– Дай-ка я посмотрю, не будет ли тебе больно, – прошептал я, и рука моя переместилась под ее комбинацию, прямо к дыре. А там уже было как следует мокро, и ноги ее покорно раздвинулись еще шире. – Значит, тебе там не больно? – спросил я, погружаясь в нее все глубже.
Глаза ее были закрыты, она неопределенно кивнула, «да» или «нет» – понять было нельзя. Я запустил в нее еще два пальца и осторожно вытянулся рядом. Одна рука оказалась у нее под головой, и я нежно прижал свою бывшую жену к себе. Пальцы мои все еще сбивали масло из ее сливок.
Она лежала тихо, никак не отвечая на мои манипуляции. Тогда я взял ее руку и положил себе на ширинку, чудесным образом оказавшуюся расстегнутой. Она крепко и нежно схватила мою палку и очень умело начала ее ласкать. Я бросил на нее быстрый взгляд: из-под чуть приоткрытых век струилось блаженство. Да, вот что она любила: слияние вслепую, на ощупь. Если б сейчас она могла сделать вид, что еще не проснулась, спит, отдается по неосторожности, застигнутая врасплох; если б она могла отдаться до конца и оставаться при этом невинной, не быть соучастницей – вот было бы счастье! И уж тут-то семафор открыт всем приемам: и покусываниям, и щипкам, и сосанию, и ласкам языком – всему, что душе ее угодно; выжать все, до последней капли.
Теперь – ни одного неловкого движения, никаких грубых попыток разорвать тонкую оболочку кокона, в которую все еще обернута ее обнаженная, плотская суть. Чтобы подменить палец другим, более подходящим, требуется ловкость иллюзиониста. Степень наслаждения надо увеличивать понемногу, как приучают организм ко все увеличивающимся дозам яда. Она согласилась бы отдаться и не покидая свой кокон, точно так, как в былые годы мне случалось чуть ли не насиловать ее, так и не сняв с нее ночной рубашки… Мое воображение заработало с дьявольской ясностью. Я представил себе сумерки, ее, сидящую на коленях «папочки», привычно прижавшуюся своей расщелиной к застежке его брюк. Интересно, что за выражение появилось бы на ее лице, если б она внезапно почувствовала, как какой-то жучок зашевелился возле ее дремлющей дырки; если б, пока она бормотала на ухо отчиму всю эту нудную, почти извращенческую чушь о детской влюбленности, совершенно не осознавая, что прозрачная ткань ее платья уже не прикрывает голых ягодиц, что эта неудобопроизносимая штука между его ног вдруг резко вздыбилась и лезет к ней туда, вовнутрь, и вот она уже там, и взрывается, как водяной пистолет. Вот о чем я подумал и взглянул на нее проверить, не прочла ли она мои мысли, пока наглые напористые пальцы блуждали по раскаленным закоулкам ее пекла. Веки ее все еще были плотно сомкнуты, вожделенный рот приоткрылся; и она, словно силясь выпутаться из сетей, начала извиваться и дергаться. Я осторожно снял ее руку с моего петушка и так же осторожно закинул на себя ее ногу. Потом я пустил свою птичку попастись у самого входа в гнездо, и пока она там попрыгивала да поклевывала, какой-то дурацкий рефрен из детства стал крутиться в моей голове и никак не мог отвязаться: «Матки, матки, чей вопрос… » Продолжаю я эту маленькую игру, чтобы завести ее еще больше: головка члена нет-нет да и ткнется в самое устье ее расщелины, а потом присмиреет в намокших от сладкой росы зарослях. И вдруг Мод тяжело вздыхает, глаза ее открываются широко-широко, и она исполняет что-то вроде поворота «все вдруг»: опираясь на руки и колени, она старается так и сяк, чтобы не выпустить моего зверя из вязкого капкана, в который он угодил. Я обхватываю ее зад обеими руками, пальцы мои стремительным глиссандо проскакивают по ее вспухшему разрезу, раздвигают его словно половинки вспоротого резинового мячика, и я наконец пристраиваюсь у нее в самом чувствительном месте. В какую-то минуту я подумал, что с ней что-то случилось: шея, на которой из стороны в сторону моталась ее голова, вдруг напряглась, а глаза, словно прыгавшие в такт усилиям сжимающихся и разжимающихся мускулов ее вагины, неподвижно уставились в какую-то точку поверх меня. Глаз налились полным, безграничным наслаждением. Когда она начала вращать задом, я уже был наполовину в ней, а теперь скользнул чуть ниже и всадил свою морковку так глубоко, что Мод издала глухой стон и голова ее бессильно откинулась на подушку. И в этот горячий момент в дверь громко постучали. Мы оба замерли, даже сердце перестало биться. Мод, как обычно, пришла в себя первой. Отстранив меня, она подбежала к двери.
– Кто там?
– Да это я, – ответил тихий испуганный голос, и я его узнал тут же.
– Ах, это ты! А что с тобой случилось? Чего ты так перепугана?
– Я только хотела узнать, – голос за дверью тянул слова с раздражающей медлительностью, – нет ли здесь Генри?
– А где ж ему быть? Он здесь, конечно, – огрызнулась Мод, сладив наконец с волнением. – Ох, Мелани, – вздохнула она так тяжело, словно палач за дверью пытал ее страшными пытками. – Только это ты и хотела узнать? Не могла бы ты…
– Дело в том, что ему звонят, – проговорила бедняжка Мелани так, словно каждое слово из нее тянули клещами. – Я подумала… что… это… важно.
– Все в порядке! – крикнул я, вскакивая с кушетки и торопливо застегиваясь. – Я иду!
Меня чуть удар не хватил, когда я поднес трубку к уху. Из Тараканьего Зала звонил Керли. Он не мог толком объяснить, что случилось, но я должен быть дома как можно скорее.
– Не тяни резину, – сказал я, – говори прямо, что-то с Моной?
– Да, – выдавил он, – но все еще может наладиться.
– Она не умерла?
– Нет, но была на краю… Давай сюда поскорее. – И он повесил трубку.
Мелани – грудь у нее была едва прикрыта – с видом исполненного печального долга похаживала по холлу. Она бросила на меня понимающий взгляд, в котором сквозило все: и жалость, и зависть, и упрек.
– Я бы вас не стала беспокоить, вы поймите, – она все-таки была жуткой занудой, эта Мелани, – но мне сказали, что дело очень важное. – Она потащилась к лестнице и на ходу добавила: – Неужто я не понимаю? Когда люди молоды…
Я не стал дослушивать ее монолог и поторопился вниз, прямо к Мод в лапы.
– В чем там дело? – В ее голосе и вправду слышалась озабоченность, и я не успел еще ответить, как она спросила: – Что-то случилось… с ней!
— Ничего серьезного, надеюсь, – сказал я, отыскивая пальто и шляпу.
– Ты уже уходишь? Я-то думала…
Теперь в ее голосе слышалось больше, чем озабоченность: в нем слышался отзвук разочарованности и даже недовольства.
– А я не стала включать свет, – продолжала она, подходя к лампе, будто бы собираясь зажечь ее, – боялась, что Мелани спустится сюда вместе с тобой.
Она перебирала пуговицы своего халата, явно стараясь вернуть мои мысли к тому предмету, который занимал ее сейчас больше всего.
И мне вдруг стало совершенно ясно, что было бы слишком жестоко покинуть ее вот так, без всякого знака нежности.
– Мне правда надо идти. – Я отбросил в сторону пальто и шляпу. – Но мне так не хочется оставлять тебя сейчас.