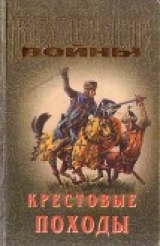
Текст книги "Крестовые походы"
Автор книги: Геннадий Прашкевич
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
– Да, – кивнул Ганелон. – Я даже знаю имя кормчего на нанятом судне. И знаю, что с указанной особой на борт судна поднялся ещё и старик, прозванный в Риме Триболо, Истязателем. А ещё с указанной особой поднялись на борт отборные дружинники, ранее служившие в замке Процинта. А груз названной особы – три сундука.
Отец Валезий пристально всмотрелся в Ганелона:
– Ты не смог подняться на указанное судно?
– Я не мог этого сделать.
– Почему?
– В Риме через оборванца нищего я получил записку. В записке было сказано: «Лучше бы ты служил мне». Но до того, как прислать мне такую записку, указанная особа два года держала меня взаперти в старой замковой башне. А в Риме указанная особа пыталась меня убить, подсылая нанятых на её деньги убийц. Я не мог подняться на корабль. Я был бы тут же опознан.
– Господь милостив, брат Ганелон.
– Аминь!
Они помолчали.
– Куда могло уйти судно?
– Это быстрый корабль, на его корме по-гречески написано – «Глория». Он взял курс на остров Корфу, но, думаю, он пойдёт выше – к рукаву святого Георгия, в Константинополь, в самое гнездо отступников.
– Отступников, да... – медленно повторил слова Ганелона отец Валезий. – Но Константинополь был и остаётся городом христиан...
Отец Валезий не спускал с Ганелона тёмных глаз, совсем не отражающих света:
– Брат Ганелон, сможешь ли ты отыскать в Константинополе тайник, в котором некая названная молодая особа прячет тайные книги, должные принадлежать Святой римской церкви?
– Человек способен лишь на то, на что он способен.
– Но с Божьей помощью на большее. На гораздо большее, брат Ганелон.
Отец Валезий высоко поднял голову:
– Я знаю, ты умеешь объясняться с грифонами, язык греков тебе ведом. Ты умеешь понимать сарацин, тебе доступны чтение и счёт. Используй все свои знания, брат Ганелон. Властью, дарованной мне Святой римской церковью и великим понтификом, позволяю тебе рядиться в мирское, пользоваться кинжалом, сидеть за обильным столом, даже нарушать заповеди, если это понадобится для успеха Дела. Трудись в воскресенье, нарушай пост, отрекись, если понадобится, от близкого. Это необходимо для Дела. Я верю, брат Ганелон, ты вернёшь Святой римской церкви то, что ей должно принадлежать по праву.
– Но как сподоблюсь благодати? – испугался Ганелон.
– Я сам буду твоим исповедником.
В большом шатре установилась напряжённая тишина.
Где-то неподалёку шла в море галера.
Ритмично бил молот по медным дискам, вскрикивали гребцы.
– Святая римская церковь вечна. Её цели возвышенны, – негромко произнёс отец Валезий. – Неизменно стремление Святой римской церкви к спасению душ заблудших. Дьявол никогда не знает устали, брат Ганелон, он вредит целенаправленно и постоянно. Есть старинные книги, насыщенные словами дьявола. Эти книги распространяют зло. Где находятся эти книги, там явственно слышится запах серы. Уверен, брат Ганелон, ты разузнаешь, о чём говорила названная особа со старым лукавцем..."
XVIII"...запах смолы.
Нежный запах смолы, вытекающей из недавно рассечённого дерева.
– Знаешь ли ты, откуда всё берёт начало? – спросил Ганелон.
Брат Одо кивнул:
– Знаю. А потому утверждаю: Бог един."
XX–XXI"...смрадный канал, лестница без ступеней.
Огромные узкие окна открывающиеся вовнутрь.
Кто-то во дворе пнул осла, осёл закричал.
Над серым мрамором башен, над крошечными мощёнными двориками, над белыми надгробиями павших воинов – грозы грифонов, медленно разносился низкий, но мощный гул колокола-марангона, как бы поднимаясь всё выше и выше над многочисленными мозаичными окнами, седыми от росы, над площадью святого Марка, покрытой короткой бледной травой и со всех сторон обсаженной деревьями, над огромными питьевыми цистернами, обмазанными глиной и мутными, как графины с водой...
Скорбя о ней душой осиротелой,
в Святую землю еду на восток,
не то Спаситель горшему уделу
предаст того, кто Богу не помог.
Пусть знают всё, что мы даём зарок
свершить святое рыцарское дело,
и взор любви, и ангельский чертог,
и славы блеск стяжать победой смелой.
...над пыльной Венецией...
Те, кто остался дома поневоле —
священники, творящие обряд
за упокой погибших в бранном поле,
и дамы, те, которые хранят
для рыцарей любви заветный клад,
все к нашей славной приобщились доле,
но низким трусам ласки расточат
те дамы, что себя не побороли.
...над каналами...
– Венеция стала шумной, – престарелый дож Венеции Энрико Дандоло поднял на Амансульту прекрасные, но почти не видящие глаза. – Мне скоро будет сто лет, Амансульта, но я не помню, чтобы Венеция была когда-нибудь такой шумной. Даже в Константинополе, когда подлый базилевс предательским раскалённым железом гасил мне зрение, я не слышал в ушах такого шума. Я уже давно почти ничего не вижу, Амансульта, но у меня другой дар, я очень тонко чувствую запахи. И у меня необычный слух. Вот почему я говорю, что Венеция никогда не бывала столь шумной, как сейчас...
Это паломники, подумал он про себя.
И подумал, пытаясь разглядеть Амансульту, вид которой смутно и странно колебался перед ним, будто их разделяла морская вода: благо человеческое едино и неделимо. Нет и не может быть богатства без могущества, не бывает уважения без прочной славы, и самой славы никогда не бывает без светлой радости. Нельзя искать чего-нибудь одного, скажем, только достатка. Достатка не будет, если у тебя не будет могущества, если ты потеряешь уважение, если ты скатишься в бесславие. Мало взять город Зару, как ему того хочется, надо, и это главное, потеснить Византию. Пусть Византия страна христиан, все знают, она рассадник ереси. Можно и нужно защищать христиан, но зачем защищать отступников? Никакое доброе дело не должно порождать зла. Пути Господни поистине неисповедимы. Если в сплетениях человеческих судеб что-то кажется нам несправедливым, нелогичным, случайным, то это лишь от того, что мы имеем дело с ложным представлением о действительности. Оно происходит по причине ограниченности человеческого ума, неспособного проникать в сокрытые тайны божественного промысла.
Дож шумно вздохнул:
– Мы говорим почти три часа. В последние годы я ни с кем не разговаривал так долго, Амансульта. Ты наговорила мне множество слов. Магистериум, философский камень, великая панацея... Когда-то я принимал участие в таких учёных спорах и, признаюсь тебе, думал, что с течением времени люди начали забывать подобные слова. Но ты так уверенно говорила, что на секунду я даже поверил, что вижу деловитую пчелу, пытающуюся сесть на цветок. Но...
Дож внимательно посмотрел на Амансульту почти невидящими глазами:
– Но, Амансульта... Это только нити родства... Не связывай нас нити близкого родства, я бы не стал слушать твои странные речи... Ты ведь согласна, что говоришь странные речи?..
Он легко поднял сухую руку, сразу отвергая все её возражения:
– Я уже стар, Амансульта. Ты видишь, я уже стар. Я уже стар даже для старика. Разум мне подсказывает: снаряжай последний корабль. Меня, дожа Венеции, знают многие народы – вплоть до Эпира и Вавилонских берегов. Многие друзья и враги внимательно присматриваются к постоянным передвижениям моих боевых галер. Не буду скрывать, мне, конечно, весьма пригодилась бы великая панацея, которую ты ищешь. Мой срок уже отмерен. Мир велик, мне посчастливилось видеть разные берега, но, в сущности, я видел мало. Я, например, не ходил за Танаис, а эта река, говорят, отсекает от нас ещё полмира. Я не поднимался вверх по Гиону, иначе его называют Нил, не поднимался по Тигру и по Евфрату, а эти реки, известно, своими водами орошают рай. Я не был и, видимо, никогда уже не буду в селениях Гога из земли Магог, великого князя Мошеха и Фувала, а ведь этот князь, спускаясь с севера во главе своих диких орд, всегда несёт с собой смерть и разрушение всему, что лежит южнее и восточнее Германии. Теперь ты знаешь, Амансульта, сколь многого я не видел и мне, конечно, пригодилась бы великая панацея, о которой ты говоришь, но...
Он легко махнул сухой рукой:
– Нет, Амансульта, всё это уже не для меня. Многие из виденных мною людей мучились неистощимыми желаниями, в том числе и грешными, но я привык к простоте. Мой ум всегда работал ясно, я старался это поддерживать, в этом моя сила. Я всегда должен быть уверен, что инструмент, которым я владею, это всегда именно тот инструмент, который мне дан Богом, а не дьяволом. Я слушал тебя три часа и все три часа я помнил, Амансульта, что совсем недавно ты ввела в смятение великого понтифика, мне докладывали об этом. В сущности, даже мне ты ничего не смогла объяснить внятно...
– А ты хочешь? – быстро спросила Амансульта.
– Не знаю, – так же быстро ответил дож. – Я мало видел, но я много видел. Я даже не знаю, следует ли смертному видеть больше? Как всякий христианин, я слушаю воскресную мессу, исповедываюсь хотя бы раз в году и причащаюсь по крайней мере к Пасхе. Меня давно не томят плотские желания, я давно получил право решать сложные дела...
Дож Венеции многозначительно помолчал:
– ...и даже наказывать преступников. Все мои дела посвящены моему народу и должны приносить ему пользу. Чего больше? Я ведь никогда и никому не обещаю ничего больше того, чего могу достигнуть. А твои слова, Амансульта, неуверенны в своей странной уверенности. Ты обещаешь, но я не знаю, сможешь ли ты выполнить обещанное? Твои слова смущают. У знаний, которыми ты гордишься, есть один ужасный изъян: они не прибавляют уверенности.
По тонким сухим губам дожа пробежала язвительная усмешка:
– Предположим, я дам тебе тайный кров, дам тайных людей и выполню все твои указания. Предположим, ты даже найдёшь великую панацею, о которой так много говоришь. Предположим, что я, наконец, даже прозрю, использовав найденную тобой великую панацею, получу новые силы и новое долголетие. Но ведь неизвестно, будет ли только мне принадлежать великая панацея? Ведь, может быть, с той же лёгкостью ты передашь её кому-то другому...
Дож лёгким движением руки остановил Амансульту:
– Не старайся меня переубедить. Я хочу высказать свою мысль понятно и просто. Ты же должна понимать, что рано или поздно великая панацея может попасть из христианских рук в руки агарян. Разве могут сравниться гибельные последствия такого события с извержением Этны или страшными ураганами, сметающими прибрежные города?..
– Вот поэтому я ищу чистые руки.
– Чистые? – удивился дож.
Они долго молчали.
– Чистые? – всё с тем же удивлением повторил дож. – Неужели ты не понимаешь, что если великий понтифик потребует твоей выдачи, я, твой родственник, человек с чистыми руками, глава великого народа, не смогу тебя защитить? Разве не наивно говорить о чистых руках в наше время?
Он медленно подошёл к Амансульте и положил лёгкую сухую руку на её светлые вьющиеся волосы.
Потом провёл ладонью по её чуть дрогнувшему лицу.
– В тебе пылает кровь Торкватов. Я знаю. Но помни, помни, что гибнут те, кто не научается сдержанности. Конечно, я мог бы дать тебе многое и, может быть, получить от тебя многое, но ты же должна понимать, что всё равно когда-нибудь наступит время, когда я не смогу тебя защитить. Сперва потому, что я слаб, а потом потому, что меня не будет.
Он снова поднял на Амансульту свои прекрасные, но почти невидящие глаза и спросил то, что, видимо, и мучило его все три последних часа:
– Скажи, Амансульта... Если ты, правда, умеешь заглядывать в будущее... Если ты правда можешь видеть то, чего не видят другие... Город Зара будет моим?... Я смогу вернуть народу Венеции город Зару?...
В голосе дожа проскользнуло что-то странное, настораживающее, и Амансульта ответила суше, чем хотела:
– Это так. Зара будет твоей.
– Можно ли мне спросить то же самое о Константинополе?
– Ты думаешь и о Константинополе?
– Да, – ответил дож жадно.
– Если ты так сильно этого хочешь, то Константинополь тоже будет твоим.
– Ты, правда, можешь провидеть такое?
Дож вдруг необычайно оживился.
Несмотря на свой преклонный возраст, он живо подошёл к окну и рванул на себя створку, выполненную многоцветной, седой от росы мозаикой:
– Значит, я утвержусь в рукаве святого Георгия?
– Это так.
Амансульта встала.
Она не хотела длить бесполезную беседу со стариком, думающим якобы только о своём народе. Она не хотела тешить те странные тайные желания, что время от времени иссушают даже стариков.
Она сказала:
– Зара будет твоей. И Константинополь будет твоим. Но помни...
– Что? Что? – быстро спросил дож.
– Помни... Победит не Венеция...
Дож вскинул над собой обе руки.
– Молчи! – приказал он. – Не продолжай. Не говори больше ни слова. Ты сказала главное, ничего другого я не хочу слышать. Если города Зара и город городов Константинополь станут моими, я сам разберусь со всем остальным. Венеция, Рим и Византия... Вот и всё... Видишь, Амансульта, игральных костей в настоящей игре не так уж много... Кроме того, результат игры, как правило, зависит не от веса игральной кости, а от того, как кость ляжет в нужный момент... Я уверен, Амансульта, каждая кость в этой большой игре ляжет в свой момент именно так, как того захочет Господь. Поэтому ничего не говори больше..."
Часть четвёртая
LOCUS IN QUO...
1204
I–III"...совсем особенные места.
Например, в Вавилонии на собственном корабле собственный матрос украл у Алипия деньги.
Конечно, опечаленный Алипий обратился за помощью к местным купцам бурджаси, но, посоветовавшись, агаряне сказали: твои деньги украл не наш человек, твои деньги украл грифон, грек, твой соотечественник. Они, добрые бурджаси, конечно, попытаются разыскать вора, если вор ещё не покинул Вавилонию, но не знают, что у них получится. Пока же прими для утешения, сказали они Алипию, эти два сосуда с молодым вином, совсем молодого барашка и очень молодую египтянку, которая умеет весело петь и плясать.
Египтянку Алипий выгодно продал в Константинополе.
Там же он сделал так, чтобы ему повезло. Поздним вечером в порту в нелюдном месте он силой отнял у какого-то филистимлянина мешок с серебром, утешая себя тем, что у него в Вавилонии украли примерно такой же.
Облака.
Длинные узкие облака.
Лишь на краю горизонта, там, где ещё не играл апарктий, северный ветер, длинные узкие, как перья, облака вдруг пышнели, вздувались, обильно распускали белоснежные хвосты, по мере отдаления к горизонту становящиеся почти прозрачными, но всё равно упорно сохраняющие пусть расплывчатую, но всё-таки форму.
Десять суток двухмачтовая «Глория» ловила ветер полотняными парусами, десять суток Ганелон молча и терпеливо следил за распускающими хвосты белыми узкими облаками, за нежной рябью, рождаемой плюхающимися в воду летучими рыбами, за нежным голубым небосводом, наконец, за неторопливым плеском волн, разрезаемых носом судна.
«Глория».
Хозяин «Глории» Алипий, грузный купец, всегда кутающийся в удобный шёлковый восточный халат, был носат, как все греки, обветрен, привычен к многим неудобствам и, как многие греки, болтлив. Волосатые смуглые греки-матросы, исходившие за свою жизнь всё внутреннее море и видавшие берега сирийские, ромейские, вавилонские, старательно избегали хозяина. В свою очередь, избив попавшегося под руку матроса просто за то, что он упустил за борт кожаное ведро, Алипий чуть ли не с отчаянием жаловался Ганелону, что если его глупых матросов не бить, они вообще ничего не будут делать.
Если их не бить, они даже кожаное ведро не сумеют упустить за борт, нелогично жаловался Алипий Ганелону. Они от природы лживы и грубы. Корабль утонет, и груз утонет, и все матросы утонут, если их постоянно не бить. Речи постыдные, шутки грубые и неумные, всякие глупости и большая лень – всё, от чего предостерегал честных христиан святой Павел, именно всё это переполняет его нерадивых матросов, смущает их нелепые неразвитые души и наводит на их бесстыдные глаза жадный блеск.
Ганелон молчал.
Он не хотел спорить с Алипием и он не хотел ссориться с матросами. Он слышал, как говорили матросы о нём, о Ганелоне. Он слышал, как о нём, о Ганелоне, с отвращением говорил Калафат, жилистый судовой плотник, по прозвищу Конопатчик.
Проклятый азимит, не раз говорил о Ганелоне жилистый Конопатчик, причём его нисколько не смущало, слышит ли его пассажир «Глории». Проклятый грязный ленивый азимит-католик. Он употребляет хлебцы из пресного теста. От него издалека пахнет монахом. Не морским весёлым монахом, с плеском гоняющимся за рыбой и за русалками, уточнял Калафат, а тем скучным лживым монахом, который просит милостыню на храм божий, а потом все собранные деньги отдаёт в корчме за жирного гуся и за вино. Ему даже сказать нам нечего, ругался вслух Калафат. Он, наверное, не понимает по-гречески.
Ганелон молчал.
Он не хотел, чтобы кто-нибудь, даже Алипий, узнал о его умении понимать язык грифонов.
От волосатого жилистого Калафата всегда пахло паклей и рыбой, часто вином. Длинные чёрные волосы Конопатчик связывал на затылке пучком. Если на палубе не было Алипия, он мог ткнуть Ганелона кулаком. Собака азимит! – говорил он при этом.
– Греки не любят латинян, – неторопливо объяснял после простой, но сытной трапезы Алипий, переходя ради Ганелона на латынь или на французский. – Ты видишь, все мои матросы греки. Они не любят латинян. Они сильно рассержены на латинян. Ты ведь знаешь, наверное, что недавно войско латинян, отправившееся в Святую землю, сожгло христианский город Зару, а потом высадилось в городе всех городов прекрасном Константинополе?
Ганелон молча кивал.
На острове Корфу, когда там появилась «Глория», вернувшаяся с рукава Святого Георгия, Ганелон сам представился Алипию как латинянин. Это давало ему возможность не участвовать в разговорах с матросами-греками и молчать за общим столом. Правда, это позволяло матросам дразнить Ганелона.
– Латинянин непонятлив и глуп. Все латиняне глупые и непонятливые, – смеялись матросы. – Эй, Калафат, дай латинянину дырявую чашку. Пусть он пьёт из дырявой чашки. Ему всё равно. Он азимит, он неправильно крестится. Он ленив. Он закоснел в лени.
Больше всех почему-то невзлюбил Ганелона судовой плотник жилистый Калафат, по кличке Конопатчик.
О Конопатчике говорили, что раньше он три года плавал на ужасных галерах адмирала Маргаритона, морского бога всех норманнских и сицилийских пиратов. О нём говорили, что вместе с адмиралом Маргаритоном, графом Мальтийским, он служил защитнику неверных Саладину. О нём говорили, что он был среди людей Маргаритона, обещавших отдать Константинополь французскому королю Филиппу.
Но, скорее всего, просто говорили.
А может, он сам сочинял такое.
Жилистое тело Калафата не было отмечено ни одним шрамом, ни одной зарубкой. А люди адмирала Маргаритона всегда отличались злобным и упорным нравом, среди них не было ни одного такого, кто не попал бы хоть раз в жизни под чей-то чужой кинжал.
Горох, бобы, тухлая чечевица...
Вяленый виноград, лежалые маслины, чёрствые ячменные лепёшки, ржавая солонина, очень редко мясо морской свиньи, изловленной за бортом...
Чаще всего Ганелон просто отставлял от себя чашку с такой едой, отщипывая лишь кусочек лепёшки. Всё равно Калафат, Конопатчик, шумно отдувал густые усы и презрительно играл чёрными, как маслины, глазами:
– Латинянин глуп и жаден. У него косит левый глаз. Он жадно объедает всех нас, а потом лениво сидит, ничего не делая. Вся его работа, он смотрит на облака. Я плюну ему в чашку, если он не станет есть меньше.
И спрашивал, вращая чёрными злыми глазами:
– Почему азимит не работает столько, сколько мы?
Кто-то из матросов лениво замечал:
– Отстать от латинянина, Конопатчик. Он заплатил Алипию за проезд. Он находится на борту по закону. Ты не можешь упрекать его в лени. Он заплатил Алипию настоящими монетами.
– Значит, он кого-то убил, – стоял на своём Калафат и угрожающе выкладывал на стол огромные жилистые кулаки.
И тут же предполагал другое:
– Наш Алипий хитёр. Наверное, он разрешил латинянину подняться на борт только потому, что хочет продать его в Константинополе. Таким образом Алипий дважды получит свои деньги – от азимита, пущенного на борт, и за азимита, проданного в городе городов. А мы не получим ничего, – обижался Калафат. – Проклятый латинянин объедает нас, совсем не работает и смеётся над нами.
Тухлая чечевица, гнилые бобы, ржавая солонина...
Ганелон молчал.
Хлеб наш насущный. Разве он, Ганелон, убил кого-то? Разве он, Ганелон, ограбил кого-то? Разве он, Ганелон, не свершает крестного знамения прежде чем сделать хотя бы шаг?
Ганелон бесшумно поднимался на палубу и, завернувшись в плащ, устраивался под толстой и чуть наклонённой к корме деревянной мачтой. Он никому не хотел мешать, даже грубым грифонам.
Аминь.
Лишь к самой ночи, безмолвно и смиренно весь день просидев под мачтой, Ганелон смиренно спускался к общему столу и так же смиренно отламывал кусочек лепёшки.
– Плюнь ему на лепёшку, Калафат, – смеясь, вспоминал кто-нибудь из грифонов.
Конопатчик плевал.
При этом он объяснял матросам:
– Жадные латиняне сожгли христианский город Зару. Жадные латиняне предательски захватили город всех городов Константинополь. Латиняне заслужили самого худшего.
И снова плевал, теперь уже в чашку Ганелона.
Грифоны смеялись.
Ганелон смиренно держал в руках осквернённую лепёшку и не отставлял от себя осквернённую чашку. Он не хотел ссориться с грифонами. Их было много, они все были сильные и здоровые, а он несколько ослабел, почти не питаясь во время морского перехода.
Самые осторожные предупреждали Калафата:
– Не безумствуй, Калафат. Не заходи далеко, Конопатчик. Латиняне терпеливы, но однажды они взрываются. Ты, может, не видел, а мы видели. У этого латинянина под плащом кинжал.
– Кинжал? – Конопатчик нагло выкатывал чёрные влажные глаза и так же нагло хватал Ганелона за полу потрёпанного плаща: – У тебя есть кинжал? Зачем тебе кинжал, азимит?
Ганелон молчал.
Про себя он неустанно молил: Иисусе сладчайший, услышь, в помощи твоей нуждаюсь, всеми гоним, помоги мне. На мою лепёшку плюют, мою чашку оскверняют, мне тяжело, помоги мне.
Всеми силами он старался смирить вспыхивающую в нём ярость.
Господи, дай сил!
Господи, откуда зло, если ты есть?
И клал крест на грешные уста.
Прости, Господи. Откуда было бы добро, не будь тебя?
– У азимита плохой глаз, – осторожно предупреждал Калафата кто-то из матросов. – Оставь латинянина в покое, Конопатчик. Вот сейчас сюда спустится Алипий и всё услышит. В Константинополе, Конопатчик, Алипий прогонит тебя с корабля, если ты так и будешь приставать к его законному пассажиру. Алипий знает всех кормчих и всех купцов на внутреннем море. Если Алипий тебя выгонит, ты уже никогда ни к кому не устроишься даже самым младшим матросом. Отстань от латинянина.
Но Калафат уже вырвал кинжал из-под плаща Ганелона.
– Смотрите, это латинский кинжал, – грубо сказал он, держа оружие сразу двумя смуглыми волосатыми руками. – Видите, он очень узкий. Такие кинжалы латиняне называют милосердниками. Лезвие такое узкое, что им удобно колоть сквозь любую щель в латах, не только через забрало. Латиняне трусливы. Такими кинжалами они добивают раненых. Этот латинянин, наверное, украл кинжал. Я оставлю милосердник себе.
– Смотри, Конопатчик, азимит может пожаловаться Алипию.
Калафат засмеялся, показав неровные жёлтые зубы:
– Латинянин глуп и труслив. Вы же видите, что он труслив. Он никому не посмеет жаловаться. Он азимит. Он трусливый и грязный пёс. Он спешит в город городов христианский Константинополь. Наверное, он хочет что-нибудь там украсть, может даже святые мощи из большого храма. Латиняне стоят под Константинополем, они, наверное, хотят разграбить город городов. Латиняне везде воруют и грабят. У них никогда не получается как-то иначе.
– А может, так хотел Бог? – осторожно заметил кто-то из матросов. – Может, Господу было угодно отдать город городов латинянам? Помнишь, Конопатчик, толстый каменный столп в Константинополе на площади Тавра? Там внутри столба была лесенка, а снаружи много вещих надписей на всех языках. Так вот, там была и такая. «С запада придёт народ с коротко остриженными волосами, в железных кольчугах, и завоюет Константинополь».
Опустив глаза, Ганелон смиренно слушал матросов.
Он не показывал им, что понимает их речь. Он радовался, что они не знают того, что он прекрасно понимает их речь. Это не только радовало его, но и давало некое преимущество.
Узкий милосердник Ганелона тускло и злобно посверкивал в жилистых руках Калафата.
– Больше азимит не будет сидеть с нами за одним столом, – окончательно решил Калафат. – Начиная с этого дня он будет, как все мы, тщательно мыть палубу и посуду.
– Но он заплатил Алипию, – тревожно возразил кто-то. – Он заплатил Алипию настоящими деньгами. Он получил право проезда до города городов, а ты пристаёшь к нему. Ты отнял у него кинжал!
Свет небес, дева Мария! – молил про себя Ганелон, смиренно опуская глаза. Он боялся, что блеск его глаз испугает грифонов. Помоги мне, слаб я. Прошёл через многие испытания, много страдал, всеми оставлен. Неужели из страданий моих не произрастёт надежда? Помоги мне. Много раз прошу, помоги. Моя надежда сейчас так слаба, что её, как нежный росток, можно убить дыханием. Помоги мне! Дай мне силу найти Амансульту и спасти её несчастную душу. Дай не упасть, дай не сбиться с истинного пути только потому, что некоторые грязные грифоны плюют на мою пищу.
Калафат, злобно засмеявшись, кончиком милосердника сбросил со стола осквернённую его слюной чашку Ганелона.
Иисусе сладчайший!
Грязный грифон, отступник от веры истинной, смеётся над моей верой. Он смеётся над пищей моей и над питьём моим. Он хуже сарацина. У него злобные глаза, полные глупости и непонимания. Святая дева Мария, не дай мне впасть в гнев. Если этот грифон захочет меня ударить...
Святая дева Мария оберегала Ганелона. Матрос-грек Калафат по кличке Конопатчик не решился поднять на него руку.
Мелко крестясь, как всегда, что-то негромко приборматывая про себя, по лесенке спустился грузный Алипий.
Длинный багровый нос Алипия хищно поворачивался, он будто издали обнюхивал матросов. Левой рукой Алипий придерживал полы своего шёлкового халата.
– Почему у тебя в руках кинжал, Калафат?
– Мне подарил его азимит.
– Подарил? – Алипий внимательно глянул в наглые, чёрные, как маслины, глаза Конопатчика. – Даже не думай, Калафат, я всё вижу. Я, например, вижу, что азимит тебе не по душе. Но «Глория», и её груз, и её команда – это всё принадлежит мне, а, значит, Калафат, ты сам принадлежишь мне. Ты дал клятву верно служить мне, и я давал клятву следить за тем, чтобы ты мог выполнять свою работу. А ещё, Калафат, я клялся на Евангелии, что мой пассажир в пути не будет терпеть никакой нужды. Смирись, Калафат, иначе в Константинополе я тебя выгоню.
Алипий говорит громко, значит, он не совсем уверен в своих матросах, отметил про себя Ганелон. Алипий явно не хочет идти на открытую ссору с матросами.
– В городе городов стоят латиняне, они могут выгнать даже тебя, – злобно огрызнулся Конопатчик и греки-матросы вдруг закивали, как бы высказывая некоторую поддержку чувствам своего товарища. – Подлые латиняне жгут и грабят Константинополь. Мы решили, Алипий, что не хотим отныне сидеть за одним столом с латинянином.
– Мы? – удивился Алипий.
– Именно так, – злобно подтвердил Конпатчик и вдруг схватив руку Ганелона высоко поднял её над столом:
– Ты сам посмотри, Алипий? У латинянина сильные руки. Выглядит он, как забитая крыса, но руки у него сильные. Он вполне может мыть палубу и черпать ведром забортную воду. Почему он не работает, как мы? Почему он бесцельно проводит время сидя под мачтой?
– Потому, Калафат, что вам плачу я, он платит мне. И хорошо платит. Ты, Калафат, должен почувствовать разницу. Если мой пассажир в Константинополе пожалуется властям, у меня могут отобрать «Глорию».
Матросы зароптали.
– Этот азимит труслив, он не будет жаловаться, – подло рассмеялся Конопатчик. Он чувствовал поддержку команды, да и раньше не боялся Алипия. – С нынешнего дня, Алипий, латинянин будет работать на судне, как все мы, а питаться отдельно. И пусть он спит где-нибудь на носу, – Конопатчик нагло рассмеялся, глядя прямо в глаза Алипию. – На носу его будут обдувать ветры и мы не будем слышать его грязного запаха.
– Но как ты его заставишь? – осторожно спросил Алипий, плотнее запахивая халат.
– Я дам ему в руки кожаное ведро и губку.
Матросы одобрительно закивали.
Верую, смиренно повторил про себя Ганелон.
Верую.
Укрепи, Господи!
Эти люди темны, смиренно сказал он про себя, они ослеплены своими обидами, дай мне силу развеять из заблуждения. Брат Одо много раз говорил: тебя будут предавать, Ганелон. Господи, ты же видишь, как часто меня предают! Брат Одо много раз говорил: ты увидишь странные вещи, Ганелон. Господи, я видел очень странные вещи, укрепи мои силы. Ты, который был распят, и умер, и воскрес, и, взошедши на небеса, сидишь одесную Бога.
Ганелон сидел за столом, смиренно опустив взгляд на опозоренную плевками чашку, валяющуюся на полу под ногами греков.
– Латинянину будет трудно понять вас. Вы же видите, он ничего не понимает, – сказал Алипий, искоса глянув на Ганелона.
И хищно повёл длинным багровым носом:
– Он ничего не поймёт, если ты даже ударишь его, Калафат.
– Ну так ты скажи ему! Ты ведь знаешь язык поганых латинян. Скажи ему, Алипий, где латинянин отныне будет спать, где будет питаться и какую работу мы дадим ему.
– Скажи! Скажи ему! – угрожающе зароптали матросы, учуяв колебания Алипия.
– У твоего пассажира дурной глаз, Алипий, ты разве не видишь этого? Он взошёл на борт и у нас сразу протухла солонина, – Конопатчик ударил волосатым кулаком по столу. – Я видел этого латинянина на острове Корфу, когда стоял с кормщиком Хразасом на берегу. Кормщик Хразос предлагал мне пойти с ним на Кипр, но я уже договорился с тобой, Алипий. Я всегда служу честно и именно тому, с кем договорился. Мы с Хразосом случайно увидели лодку, которая шла к берегу, а чуть ниже нас на берегу сидел на камне этот латинянин и тоже смотрел на приближающуюся лодку. Я сказал кормщику: «Хразос, я знаю этого человека в лодке. Он бедный христианин и торгует горшками, которые лепит и обжигает сам». А Хразос возразил: «Я его тоже знаю. Он христианин, это верно. Но я знаю, что он нечестен в торговле. У него плохой товар и он всегда берёт дорого». Лучше бы он побил свои горшки, добавил к своим словам кормщик Хразос, а этот латинянин внизу услышал нас.
– Но он же не понимает по-гречески, – удивился Алипий.
– Ну и что? – пожал плечами Конопатчик. – Он латинянин. Ему и понимать ничего не надо. Он всё чует, как пёс. Он только говорить не может. Услышав наши слова, он стал смотреть на лодочника и даже поднял руку. А лодочник, – чёрные влажные глаза Калафата суеверно расширились, – а лодочник вдруг вскочил, страшно закричал и стал бить веслом по собственным горшкам. На наших глазах лодочник расколотил все горшки до одного. А потом я узнал, что лодочник, плывя мимо нас, внезапно увидел на дне своей лодки короткого змея кровавого цвета и с огненным гребнем на голове. Понятно, лодочник попытался убить змея и расколотил веслом все горшки.








