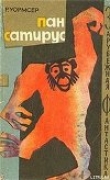Текст книги "Сайонара, Гангстеры"
Автор книги: Гэнъитиро Такахаси
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
У меня не было никакого представления и о том, какую плату брать с учеников «Поэтической Школы». И каким образом ученики должны делать взносы за обучение. Иногда все, что я получаю, – это мороженое.
Случай с этим мальчиком был и вовсе дремучим. Все, чем я был способен ему помочь, не стоило больше порции мороженого.
Мальчик водрузил на стол тяжелую связку книг. Здесь был «Астрономический альманах», «Подробный перечень постоянных звезд», «Снимки звезд двухсотдюймовым телескопом Маунт-Паломарской обсерватории», «Львы Марса» Урсулы Ле Гуин, пачка «Обследуемых форм солнечных пятен» и «Метеоры Леониды» Ромена Роллана. Последняя книга была, очевидно, куплена по ошибке.
– Я хочу написать поэму.
– Видимо, посвященную наблюдению за звездами?
Парень выпучил глаза. Я сразу угодил в цель.
– Господин Учитель, вы что – телепат?
– Конечно.
Мне польстило столь высокое мнение о моих способностях.
– Хотите мороженого? – спросил мальчик.
– Само собой.
Парень по пути купил два мороженых – одно для себя, другое для меня. Ванильное и шоколадное. Я отдал предпочтение шоколаду.
– Только дело в том, что я не знаю, как ее написать, – сказал мальчик, лизнув свое ванильное.
– Пиши все, что хочешь, – отозвался я, лизнув шоколадное.
– Но существуют разные формы, типы обращений, так ведь? Например, какой выбрать стиль: разговорный или традиционно литературный, писать белым стихом или регулярным, с рифмой или без, и в какой форме – например, сонет? И при этом не переусердствовать со сравнениями, не так ли, ведь как сказал поэт Ган Танигава: «Мой внутренний Царь Момента мертв». Разве не следует принимать во внимание все это? – спросил ванильный мальчик.
Ох-хо-хо, призадумался я. Тяжелое положение. Ванильный малыш начитался того, что называют поэтикой и литературоведением. Или он не знал, что весь этот хлам следует читать в зрелом возрасте, еще лучше – в старости, когда люди, как правило, уже или ничего не пишут, а только пережевывают, или дописались до того, что уже не придают этой терминологии никакого значения.
– Ладно, давай-ка вот что, – начал я. – Все, что ты считаешь стихом, – стихом и является. Даже если другим нечто представляется стихом, это не стих, если ты это стихом не считаешь. Знаешь, кто меня этому научил?
– Нет.
– Марсиане. Они взяли меня на свой базовый корабль и учили меня там.
Ванильный мальчик так и прилип к стулу.
Он впервые встречался с человеком, имевшим тесные контакты третьего рода.
Ванильный мальчик проникся ко мне таким доверием, что даже показал свои записи наблюдений за звездным небом. Он занимался этим делом с трех лет.
– Теперь это все – стихи, – сказал я.
Домой он ушел в восторженном состоянии. А почему бы нет? Парнишка просто узнал, что все, чем он занимался всю свою маленькую жизнь, было стихотворчеством.
Записи наблюдений звездного неба ванильного мальчика выглядели примерно так:
Обследования Млечного Пути, ведущиеся при помощи театрального бинокля:
(1) Средняя скорость Млечного Пути, измеряемая в течение года, – шесть узлов в час.
(2) В период с июня по сентябрь случалось множество дней, когда скорость достигала пяти узлов. Подозреваю влияние дождей.
(3) За февраль, с другой стороны, скорость значительно упала. Было несколько дней, когда Млечный Путь полностью останавливался при наблюдении в бинокль. Видимо, потому, что внешняя поверхность примерзает. И все же, если прикрепить ортоскопическую пятимиллиметровую линзу от очков к моему пятнадцатисантиметровому телескопу-рефлектору, видно, что звезды очень медленно плывут под ледяной коркой.
(4) Как сообщает «Альманах науки», средняя годовая скорость Млечного Пути в 1500 году по западному летоисчислению была равна пяти узлам.
5– Зовут Вергилием, но друзья называют меня Марон, – сказал «Холодильник».
Трехдверный холодильник фирмы «Дженерал моторс» с испарителем стоял передо мной.
Я слушал его рассказ, испытывая чрезвычайное волнение.
Впервые мне довелось беседовать с Вергилием, великим отцом поэтов, и точно так же впервые в жизни я разговаривал с холодильником.
– Не надо дразнить меня нарисованной морковкой, дружище, – продолжал холодильник. – Ты же учитель, в конце концов. Я просто ученик. Улавливаешь?
– Прошу прощения, Вергилий, я просто не знаю, что делать. Достоин ли я такой чести…
– Не дрейфь. Я больше не античный поэт, а лишь один из Старых Парней. Посмотрим правде в глаза быть одним из Старых Парней ровным счетом ничего не значит в поэзии. Ты же не станешь спорить? Да и вообще, отныне я существо обезличенное, ведь я уже не человек. Посмотри, что ты видишь перед собой? Я так мозгую этой морозильной камерой – хотя я всего лишь простой, весьма качественный холодильник.
Я нерешительно размял костяшки пальцев, чтобы снять напряжение. Они раскатисто захрустели.
– Уйму времени я добирался сюда, чертову уйму времени, – сказал Вергилий-«Холодильник».
Когда он попытался сесть в поезд, на его пути встал кондуктор, заявив, что электроаппаратуру провозить запрещено. В такси он не влез, а когда вышел на шоссе, решив отправиться пешком, какой-то сумасброд увязался за ним, пытаясь прибрать к рукам.
– Чудовищно. И что вы сделали?
– «Ах ты бесстыдник! – закричал я. – Отважился прикоснуться пальцем к великому Вергилию!» Едва услышав это, дурачок с воплем припустил без оглядки вдоль шоссе, позабыв про машину.
Первый акт этой драмы разыгрался на вечеринке в доме Вергилия. В тот день он принимал гостей.
– У нас была встреча друзей. Гесиод, Алкей, Анакреонт, Пиндар – все собрались вспомнить старые добрые времена. Было, конечно, и несколько впавших в маразм вроде Эмпедокла, но это не имело значения.
– Эй, Эмпедокл! Давно не виделись, старина!
– Да, сколько воды утекло. А ты кто? Что-то не узнаю.
– Вергилий (глухая тетеря!), я Вергилий, помнишь меня (старый маразматик)?
– Да-да, сто лет не виделись. Так кто ты, говоришь?
– Вергилий, старый твой приятель, Вергилием зовут меня.
– Ну-ну, годы идут, как рекой уносит. А ты кто будешь?
Бедный старый Эмпедокл.
Но с Овидием обстояло еще хуже.
Страшно видеть было, как жестокое время поломало творца «Науки любви». Он превратился в натурального бомжа. Весь в грязи и лохмотьях, а уж запах от него исходил! Представляю, что творилось с его спальней и гардеробом.
– Эй, челаэк! Сюда! Дьявол тебя побери, виночерпий! Лей больше!
– Может, подождем, пока немного просохнешь?
– Ах ты скряга! Прижимистый подонок! Ты хоть понял, с кем говоришь! С Овидием! А ну еще вина! Да неси побольше! О, Небеса, гореть всем этим негодяям в пекле!
– Остынь, что с тобой? Мы пришли сюда развлечься, а не слушать твою брань.
– Да ладно, чего там, малыш. Подумаешь, какая-то шайка поэтов-лежебок и никудышных лентяев-писателей решила устроить небольшой разгул. Ура-а-а! Чертовы пьяницы! Эй! Эй, Эсхил! Какого лешего ты уставился на меня? Ну что ты хочешь мне сказать? Знаешь ведь, что видел я все твои вшивые пьески на сцене, приятель. Парень, это напрасная трата времени. Ты убивал мое драгоценное время, ты его просто душил голыми руками! Отдай мне его теперь, грязный ворюга!
Где Аристофан? Твои комедии полный отсос, понял это? Говорю по буквам: ВЗДОР. Будь у меня выбор между просмотром твоих глупых комедий и путешествием по улицам в бочке с ночными испражнениями, я бы выбрал последнее – намного презабавнее.
– Довольно, Овидий. Если ты не заткнешься, тебе придется удалиться.
Едва я это сказал, крупные слезы покатились по его щекам.
– О, как жестоко! Как чудовищно жестоко! Кто бы подумал, что Марон – единственный из всех – скажет такое! Вся моя жизнь в руинах, все вокруг рассыпается на части… как можешь быть ты столь бессердечен, чтобы угрожать мне подобным образом! Шмыг, шмыг. Видно, мало было изгнать меня из Рима, отнять все состояние, и честь, и славу, и права. Себе решили все заграбастать? Что скажешь на это, а? Почему я, автор «Метаморфоз», единственный был обречен влачить остаток дней изгоем в нищете, дрожа от холода? Почему?
Овидий, мой добрый старый друг, страдал от алкоголизма, навязчивых состояний и несварения желудка. Что я мог сделать для него? Только обнять.
– Послушай, Назон. Хочу, чтобы ты внял моим словам. Ты дорог всем, никто не испытывает к тебе ненависти или презрения. Ты даже не представляешь, как мы тосковали, узнав о твоем изгнании. Мы направили петицию в Сенат, обсуждали твое дело с самим императором Августом Авторские права на «Метаморфозы» закончились, но Пен-клуб удерживает для тебя отчисления за тиражи. И на сей день лишь редкий любитель проявит интерес к тому, что написали все мы, здесь присутствующие, а вот твои «Метаморфозы» все еще растаскивают на цитаты. Да они, чтоб ты знал, переводились на сто тридцать языков и расходились по всему миру, каждый от школьника до вождя племени Навахо читал ее. Все поэты и писатели мира – фактически твои правнуки. И это правда, старина.
Эй вы, все, кто здесь, попробуйте возразить!
– Абсолютно! Ставлю голову! Чтоб мне с места не сойти! – послышались клятвы и заверения со всех сторон, в числе которых были голоса Эсхила, Гесиода и Аристофана.
Овидий же продолжал истекать пьяными слезами.
– Я виноват, друзья. Наговорил вам тут кучу мерзостей. Просто чувство такое, будто тебя оставили за бортом. Знаете, иногда я так одинок.
– Не плачь, Назон! Не надо плакать. Никто на тебя не сердится. Никто не держит зла. Отри свои слезы вот этим платком, займи свое место за столом. Наверное, хочешь выпить? Позволь, я сам тебе поднесу чего-нибудь. Бурбон со льдом, как в старые времена?
– Спасибо, Марон. Вообще-то доктор запретил мне бурбон, но я не так уж строго соблюдаю рекомендации… возможно, один «манхэттен» не повредит. Виски и вермут, если можно.
– Еще бы нельзя, старый черт, для тебя все что угодно, – сказал я, подмигнув Овидию. – Один «манхэттен», виски с вермутом. Будет сделано.
Я пошел выполнять заказ.
Данте и Беатриче расположились на угловом диване, попивая яичный ликер. Данте смотрелся как вылитый буколический старичок, ласково созерцающий внучат, а Беатриче превратилась в чрезвычайно элегантную даму в летах. Они держали друг друга за руки и смотрели глаза в глаза, будто решили больше никогда, ни на миг не разлучаться.
– Ах, Беатриче, дорогая, вы все так же прелестны.
– Слишком явная лесть далеко не заведет, Марон.
– Верно, Марон, – заметил Данте. – Не дальше ее милой головки. И тут же выветрится оттуда.
Мы немного поболтали. Нам было что вспомнить – мы оба прошли круги ада, ведь из всех писателей лишь Вергилий и Данте побывали в преисподней. Правда, теперь мы вспоминали это лишь как увлекательное путешествие.
– Вы были так мужественны тогда, мой дорогой. Это просто чудо.
– Нет, Беатриче, моя дорогая, настоящее чудо – это вы, а я весь до конца был и есть посвящен вам одной.
Престарелая парочка сидела на диванчике, пожирая друг друга глазами, сцепившись руками. Вернее всего было тихо, на цыпочках улизнуть, оставив их наедине.
А там, посреди обеденной залы, Гесиод пытался отогнать Овидия от Эмпедокла. Поэт перешел в атаку.
– Разрази тебя Небеса, ты квелый, замшелый, скисший, трясущийся, ветхий, опутанный паутиной иссохший таракан, почему ты еще не мертв? Ты же прыгнул в Этну. Какого черта ты оттуда выполз?
– А-а, здорово, привет. А ты кто такой, что-то не помню.
– Ты что, потешаешься надо мною? Ладно, сейчас я тебя. Ребята, расступись!
– Перестань, Назон, остановись. Он же старик.
– Здесь все старики. Давно старики. А ну иди сюда, Эмпедокл! Сейчас я затолкаю тебя обратно. Готов?
– А, привет, привет. Мы знакомы?
– Ладно, ладно. Я напомню тебе мое имя, слабоумный. Перед тобой великий Овидий! Ови-дий! А теперь, червь, я прочту строчку из своего шедевра:
Ровно дыханье ветров. Пора предаться покою!
– Понял, доходяга?
Эмпедокл сплюнул на пол, сунул руки в карманы и взорвался пламенной речью:
– Чего ты несешь, пацан? Это строка из «Энеиды». Она принадлежит Вергилию, не тебе. Будь повнимательнее, когда в другой раз займешься плагиатом. Насколько мне известно, во всех твоих «шедеврах» нет ни фразы, достойной этой строки. По правде говоря, думаю, тебе следует быть осмотрительнее, издавая писанину, которая лезет у тебя из-под стила благодаря уйме свободного времени, а тем паче не читать ее вслух. Не стоит ли призадуматься? Этим бы ты только принес миру пользу.
Едва закончив эту речь, Эмпедокл тут же поник и ссутулился, входя в привычную роль слабоумного старикашки.
– А-а, чего-чего? И кто бы это мог быть?
– Пустите меня к нему! Дайте только дотянуться! Гесиод! Молю тебя, дай до него дотянуться! Я убью этого выродка. Клянусь, я сверну шею этому старому глухарю!
– Брось понты кидать, Назон!
– Я певец Понта Эвксинского, сиречь Черного моря, изгнанник вечный…
Когда встреча друзей закончилась, все разошлись кроме Овидия, который был пьян в стельку.
– Назон, вот тебе ложе, проспись.
– Ложе – это лажа. Я могу спать только под кроватью. Скажи мне, что может быть поэтичного в постели? Мое мнение – постель для ленивых поэтов, редко открывающих вежды. Вреднее мебели еще не придумывали.
Мне ли не знать, как обманчив лик спокойного моря,
Стихшие волны?
– Романтично. Как насчет этого, Марон, – мое или тоже из твоего?
– Думаю, твоя строка, Назон.
– В самом деле? Значит, и я сотворил хоть что-то стоящее. Что ж, неплохо, неплохо…
Я накрыл его одеялом. Овидий, поджав ноги и свернувшись клубком, бормотал во сне. На всякий случай я сходил за тазиком и поставил рядом. После чего отправился к себе в спальню.
Обуреваемый вихрем смешанных чувств, я уснул без сновидений.
И когда проснулся на следующее утро, то превратился в холодильник, – завершил свой рассказ Вергилий.
– Клянусь, должно быть, это было настоящее потрясение!
– Да уж. Сначала я принял все это за ночной кошмар или последствия пьянки. Некоторое время я выждал, пока наваждение развеется, однако ничего не происходило. Так я пришел к мысли, что все-таки это не сон, а что-то другое. Второй догадкой было то, что я сошел с ума, и тогда я решил проверить память, зачитав несколько излюбленных строк:
Сверни за угол,
Снова сверни за угол,
Еще раз сверни за угол.
Ты свернул за угол?
Еще раз свернул за угол?
Потом опять свернул за угол?
Не раздражайся!
Это – углы.
Все было в порядке. Значит, я правда превратился в холодильник!
Тогда я оглянулся в поисках провода, который должен был выходить из меня. Не хватало еще вырвать его из розетки неосторожным движением и обречь себя на верную смерть. Однако провода не было. Ух ты, подумал я, значит, я какая-нибудь новая, усовершенствованная модель с внутренним аккумулятором. Выбравшись из кровати, я отправился в гостиную, обсудить метаморфозу с Овидием, который в это время мирно похрапывал под софой.
Восстань, Овидий,
Из вечного сна!
Встань, изнуренный,
Сбросим цепи невежества с наших ног,
Сплотимся, друзья, и вперед!
Пробудимся после сатировой оргии,
Свет Аполлона грядет.
– Захлопни пасть, ты! Даже рифмы в твоих стихах нет, а уж о форме и не говорю! Одни повторы. А где аллитерации, тебя спрашиваю? Эй, я с кем разговариваю? Марон? Марон! Где ты? Принеси рассолу! О боги, голова!
Овидий выполз из-под софы и упал на колени возле моей дверцы.
– Бр-р! Чертова бо-оль! А? Что это? О, Марон, ты друг. Тысяча аригато.
Вцепившись в мою ручку, он рванул дверцу и заглянул внутрь.
– Марон! Эй, хозяин! Да здесь пусто, дружище! Зачем тебе холодильник, если в нем ничего нет? Идея покупки холодильника состоит в том, что он должен быть доверху набит пивом, грейпфрутами и прочими средствами для опохмела! Холодильник держат не для красоты, да будет тебе известно!
– Спасибо за совет, Назон, постараюсь исправиться. Но мне впервые приходится быть холодильником, и я не успел запастись содержимым.
Не веря своим ушам, Овидий похлопал себя по щекам.
О боги! Что за несчастье!
Безумие настигло разум мой!!!
Печень разрушена, селезенка накрылась, желудок предал, зубы крошатся, газету читать без очков не могу, нос насморком одержим, и вот, наконец, и рассудок мой сдался!
Увы мне! Зачем не слушал докторов, зачем не разбавлял вина!
– А теперь, кажется, поздно! Марон! Марон! Отведи меня, пожалуйста, в больницу для умалишенных!
– Назон! Послушай, да это же я! Просто преобразился в холодильник. Ты слышишь меня?
– О, это конец! Определенно конец! Я слышу, как холодильник говорит голосом моего друга. Увы мне и увы!!!
Вернувшись на свое место под софу, Овидий брякнулся лицом в пол и ушел в рыдания, уже не слушая.
И вот, поскольку больше ничего не оставалось, я пришел сюда.
– Если бы я на вашем месте проснулся, ощутив в себе такие перемены, я бы не был так спокоен. Поражаюсь вашему присутствию духа.
– Что бы с тобой ни случилось, какие бы страсти ни овладели душой, надо помнить, что прежде всего ты поэт – остальное не важно. Ведь для поэта он сам – лишь один из героев поэмы.
«Холодильник» подмигнул мне лампочкой.
Попивая прохладное пиво из внутренностей Вергилия, которое он захватил по пути, мы вели задушевный разговор.
– Есть ли какие-нибудь предположения насчет того, что могло привести вас к подобной метаморфозе?
– Никаких. Да и назвать это метаморфозой как-то язык не поворачивается. Я еще понимаю там в лебедя, как в случае с Ледой. Но кто ради того, чтобы соблазнить женщину, станет притворяться холодильником? Юпитер бы точно не пошел на такое.
– Но мы живем в другом веке. Чудеса тоже становятся высокотехнологичными.
– Сомневаюсь в таком случае, что это истинные метаморфозы. Возьмите описанный в литературе случай с парнем, который превратился в гигантское насекомое. Подобный казус может быть объяснен внезапной ретрогрессивной альтерацией…
– Что-что?
– В общем, генетическим атавизмом под влиянием радиоактивного облучения из космоса. Просто он шагнул назад, переступив несколько ветвей эволюции, причем мутировал всего за одну ночь.
А случай с человеком, превратившимся в огромную женскую грудь, объясняется еще проще: гормональное влияние, вызванное выбросом эндокринных желез.
Намного труднее объяснить превращения людей в оборотней и вервольфов, которые происходят в полнолуние. Подобные метаморфозы – конек Овидия, вот я и думал, что он, как эксперт, может дать объяснение моему случаю. Ну что, еще по пивку, почтенный бард?
– Нет, спасибо, Вергилий. Пейте сами.
– Называй меня Мароном. Ну что ж, приступим итак, что могло привести меня к превращению в холодильник?
Я думал.
В голове моей вертелись: «Метаморфозы» Овидия, сам Вергилий и судьбы поэтов в этом мире.
– Марон, не подкинешь ли еще баночку холодненького?
– В чем вопрос! Вот тут у меня еще и сыр, если пожелаешь.
Я стал пить пиво, банку за банкой. Вергилий не отставал.
– Слушай, Марон.
– Что-нибудь пришло на ум, почтенный бард?
– Думаю, этому можно дать психологическое объяснение.
– Вот как? И какое именно? Еще баночку?
– Спасибо. Видишь ли, в моем понимании, ты строгий классик. Тебе просто хочется сохранить все как есть, в замороженном состоянии. Встреча с Овидием пробудила твой внутренний порыв – вот ты и стал холодильником. Что скажешь?
– Что ж, не лишено оснований. Да-да… похоже, все складывается. Впрочем, хочешь встречную гипотезу?
– С удовольствием выслушаю.
– В истинном поэте всегда заложена взрывчатка. Это, как минимум, стремление к преступлению. В том числе против самого себя. А самое совершенное преступление – это создать неподдающееся расшифровке произведение искусства. Холодильник же – просто холодильник, и только. Едва ли найдешь в нем какое-то другое значение. Все же остальные метаморфозы слишком очевидны.
Таким образом, зрелый поэт претворяет весь свой дар в осуществление плана: собственного убийства в запертой комнате. И вот оно – произведение искусства. Полная необъяснимость очевидного. Ну как?
– Великолепно!
Мы продолжали пить.
Вергилий при этом, сколько бы ни выпил, сохранял трезвость мышления и держался на ногах – что и понятно, ведь он был холодильником, а я лишь простым смертным.
– Прости, мне надо отлучиться…
– Зачем?
– Неужели непонятно? А ты не хочешь отлить после стольких банок пива?
– Для этого у меня есть испаритель.
Я так устал, так устал, так тяжко устал, так зверски, так смертельно устал, так космически устал, устал, устал, что больше не мог справляться с усталостью. Вергилий совершил ко мне столь долгий путь, а я даже не мог бороться со сном.
Голова моя постепенно склонялась к столу. Откуда-то издалека долетал голос Вергилия. Я слышал, как он собирает в себя пустые банки.
– Марон, а Марон?
– Да?
– Прости. Больше я ничем не могу тебе помочь.
– Не говори ерунды. С тобой было интересно пообщаться.
– Марон, а Марон, а куда ты теперь?
– А ты сам как думаешь?
– Ты же холодильник, Марон.
– И все?
– Ты поэт, Марон.
– А что делают поэты?
– Пишут стихи.
– Точно. До сих пор я был поэтом для людей. Теперь я стану поэтом для холодильников. Как тебе такой поворот?
– Замечательно, Марон.
Ничего, если я задам тебе один, может быть, бестактный вопрос?
– Валяй.
– Какие ты подберешь рифмы к слову «холодильник»? Они слишком скудны и предсказуемы. Такие слова плохо рифмуются. «Напильник», «собутыльник». Как же ты станешь писать о холодильниках?
– А с чего ты решил, что для холодильников пишут только о холодильниках?
– А о чем же тогда? – сквозь полусон спросил я.
– Сайонара, – долетел до меня голос холодильника.
– Сайонара, – сказал я в ответ.
Сайонара, Вергилий.
Сайонара, Марон.
Сайонара, холодильник.
Засыпая под умиротворяющее гудение великого предка поэтов, рожденного в семидесятом году до нашей эры, я окончательно сомкнул глаза.
И услышал его удалявшиеся по ступеням шаги.