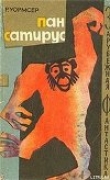Текст книги "Сайонара, Гангстеры"
Автор книги: Гэнъитиро Такахаси
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
«Генрих IV» спит в своей корзинке, поставленной в углу спальни.
Когда мы встретились с Книгой Песен, корзинка с «Генрихом IV» была ее единственным имуществом.
– Знаешь, а ведь «Генрих IV» родился в этой корзине. Всего было шесть котят, но выжил один Генрих. И мать его тоже умерла, – рассказывала Книга Песен. – Поэтому «Генрих IV» считает, что это он виноват в их смерти.
В тот самый раз, когда Книга Песен впервые поцеловала меня, «Генрих IV» выглядывал из своей корзинки, испуганно моргая.
«Генрих IV» – громадный черный котище – пьет коктейль «милк энд водка» и засыпает у наших ног.
III
«Целуй меня»
1Книга Песен снимает с себя все, прежде чем лечь в постель.
Мы, должно быть, спали в этой кровати раз сто, не меньше, но всякий раз я стесняюсь ее наготы.
Всякий раз, как она стягивает с себя платье, трусики и чулки, я чувствую такой стыд, такое ужасное смятение, что могу только спрятаться в кресле и молиться.
Кажется, это унижение никогда не кончится, когда готовая-как-она-должна-быть-готовой Книга Песен начинает меня журить из постели, точно нетерпеливое всемогущее божество:
– Мон шер, – говорит она, – ну что ты там застрял?
Наконец я тоже раздеваюсь.
В это время Книга Песен не сводит с меня влюбленного вожделеющего взора.
– Так люблю смотреть на твое тело, – говорит она.
Не переставая сгорать от стыда, от нестерпимого, как зуд в паху, смущения, от невероятного позора, который вводит меня в состояние полнейшего ступора, я спрашивал у Книги Песен, что, если я приду к ней в постель хотя бы в нижнем белье – изменит ли это что-нибудь?
– Наверное, никакой разницы, но ты ведь все равно раздеваешься, не так ли?
Разоблачаясь, я всякий раз чувствовал себя таким нестерпимо голым, что не находил себе места.
Когда же обнажалась Книга Песен, на ней, казалось, все еще оставалась нижняя юбка.
– Это просто смешно! – восклицала Книга Песен.
– Когда я раздеваюсь, то действительно чувствую самую настоящую наготу, а когда раздеваешься ты, то вовсе не производишь впечатления раздетого, – парировала она в своей аристотелевской манере.
Думать о теле тяжко.
Это тяжело, потому что даже Аристотель обертывался полотенцем. То есть ходил задрапированным.
Груди Книги Песен были точно по размеру моих ладоней, словно идеально подобранные перчатки. И сколько бы раз я ни «примерял» их, сохраняли свою идеальную форму.
– Никаких загадок, пока мы в постели, ладно? – шептала Книга Песен, тянулась ко мне и обвивала своими руками.
Я не мог больше идти у нее на поводу.
В моем понимании постель была местом любовных утех и сна во взаимных объятиях; в перевернутом же состоянии могла служить баррикадой, и больше ничем.
2Книга Песен была необыкновенно нежна, занимаясь любовью.
Так печально ощущать, занимаясь любовью, что ваши тела служат просто механизмами для удовлетворения похоти.
Я чувствовал всю полноту ощущений в постели с Книгой Песен.
Наши ласки были диалогом, и тела откликались на каждый призыв партнера.
Иногда, занимаясь сексом, чувствуешь себя так, будто занимаешься мастурбацией. Унизительное и крайне изматывающее ощущение.
Вот Книга Песен что-то сказала мне на ухо.
Вот она обвила мою шею и потянула к себе.
Ложбинка на ее шее прямо перед моими глазами.
Я чувствовал себя точно пятидесятисемилетняя девственница из Индии после длительной голодовки.
Тело Книги Песен медленно изогнулось, как лук, без всяких усилий вздымая мою плоть.
– Войди в меня, – позвала Книга Песен.
3Я спал и видел странный сон.
Сто тысяч зрителей встали на трибунах стадиона, взявшись за плечи и качаясь, точно распевали хором «Мой старый дом в Кентукки». Я скакал четырнадцатым, последним участником гонки.
Разгоняясь пулей на дистанции.
Впереди шел Кентуккийский Херес, которого Алиса Ричардс послала на дорожку с напутствием: «Если сдохнешь – сдохни лидером!» Третьим номером мчался мой соперник номер один, Форвард.
Это происходило 4 мая 1968 года, на Черчилл-Даунс в Луисвилле, и я был Образом Танцора, начавшим девятым и теперь проносившимся последний отрезок дистанции. Мое время – 24.14, а до финиша оставалась четверть мили.
Я не отрывал глаз от Форварда.
Смело могу утверждать, что собирался победить в этой гонке.
Когда мы зашли на дальний поворот и ускорились на последнем отрезке к финишу, копыта лошадей, прежде чем мы начали сбиваться с ритма, словно стали вязнуть в воздухе, когда я рванул вперед с внезапным импульсом энергии.
Сверкающий Меч, Адмиральский Катер, Дон Б. (видимо, в честь Доналда Бартелми), Время Джиги, Телереклама… я обходил скакунов одного за другим.
Кентуккийский Херес остался позади, и я нагонял лидера – Форварда.
Я конь в Кентуккийском дерби!
Восьмая часть мили до финишной черты!
Невероятное видение встало перед моими глазами.
Вдруг, совершенно внезапно, Несомневающийся, Ласточка и Парень-Янки шли бок о бок, ноздря в ноздрю, собравшись впереди препятствием, неодолимым барьером на пути.
Это было 18 мая на гоночном треке в Пимлико, и я прямиком следовал в поставленный ими капкан.
Я видел Форварда, галопирующего впереди, по другую сторону воздвигнутого барьера идущих ноздря в ноздрю трех лошадей, хотя, конечно, мне уже приходилось обходить его прежде.
– Прочь с дороги! – заржал я.
Три чистокровных скакуна вертелись, крутились, скакали, ржали и путались под ногами, делая все возможное и невозможное, чтобы помешать мне прорваться к финишу.
– Я вас на части порву, уроды! – вопил мой гангстер-жокей.
– О нет, я не смо… – Голос у меня перехватило.
– Р-рр-разорву!
У меня за спиной загрохотал гангстерский автомат.
Перескочив продырявленные крупы трех породистых скакунов, я вихрем рванул вперед, нагоняя Форварда, смятенно взвившегося на дыбы.
Я выжимал все силы, устремившись к финишу: гнал и гнал по долгой, растянувшейся беговой дорожке.
Но, даже изо всех сил устремляясь вперед, я по-прежнему не видел финишной черты.
4Это было продолжение затянувшегося сна.
Там, во сне, я чувствовал охватившее меня замешательство, поскольку не мог взять в толк, что это за сон во сне, навеянный сном.
Во сне, и это уже всерьез, я просто продолжал упрямо надеяться, что я проснусь, восстану из этого упрямого тупого бреда.
Но теперь, когда сон простер ко мне свои руки, когда потянулся ко мне, когда овладел мной, он просто отказывался оставить меня в покое, преследовал меня, словно рой назойливых репортеров – единственного выжившего после авиакатастрофы.
– Прочь свои грабли! – возопил я.
И еще позволил сну продлиться десяток секунд. После чего, поскольку стало ясно, что так просто от него не отделаться, я от души врезал сну прямо по жизненно важным органам.
– Уххх, – крякнуло сновидение. – Ну ты даешь!
5– Что это было, Книга Песен? Ты что-то сказала?
Прижавшись к моей груди, опутав меня своими волосами, Книга Песен бормотала во сне.
– ГАНГСТЕРЫ… ГАНГСТЕРЫ… – со стоном повторяла она.
После чего наступил краткий перерыв.
Затем причитания возобновились.
– ГАНГСТЕРЫ… ГАНГСТЕРЫ… ГАНГСТЕРЫ…
Книга Песен приходила в дикое состояние, когда у нее случались ночные кошмары.
– Все в порядке, ГАНГСТЕРЫ не приходили, – заверил я ее.
Я прошептал ей это на ушко самым нежным голосом, деликатно проникая в ее сон.
– Все хорошо, я рядом, – продолжал нашептывать я. – ГАНГСТЕРЫ не придут за тобой, не заберут тебя, что бы ни случилось, пока я с тобой.
И осторожно гладил ее узкую талию, чтобы снять охватившее Книгу Песен напряжение.
Затем тихо-тихо, медленно-медленно рука моя переползла к спине, следуя по ее волнистому позвоночнику, изогнувшемуся в складках постели. Потом все так же вкрадчиво и осторожно ладонь переползла на живот, такой мягкий и податливый, что в нем тонули и вязли пальцы.
Тело Книги Песен утихло.
Не просыпаясь, по-прежнему во сне веки Книги Песен чуть затрепетали, словно пытаясь заверить меня, что теперь и правда все в порядке; и тут она заговорила со мной прямо из сна.
– Целуй меня, – попросила Книга Песен.
Я запечатлел на ней поцелуй.
«Генрих IV» в своей корзинке сонно перекатился на другой бок.
И еле слышно заскулил, точно хворая собака.
– У-у-у.
Или что-то вроде:
– Фф-ф-фу-у-у.
IV
«NПNП»
1Все пишущие беллетристику должны быть готовы к встрече с расстрельной командой
Гласил плакат на двери «Поэтической Школы», где я преподавал.
Знаменитое изречение – сказано коротко и ясно, к тому же совершенно справедливо.
2Мои лозунги были расположены там же, бок о бок, только на стенке в уборной:
Не промахнись мимо очка
Если твой стих ни на кого не произвел впечатления, отнеси его к кузнецу, и пусть он разобьет его молотом вдребезги.
Гораций
Оставалось надеяться, что ученики останутся верны обоим изречениям.
3Я долгое время занимался стихосложением.
Мне было три года от роду, когда я сложил свой первый стих: я зафиксировал его карандашом для бровей в материнском журнале по ведению хозяйства.
Это была ода любимому детскому горшку в виде уточки.
Первая строка идет от вдохновения.
Я схватил карандаш и затрясся от напряжения.
Тогда я еще оставался в полном неведении, что поэты-классики считали: всякий стих должен начинаться с обращения к Творцу или, на худой конец, к великосветскому покровителю. Также я совершенно игнорировал опровержение так называемого «принципа Д'Аламбера», выдвинутое Валери: «Суров закон, который век наш возлагает на поэтов: признается хорошим в стихе то, что может быть найдено великолепным в прозе».
Я был трехгодовалым ребенком, которому родители терпеливо меняли памперсы, надеясь, что чадо перестанет «делать в кровать», пока не махнули рукой на это бесперспективное занятие.
Зарываясь в гущу чисел, готовых разлететься по сторонам от потока поэтической энергии, я начертал в материнском журнале исполинскими литерами:
NПNП
В этот момент явилась мать, застав меня с карандашом в руке и лихорадочным блеском в глазах.
– Что ты пишешь, олух?! – возопила она, словно оскорбленная моим невежеством. – Разве нельзя было позвать меня, если тебе приспичило на горшок? Зачем писать шиворот-навыворот?
– Мама, я не хотел на горшок, я хотел сочинить ему оду.
NПNПАКАК
– Так ты п и сать захотел? – поинтересовалась мама. – Или что другое?
– Мама, я не хотел п и сать, я хотел пис а ть.
4Так я продолжал еще долгое время заниматься литературным творчеством.
По достижении семнадцати я уже твердо усвоил, что являюсь поэтом.
Именно «коридор» навел меня на эту мысль.
5Мы были выставлены с одноклассником в коридор.
Над нами навис учитель истории.
– Итак, – начал он, сперва обращаясь ко мне, – значит, ты уверен, что человека, открывшего Америку в 1492 году, звали Хаггис?
– Нет, – искренне ответил я, – не уверен. Наверное, я ошибся. Может быть, его звали Марлон Брандо?
– Останешься здесь еще на час стоять в коридоре, – посулил учитель.
Затем он перешел к моему собрату по несчастью.
– А ты, значит, считаешь, что драма Шекспира, написанная в 1598-м и посвященная королеве Елизавете, называется «Эммануэль»?
– Хммм, – засомневался мой одноклассник, уже не так уверенный в своей правоте.
Кажется, и его посетили некоторые сомнения. Ведь на самом деле есть вопросы, на которые просто невозможно ответить экспромтом. Некоторое время он простоял, задумчиво скрестив руки на груди и опустив голову – в позе мыслителя, видимо соображая, как это еще может называться. Внезапно лицо его озарила молниеносная догадка – и он прошептал что-то в склонившееся ухо наставника.
– Останешься здесь до утра! – было обещано ему.
Таким образом несколько драгоценных лет юности этот парень простоял в школьном коридоре, в углу.
Точно еврей, нашедший наконец землю обетованную, он так и не тронулся с облюбованного участка.
Застал я его там и выходя с выпускного вечера. Мимо шла толпа учеников и учителей, а он приветливо махал нам из своего угла.
– А я все тут, все тут!
Мне было тяжело покинуть его в одиночестве, коллегу по мытарствам.
– Что ты! – возразил мне парень в ответ на сочувствие. – Ведь я нашел свою точку отсчета. Поверь, в этом нет ничего дурного – торчать всю жизнь на одном месте. Знаешь… хочу с тобой кое-чем поделиться. Эта точка отсчета – она же и сделала тебя поэтом. Так что соображай сам.
Что было сил я устремил на него взгляд, полный надежды и непонимания.
Но его уже было практически невозможно отличить от коридора: он слился с ним, со стеной, с тем местом, на котором простоял все детство и юность, – он сам стал тенью того угла, в котором поселился навечно.
– Думаешь, я получил то, без чего нельзя быть поэтом? – спросил я.
Ни звука в ответ: лишь чуть слышно скрипнули башмаки из тени. Уже и голос его исчез? Растворился, проглоченный углом?
«Помни, что есть разные коридоры!» – прозвучало в моей голове.
Очевидно, что и мои слова уже не долетали до него, утонувшего в пространстве.
«Большинство коридоров прямы, но сворачивают они всегда под правильным углом.
Когда идешь по коридору, двигаясь в нужную сторону, люди могут сказать, что ты идешь по потолку. Следовательно, потолок также является коридором. И, видимо, если ботинки скрипят – значит, ты идешь по потолку».
Я попрощался и двинулся дальше по поскрипывающему коридору.
Так я понял, что стал поэтом.
6За долгие годы я написал множество стихов.
Однако у них было совсем немного ценителей. Точнее сказать, просто вопиюще мало. И не только ценителей, но и вообще: почитателей, обожателей, слушателей.
К тому времени, как я достиг двадцатилетнего возраста, мои произведения имели всего трех ценителей.
Первым был, безусловно, я сам.
Я с неослабевающим вниманием следил за своим творчеством, за всем новым, что появлялось у меня из-под пера. И я неизменно сопровождал каждую новинку хвалебно-критическим отзывом Это было очередное письмо от восхищенного поклонника.
Продолжайте в том же духе, творите. Не позволяйте себе расслабиться. Не бросайте работы и не обращайте внимания на злопыхателей, уверен, Ваш путь ведет к вечной гармонии. У Вас великое будущее, готов поклясться.
Тот же Изидор Дюкасс, известный под именем мятежного Лотреамона, при жизни имел всего одного читателя своих произведений и, несмотря на это, всегда был дерзновен как Том Сойер.
За всю историю литературы шестьдесят процентов поэтов имели единственного читателя, а между тем существует великое множество поэтов, которые были настолько отравлены ядом творчества, что и вовсе не помышляли о том, что их когда-нибудь прочитают. Так что не берите в голову, что у Вас так немного почитателей. Вот разве что не сочтите за труд уточнить, что именно в Вашем последнем шедевре подразумевается под словом «презерватив»? Не является ли это очередной метафорой «отчужденного секса»? На Ваш взгляд, не слишком ли очевидная фигура речи?
Смею надеяться, все идет как надо.
Искренне Ваш Читатель
Вторым читателем была моя мать.
Всякий раз, как я выдавал очередной шедевр, отправляя его почтой, взамен получал конверт с денежным переводом.
Видимо, это был своеобразный гонорар.
Третьим читателем был человек, называвший себя поэтом. Он всегда говорил, что поэты не должны читать ничего написанного собственноручно.
Поэтому мы по обоюдному согласию читали творения друг друга.
Немало времени я провел, продираясь сквозь его строки. Но, несмотря на все мои усилия, мне так и не удалось понять, как можно уловить смысл этих творений.
– Они не поддаются простому прочтению, мои стихи надо изучать глубоко, – вразумлял меня мой ценитель.
В чем я сильно сомневался. Мне казалось, что даже если я потрачу на изучение его поэм всю жизнь, то мало чего добьюсь.
Его стихи словно были зашифрованы каким-то неведомым кодом, который могла использовать колония муравьев, облученных смертельной дозой радиации и потерявших способность к самовоспроизведению. Его стихи не были похожи ни на что, с чем приходилось встречаться прежде.
– Это же не с той стороны! – всегда говорил он, едва я приступал к чтению его «поэм».
Первое, с чем я сталкивался: там было пять кружков и пять косых крестиков. Непременно на всяком листке бумаги, вручаемом мне. И больше ничего. Я разглядывал их, и все, что приходило в голову, – это перемешанные игроки двух команд, занявшие какую-то тактическую позицию на поле. Какая из команд должна победить, оставалось неизвестным.
– Э-э, опять не оттуда, – включался он уже голосом, полным тоски.
Перевернув бумагу, я начинал сызнова.
На другой стороне листа вытягивалась зеленая гусеница, приклеенная липкой лентой. Гусеница неистово извивалась и семенила своими бесчисленными ножками, подвывая и давясь слезами, словно дожидаясь, что ее вот-вот растопчут, чтобы прозвучала «поэма».
Всякий раз, как он видел мои попытки прочесть его стихи, то ли слева направо, то ли сверху вниз, то ли переворачивая бумагу другой стороной или сворачивая трубочкой, то ли проковыривая в ней пальцем дыру и пытаясь прочесть сквозь отверстие, или складывая бумажный самолетик и отправляя его в воздух, на лице его отражалось разочарование и отчаяние.
Поскольку этот человек был не только автором собственных «поэм», но еще и одним из немногих почитателей моего таланта, я всегда прилагал все усилия, чтобы хоть как-то порадовать его.
Причем задавать ему вопросы тоже было совершенно бесполезно.
Как-то я сдуру ляпнул:
– Так в чем же тут смысл?
На листке, переданном им в ответ, было следующее:
Гитлер был настолько поражен «Унесенными ветром», что распаковал свою коллекцию ношеного материнского белья, раскидав по кровати, и заснул поверх его, напевая: «Где же ты, где, звездочка малая…»
Видя, что его «поэма» написана какими-то невероятными словами, я возбуждался и несколько даже переполнялся эмоциями.
Конечно же, не следовало обращаться со столь нелепым вопросом.
Он вырвал у меня бумагу, скомкал и проглотил. Потом отвернулся и пошел прочь быстрыми шагами.
– Эй! Эй, погоди! – кричал я ему вослед.
Однако он не оборачивался. Остановился он только в «Кентуккийских жареных цыплятах», где уселся у манекена полковника Сандерса, так же протягивая перед собой руки.
Таким образом они вместе с полковником Сандерсом проповедовали «Евангелие жареных цыплят» прохожим за витриной.
– Вернись, вернись! – заклинал я его из-за стекла. – Я же сказал, что извиняюсь!
– Сынок, весь смысл в том, что у нас двадцать семь различных приправ! – отечески откликался полковник Сандерс вместо моего коллеги, погруженного в угрюмое молчание.
7С моих принесенных стихов он не сводил пустого двух-трехсекундного взора, после чего внимательно обнюхивал бумагу, облизывал каждый лист и просматривал на свет, направляя на солнце, а затем неизменно спрашивал:
– Это часть поэмы?
– Да, – вынужденно откликался я.
– Простовато, не правда ли? – уточнял он.
Мои стихи были простоваты.
Они были, есть и будут простоватыми.
Так же как их автор.
8Много воды утекло с тех пор, и случилось все, что только может произойти с человеком, пока я не вступил в «Поэтическую Школу» – и произошло это как раз тогда, когда я встретил Книгу Песен.
Множество всяческих вещей и событий без устали сменяли друг друга.
Да мало ли что могло случиться за столь долгий срок.
Первые три года я работал на одном знаменитом автомобильном заводе.
На этой фабрике машин меня наградили обширным ожогом правого локтя, оставшимся рубцом на всю жизнь.
Я размышлял о том, как 23 августа 1891 года больной Рембо с ампутированной ногой возвращался в Марсель, и сам по рассеянности налег локтем на отливку корпуса двигателя, раскаленную до восьмиста пятидесяти градусов по Фаренгейту.
Следующие три года я провел на знаменитом сталелитейном комбинате.
На этот раз сложилось совсем по-другому: я оставил фабрике в подарок мизинец правой ноги.
Я стоял на своем рабочем месте у двадцатитонного молота, падавшего каждые тринадцать секунд и сплющивавшего куски чугуна, и бормотал слова очередной поэмы:
– Ешь ананасы, рябчиков жуй,
Срок твой приходит, Сталин-буржуй!
Не совсем уверен, что Маяковский написал именно это. А может, автором был и сам Сталин – я сообразить не успел, так как именно в этот момент механическая кувалда откусила мне палец вместе с подталкиваемой болванкой.
Последние три года я провел на знаменитом домостроительном комбинате. И на сей раз дал себе зарок никогда не думать о поэзии на работе.
Что не помогло мне уклониться от падающей восемнадцатифунтовой балки.
Я вышел из всех этих передряг с отметиной в виде жуткого шрама на правом предплечье, без мизинца на правой ноге и с пожизненной хромотой, но все же остался поэтом.
9Исполинская лента конвейера проплывала сквозь гигантское помещение фабрики автомобилей.
Эти конвейерные линии, разносившие по цеху разнообразные детали, мы называли «строками» или же «линиями».
Одна строка переносила крошево руды, которой было предначертано отлиться в четырехцилиндровые корпуса двигателей.
Другая перевозила шасси.
Следующая – оси.
Еще одна – дворники для стекол.
По следующей струились тахометры.
Еще по одной шли диски и колпаки.
Очередная на высокой скорости перевозила «строку» с плакатами по технике безопасности, напоминавшими о том, что раз в четыре месяца механизм конвейера следует смазывать, а еще одна «строка» извещала, что гайки на раме ветрового стекла должны быть завернуты на четыре оборота непременно против часовой стрелки.
Одна из «строк» пырнула меня под ребра, когда я присел, чтобы проверить «строку», тянувшую «строку», в свою очередь тащившую «строку», волочившую еще одну «строку», о предназначении которой я догадывался с трудом.
Уверен, что Гераклит, сказавший «все течет», работал на той же фабрике.
Мимо неслись плакаты, инструкции, лозунги, предупреждения…
С трудом воспринимаемое и едва ли имеющее какой-то смысл, все это просто проплывало мимо.
– Вы просто идете —
Проходите мимо.
Откуда вы, вещи, пришли
И куда собрались?
Куда устремились,
Бессмысленные предметы? —
спросил я, но семьдесят два типа автомобиля с крытым верхом двадцати четырех цветов и члены Палаты представителей цехкома, а также восемнадцать вариантов установки меню и шестьдесят четыре различных уровня зарплаты, основанных на тарифной сетке и выполнении плана, просто продолжали струиться.
– Теки, строка!
Мотайся, лента!
Пусть ты угробишь президента
Конец надеждам всем придет,
А ты струиться будешь.
Вот!