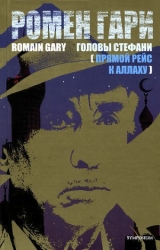
Текст книги "Головы Стефани (Прямой рейс к Аллаху)"
Автор книги: Гари Ромен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
24
Когда она пришла в себя, «лендровер» уже подъезжал к соляной пустыне. Сбоку от нее насвистывал Харкисс. Ночь сияла во всем своем великолепии – песок, скалы, бело-голубые пятна света, которые наводили на мысль о льде, окаменевших водах и зеркалах.
Соляная пустыня, казалось, состояла из лунного вещества, и «лендровер» мчался по этому паковому льду без шума и без толчков…
– Не бросайте на меня убийственные взгляды, мисс Хедрикс, – попросил Харкисс. – У меня нет ни малейших сомнений в том, какие чувства вы ко мне испытываете. Эти молодые люди, как вы сами слышали, намеревались припрятать ваши свидетельские показания… Они обвиняли незнамо кого незнамо в какой провокации незнамо с какой целью… Так что пришлось их устранить. Этого требовала ситуация. А как я вам уже говорил, все определяет ситуация… Это прагматизм…
Он достал из кармана магнитофонную кассету и посмотрел на нее.
– Предмет большой ценности, мисс Хедрикс. Ваши показания – замечу мимоходом, что говорили вы на редкость ясно и точно, с чем я вас и поздравляю, – это бесценное сокровище. Если бы нам пришло в голову продать эту пленку тому, кто больше даст, – разумеется, это просто гипотеза, – полковник Каддафи выложил бы миллион долларов за это доказательство беспримерной низости материалистического режима Хаддана, да и само правительство Хаддана дало бы за нее хорошую цену… Не говоря уже об Ираке, Саудовской Аравии, Иране… Уникальный шанс для двух идеалистов, уставших от беготни и вполне заслуживших немного покоя после тяжких трудов на благо свободы и демократии…
Откинув голову назад, он, казалось, обращался к звездам.
«Лендровер» остановился.
– Здесь наши пути расходятся, мисс Хедрикс. Так что мы вас оставляем. Выходите из машины. Сюда приходят за солью караваны. Один из них обнаружит вас… вне всякого сомнения.
Она вышла.
В своих заявлениях, сделанных после возвращения в Нью-Йорк, Стефани умолчала о том, что она назовет позднее «своими последними мгновеньями», потому что ей и самой случалось сомневаться в их реальности. Пытаясь воссоздать эти нескончаемые секунды, которые казались схваченными и остановленными в измерении совсем ином, нежели собственно измерение времени, она вспоминала главным образом ощущение необычности и странное отсутствие себя самой. «Не знаю, в чем тут дело, в моей ли профессии, в привычке, что выработалась у меня с пятнадцати лет – часами и даже целыми днями разгуливать среди бредовых декораций, рожденных воображением великих фотографов, или же мне на помощь пришел мой инстинкт самосохранения, чтобы не дать заорать от ужаса и сойти с ума… Но внезапно мне в голову закралась мысль – я отчетливо ее помню, потому что это была единственная связная мысль, которой удалось проложить путь к моему сознанию, – что это Бобо устроил всю эту мизансцену и что сейчас все закончится вспышками фотоаппаратов… А затем наступила пустота, абсолютная пустота, та, которую намеренно устраивают в себе, чтобы спастись от страшного, и я поняла, что мне осталось жить лишь несколько секунд, потому что у этих людей есть мои показания, записанные на пленку, и я им больше не нужна, я свидетель совершенных ими убийств, которого ни в коем случае нельзя оставить в живых». «Этого требует ситуация. Поскольку все определяет ситуация… Это прагматизм…» Ей, наверное, никогда уже не забыть насмешливый голос, который вот так провозглашал свое кредо: в мире нет ничего святого…
Она вылезла из «лендровера», сделала несколько шагов по твердой и теплой почве, а затем повернулась лицом к пулемету, потому что ей не хотелось умирать, стоя к нему спиной. В течение долгих месяцев почти каждую ночь, а порой и среди бела дня она без конца будет заново переживать эти секунды, и ей даже будет казаться, что она находит в этом удовольствие, потому что они придают жизни особую яркость и остроту. Но журналистам она тогда сказала только: «Да, разумеется, я ждала, что меня убьют…» А затем, вернувшись домой, заперев двери на двойной оборот ключа и растянувшись на постели, она будет тщетно убеждать себя, что она действительно здесь, в своем пентхаузе на Манхеттене, а не там, – и ей все будет казаться, что здесь какой-то другой человек, а настоящая Стефани лежит, прошитая пулями, в голубой пустыне. Ей будет так отчетливо представляться, как та лежит, свернувшись клубком в рассыпчатой соли, в своем грубом шерстяном одеянии, опоясанном узким ремнем, и рыжая прядка прячется во впадинке на плече, точно пушистый зверек, разделивший ее судьбу, что она будет рыдать, охваченная жалостью и нежностью к этой бедной девушке, которую когда-то так хорошо знала… Собственно, она переживала «запоздалый шок», как сказал ее врач. Ну а пока она испытывала одно чувство – будто она очень медленно плывет в каком-то затонувшем голубом мире, как бы попав в гигантскую сверкающую паутину неба, которое удерживает ее в своем сиянии. Соляная пустыня с ее полярной белизной и мертвой деревней, ее улочками и хрустальными стенами вызывала в памяти сухой лед, рассыпанный на пластиковых елях в студиях на Мэдисон-авеню, где, одетая в меха, она позировала в декорациях Крайнего Севера. Нервное истощение, из-за которого в ней уже почти не осталось жизни и сознания, чтобы бояться, сделало ее «последние мгновенья» совершенно ирреальными, и внезапно она очень отчетливо услышала голос Бобо, который шептал: «Выставь вперед ногу, дорогая. Приподними голову. Ты должна выглядеть величавой, царственной, презрительной… Мессалина! Феодора Византийская! Царица Савская! На лице вызов… Вот так, прекрасно, замри…» Ей казалось, будто она позирует для фотографии своей собственной смерти.
Первая пулеметная очередь не задела ее. Зато оказала неожиданное действие на державшего оружие Харкисса. Его резким рывком подбросило в воздух, раненный в спину водитель хрипло заорал, а «лендровер» сорвался с места и заметался во все стороны, как огромное обезумевшее насекомое…
Из-за рывка машины Харкисса швырнуло на пулемет, он рухнул на него и остался лежать, как будто его пришпилили, недвижимый и нелепый… Раненный в спину водитель не сдавался и давил на газ, тем самым сообщая машине судороги собственной агонии, казалось, этими беспорядочными, паническими рывками он пытается вытряхнуть из себя пули… «Это было необыкновенное зрелище», напишет позже Стефани, а затем, не без сожаления, зачеркнет эту фразу, щадя чувства читателя. Хотя попросивший ее написать «отчет» Хендерсон и велел изложить на бумаге все, что она чувствовала, ей показалось, что «необыкновенное зрелище» – не совсем подходящие слова для описания мучительной агонии. Она неподвижно стояла в круге света, где продолжал свою безумную пляску «лендровер»: он то кружился на месте, то бросался вперед, затем резко поворачивал – им управляли конвульсии его водителя, которого еще несколько мгновений будут звать Раулем, и который пытался сейчас сбросить с плеч обнявшую его смерть…
Харкисс так и остался пришпиленным к заднему пулемету, вероятно, он зацепился за него поясным ремнем, его безжизненные руки болтались, как у марионетки, будто он дирижировал невидимым оркестром. Голова и шея легли поверх ствола – и порой он, видимо, нажимал своей тяжестью на курок, от чего пулемет каждый раз посылал очередь ему под подбородок. «Результат был в высшей степени поучительным, – писала Стефани, – потому что каждый раз казалось, будто Харкисс одобрительно кивает головой, чтобы подтвердить, что в общем-то заслужил такую участь… Он был убит наповал – его прошило еще первой очередью; его спутник агонизировал за рулем, и казалось, что последние остатки его жизни вобрал в себя „лендровер“. Машина отбивалась– другого слова тут не подобрать – корчась от боли, бросаясь во все стороны, пытаясь вырваться из когтей смерти, которая устроилась у нее на спине… Мне показалось, что машина сейчас перевернется и засучит лапками, как подыхающее насекомое. Но в этот же момент я начала оживать, думать, бояться… Когда раздались, а затем смолкли две первые короткие и яростные пулеметные очереди, когда „лендровер“ вздыбился и проскочил рядом со мной, близко-близко, то моим первым осознанным движением было оглядеться, посмотреть себе под ноги на сверкающую белизной почву, где каждая крупинка соли упивалась небесным светом, и поискать там… да, именно так, и мне ничего с этим не поделать: я искала свое собственное тело, место, куда оно упало. Я, конечно, была уверена, что стрелял Харкисс и стрелял в меня. Возможно, так и выглядит смерть: после внезапного физического исчезновения вашего тела и ваших чувств остается тень сознания… Из небытия меня вернул грохот лишенного жизни „лендровера“, который продолжал на замкнутом соляном пространстве слепую пляску опаленного насекомого…»
И тут она увидела, как из того, что когда-то было деревенской улочкой, выскочил джип, узнала человека за рулем, и все дальнейшее было лишь внутренним хаосом, в котором все терялось в шумном грохоте вновь обретенной жизни…
От ярости Руссо хотелось схватить водителя «лендровера» и обогатить его последние секунды несколькими новыми ощущениями. Умирающие порой ошибочно полагают, что им больше нечего бояться, и его подмывало вывести мерзавца из этого заблуждения…
За всю свою бурную двадцатилетнюю карьеру он еще ни разу не испытывал столь дикой злобы и убийственной ярости. В этом уже не было ничего профессионального: это было… нравственное.Позднее он сказал Стефани, что в тот момент он охотно согласился бы пойти на, как он выразился, высшую жертву, то есть отдать свое жалованье за десять лет со всеми премиями, за возможность объясниться с кем-нибудь из людей Берша с клещами в руках…
Ему не удалось удовлетворить столь естественную потребность. Держа одну руку на курке пулемета, а другую на руле, он медленно кружил вокруг «лендровера», целясь в покрышки, чтобы заставить машину замереть на месте…
Но он быстро убедился, что этот умирающий не из тех, кого близость конца побуждает к смирению. «Лендровер» казался настоящим воплощением животной ненависти и раз за разом непроизвольно, в конвульсиях, наставлял на Руссо свое черное жало… Внезапно вдребезги разлетелось под пулями лобовое стекло джипа. С двадцати метров Руссо отчетливо видел человека, который на девять десятых был уже трупом, но держался за жизнь с помощью этой одной десятой ненависти…
Руссо не был склонен к порывам воображения – они мешают действовать, и поэтому их лучше отложить до старости, когда приятно будет заполнять пустые часы мирной отставки захватывающими воспоминаниями. Но когда новый град пуль застучал по капоту джипа, хотя человек за рулем и выглядел мертвым, у Руссо возникло ощущение, будто бой продолжает сам стальной зверь, вобравший в себя смертельную ярость своего водителя… Руссо затормозил, отпустил руль, встал, подпустил «лендровер» поближе и, тщательно прицелившись в канистры с бензином, нажал на курок.
Машина разом вспыхнула, но не прервала своего бега. То, что за этим последовало, напомнило ему случай из детства: в Луизиане, в bayou [79]79
Название старицы реки на диалекте штата Луизиана.
[Закрыть]гадкие сорванцы облили собаку бензином и подожгли… В течение нескончаемой минуты объятое пламенем животное продолжало вслепую метаться, как живой костер. Руссо испытал мучительный прилив жалости, но он был обращен единственно к собаке из его детства, которая сгорела у него на глазах и которую ему не удалось спасти. Впрочем, муки человека за рулем, исчезнувшего в ярком пламени, тоже пробудили в нем некоторые сожаления: он пожалел, что они длились недостаточно долго… Впечатление как от халтурно выполненной работы.
Внезапно «лендровер» взорвался снопом искр, и стальной остов, с которого языки пламени продолжали слизывать последние следы бензина, застыл, наставив свое жало на Млечный Путь…
Руссо снова уселся за руль и медленно двинулся назад к Стефани.
Теперь тишина удивляла безмятежным покоем. Догоравший «лендровер», казалось, уже занял свое место в незыблемом мире, где отныне его каркасом будут заниматься геологические эпохи.
Руссо вылез из джипа. Это был такой миг, когда каждое слово несет на себе печать незначительности, банальности, когда словарный запас делается увечным и ненужным, и когда одно лишь молчание становится носителем смысла…
Он бережно обнял молодую женщину, и она, рыдая, уткнулась ему в плечо. Он погрузился губами в переплетение рыжих волос и так открыл в себе самом мягкость и нежность, на которые, казалось, не был способен. Двадцати годам «ремесла», в котором суровость и холодность являются условием выживания, не удалось лишить его человечности. Он улыбнулся. Похоже, он потерпел поражение… Не любить, не мечтать, не ждать больше… жить, как приказывает время, выполнять порученные тебе задания, сведя до минимума долю иллюзий… Но было невозможно ощущать в своих руках эти хрупкие подрагивающие плечи, а под своими губами – эту нежную кожу, и при этом не пересмотреть все «непоколебимые» основания стоицизма, одиночества и иронии…
Он бросил взгляд на стальной каркас, который долизывали языки пламени. Если у нас и есть будущее, то оно будет всем обязано женскому началу, подумал он, и эта мысль была столь чуждой его обычной природе, что можно было вообразить, что этот новый мир уже родился.
Она стала рассказывать:
– Меня похитили среди ночи и увезли в горы… трое молодых людей из Комитета освобождения Раджада расспрашивали меня в пещере об истории с самолетом… они записали мои показания на пленку… они такие славные… после чего те двое, что меня похитили, прикончили этих бедных мальчиков из автоматов… они забрали кассету… сказали, что она стоит больших денег… они намеревались продать ее Ливии или даже правительству Хаддана… собирались пристрелить меня, потому что я была свидетелем… свидетелем…
Слова и воспоминания заставили ее вновь с такой силой пережить тот ужас, что она задрожала всем телом. Он сжал ее в объятиях, стремясь дать иллюзию убежища. Она говорила, не переставая, стараясь через поток слов освободиться от внутреннего напряжения, но это привело лишь к тому, что пережитые ею мгновения возродились с почти зримой силой. Но на этот раз единственным результатом возвращения страшного стало то, что у нее задрожал голос… Когда она снова подняла к нему лицо и рукой отвела с него волосы, Руссо не обнаружил на нем ни единой приметы растерянности, беспомощности, внутреннего краха, а ведь мужское начало даже подталкивало его искать их, дабы придать большую ценность и больший смысл его покровительственным объятиям… Он никогда еще не видел, чтобы женщина была так решительно настроена не сдаваться и с таким полным пренебрежением относилась к своим нервам, своей физической и психической хрупкости…
– Почему они это сделали? Почему они их убили?
– Послушайте, если запись с вашими показаниями прозвучит на «Радио-Триполи» или «Радио Багдад», этого будет достаточно, чтобы весь регион взялся за оружие…
– Но они как раз и не хотели этого! – воскликнула она. – Они почувствовали в этом провокацию… они сказали мне, что они не готовы, что у них нет оружия… Погодите, я забыла самое главное… они мне сказали, что не верят в это…Да, у них были сомнения… Они выслушали мои показания и ни на миг в них не усомнились, а потом совершенно спокойно сказали, что не верят, что эту резню в самолете организовало правительство Хаддана… А ведь это революционеры, боевики, готовые на все, чтобы вырвать у Хаддана свою независимость… Как курды в Ираке… По их мнению, инициатором этих зверств была не «правящая клика Хаддана», как они ее называют… Но тогда кто же? Кто?
Она отстранилась, чтобы лучше его видеть, и Руссо почувствовал почти физическую утрату, как если бы с концом объятия он стал вполовину меньше.
Он долго вдыхал воздух, и ему удалось забрать у ночи и у звезд немного прохлады.
– Сейчас не самый удачный момент, чтобы пытаться распутать этот клубок змей, – сказал он. – Политика в зоне Персидского залива не потеряет ничего из своей красоты, если подождет, а вот вы нуждаетесь в отдыхе…
– Почему этих молодых людей убили?
Руссо устало пожал плечами.
– Потому что они отказались играть на руку провокаторам, – сказал он. – В их безотлагательной смерти отчасти были заинтересованы и сами убийцы. Они вам так и сказали. Запись с вашими показаниями легко можно продать за полмиллиона долларов. Я думаю, что даже правительство Хаддана уступило бы шантажу и выкупило эту пленку… Вам нужно объяснение? Вот уже две недели, как стоимость оружия в этой части мира – при условии срочной поставки – возросла на сорок процентов. Я говорю: при условии срочной поставки,а это означает – «Талликот тул компани», чьи грузовые суда стоят наготове, буквально набитые чехословацким оружием. Закупки уже начались. Для долгосрочныхсделок – от шести недель до трех месяцев – перспективы тоже неплохие… Если вы взглянете на список вновь прибывших в гостинице «Метрополь», то увидите весьма известные имена представителей французских, американских и бельгийских производителей оружия. Эти люди всегда тут как тут, когда в воздухе пахнет падалью… Но я вам скажу другое. «Талликот тул компани» могущественна, но не всемогуща. Так что я считаю, что есть кое-что посильнее Берша и его замечательной организации…
Внезапно он заметил, что в ночном небе блуждают лучи, и что звезды тут совсем ни при чем. Он обернулся. Две дюжины источников света продвигались по прямой через пустыню, обшаривая пространство единственным глазом своих прожекторов.
– Эти мерзавцы считают, что они тут на маневрах, – сказал он. – В столице, наверное, не осталось ни одного бронеавтомобиля…
Он повернулся к Стефани с улыбкой.
– В ваших интересах потерять сознание, – сказал он ей. – А не то вам придется провести ночь за подробным рассказом обо всем, что произошло, причем беседовать с вами будут согласно правилам проведения допросов офицеры разведки. У вас будет право лишь на чашку кофе время от времени. По-моему, вам сам Бог велел грохнуться в обморок…
Она тоже впервые улыбнулась и покачала головой.
– У меня очень развит инстинкт самосохранения, – сказала она. – И я знаю, что лучший способ остаться в живых – это сказать все, чтобы больше не было смысла убирать меня ради моего молчания. Так что я теперь стану самой болтливой девушкой после Шахерезады. Я не хочу больше молчать, друг мой. Я собираюсь застраховать свою жизнь от насильственной смерти, рассказывая всякому, кто захочет меня слушать, все, что знаю, и все, что видела. И я буду продолжать это делать и по возвращении в Америку в надежде, что снабжу торговцев оружием приятным и занимательным чтением. Хотя у меня, разумеется, нет никакой надежды что-либо изменить или помешать их деятельности…
Руссо бросил взгляд на линию прожекторов на горизонте. Десять, пятнадцать минут… Он вдохнул побольше воздуха. Оставалось сделать самое трудное: назвать Стефани свою настоящую фамилию, имя и должность… Момент был лучше некуда: даже если взять в расчет – предосторожности ради – ее ирландский темперамент, у Стефани уже не должно было остаться энергии на слишком бурное негодование… Это был правильный расчет, и когда Руссо закончил свою исповедь, он поздравил себя с хорошей игрой. Прожектора были уже близко, но тени и времени оставалось еще ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы перейти к более нежным признаниям.
25
Ночь уже шла на убыль, когда бронеавтомобили «мобильной группы» – так сэр Давид Мандахар гордо называл моторизованный отряд сил безопасности – остановились перед белыми руинами Бахра. Машины образовали вокруг пары идеальный полукруг. Сам сэр Давид Мандахар ехал в командирской машине – command-car, и на фоне начавшего светлеть неба, на котором еще мерцали звезды, его силуэт возвышался даже над радиоантенной. Он спрыгнул на землю – а за ним и господин Дараин – и направился с распростертыми объятиями к Стефани.
– Ах, дитя мое! – пробасил он, топорща от волнения усы и бороду, и Руссо решил, что прозвищем «горный вепрь» пуштун обязан своему волосяному покрову никак не меньше, чем своей храбрости. – Ах, дитя мое! Если бы с вами что-нибудь случилось…
Он не стал продолжать, предоставляя многоточию нарисовать в воображении каждого всевозможные напасти: землетрясения, извержения вулканов, цунами и конец света, – которые бы он, не колеблясь, вызвал, если бы с мисс Стефани Хедрикс случилось несчастье. Он поспешно сжал ее в объятиях, как бы расставив знаки жестикуляционной пунктуации в ощущаемом им волнении, и повернулся к Руссо.
– Вы славно потрудились, друг мой, если судить по этому каркасу и двум трупам…
Он указал тростью в направлении догоревшего «лендровера».
Господин Дараин почтительно держался в нескольких шагах позади него, настолько бледный и даже мертвенно-бледный, насколько это позволяли последние тени ночи. На заднем сиденье командирской машины обнаружился лакей, секретарь, советник или просто тень министра внутренних дел, появившаяся в его окружении двумя месяцами раньше; он был одет в серый костюм из ткани-лапчатки, который красноречиво провозглашал отказ и английской шерсти, и владельца костюма подчиняться требованиям климата и широт. Руссо никогда не видел ничего более неуместного, чем этот жилет канареечного цвета, эти перчатки и шляпа-котелок посреди пустыни между Меккой и Оманом.
Солдаты выключили прожектора.
– Мне очень повезло, – сказал Руссо. – Я остановился, чтобы долить топлива, и…
– Капитально! Капитально! – воскликнул сэр Давид Мандахар, дружески хлопнув его по плечу. – Но для начала давайте подкрепимся…
В мгновенье ока на земле расстелили ковер, и Стефани увидела, как на том самом месте, где она едва не рассталась с жизнью, появились фуа-гра из Перигора, фазан в желе, икра и множество других деликатесов… Так ужас и смерть с величайшей обходительностью обернулись гастрономической феерией, а солдаты и «личная гвардия» министра внутренних дел с той же быстротой и с той же услужливостью превратились в неплохо вышколенную прислугу. Прямо пикник, подумала Стефани с чем-то вроде смиренного изумления. У нее уже не было сил возмущаться, реагировать; все стало безразлично; все казалось смутным, ирреальным, странным – все было в другом месте…На ее подрагивавшие плечи набросили кашемировую шаль. В горле образовался комок и уже не хотел исчезать…
Сэр Давид Мандахар устроился напротив нее – за ним, метрах в тридцати, возвышался каркас «лендровера» с двумя черными трупами, который, казалось, придвигался все ближе и ближе по мере того, как рассветало. Искореженное железо еще дымилось, и утренний ветер с гор доносил до них запах горелого. Слева от нее спасший ее мужчина спокойно погружал руки в плоть жареного барана; прошедшая ночь не оставила никаких следов усталости на его лице; когда их взгляды встречались, он улыбался – оказывается, даже столь суровое лицо может быть способно на столь дружескую улыбку. Нет, слово «дружеская» не годилось – слово «нежная» подходило куда лучше… Икра и еще икра – она ведь где-то слышала, что Хаддан получает поддержку от Ирана. Похоже, эта пресловутая «материальная помощь», вызывавшая негодование Триполи и Багдада, поступала главным образом в виде икры…
– Попробуйте этого местного напитка, дитя мое, – прогремел Мандахар, протягивая ей бокал с розовой шипучей жидкостью. – Он делается по специальным рецептам из перебродившего молока верблюдицы…
Он подмигнул ей, поднося свой бокал к губам. Стефани выпила: это было шампанское. Небосвод над ними мало-помалу терял свой жемчужный блеск, и тонкий полумесяц еще больше побледнел от этого оскорбления, нанесенного вере пророка. Господин Дараин воздержался от участия в импровизированном завтраке, который напоминал одновременно отель «Ритц» и ковры-самолеты. Господин Дараин уже успел порыться в сгоревшем «лендровере» и теперь держался немного поодаль, позади своего министра; время от времени он доставал из рукава носовой платок, которым затем забывал воспользоваться. Его полицейскую душу, видимо, терзали всевозможные вопросы; вид у него был расстроенный; Стефани порой бросала в его сторону благодарный взгляд, так как он единственный из всех, похоже, осознавал, какой была пережитая ею ночь.
Барона Хау-Хау обслужили в command-car; солдат в тюрбане поставил ему на колени поднос с едой, и барон приступил к ее вкушению, держась очень прямо, слегка разведя локти в стороны и демонстрируя манеры, достойные дамского чаепития в Хэмптон-Корте. [80]80
Королевский дворец с парком на берегу Темзы близ Лондона.
[Закрыть]Порой он протягивал свой бокал, и свирепый воин, превратившийся в официанта, наливал ему немного «местного напитка». Стефани, пощипывая гроздь винограда, не сводила глаз с совершенно невыразительного лица этого джентльмена, с его голубых фарфоровых глаз, которые, похоже, лишились подвижности вследствие какого-то внутреннего катаклизма. Посольство Великобритании так и не смогло получить из Лондона хоть какие-то сведения на его счет. А Хендерсон как-то сказал Стефани с улыбкой, что столь непроницаемый персонаж может заниматься лишь одним: представлять в Персидском заливе швейцарские банки с их секретными счетами…
– Он здесь давно? – сухо спросила она Мандахара.
– Уже несколько месяцев, – сказал министр, поставив на ковер свой бокал с «молоком верблюдицы». – Я нашел его в «Хэрродзе», [81]81
Один из самых дорогих магазинов Лондона.
[Закрыть]в Лондоне… Ха! Ха! Ха!
Стефани чуть было не поинтересовалась у министра, почем нынче в дорогих магазинах такие типы.
– Это подлинный лорд, у него есть соответствующие документы. Очень живописный тип, не так ли? Мы всецело преданы демократии, но в культурных и воспитательных целях сохраняем приметы прошлого: предметы и мебель викторианской эпохи и все такое прочее… Когда-то я был простым солдатом в британской колониальной армии – в шестнадцать лет завербовался к гуркам [82]82
Британские армейские формирования из непальского племени гурков.
[Закрыть]– и мне приятно иметь в своем окружении настоящего английского лорда, который напоминает мне о том, что демократия и независимость могут сделать для ребенка из народа…
Стефани взглянула на барона с внезапным приливом симпатии. Это был, вероятно, скромный жулик, который открыл новый способ жить на содержании в удобстве и роскоши, делая ставку на мелкое тщеславие бывших колонизированных. Словом, он продолжал паразитировать на колониях.
– Да, я одеваюсь в Лондоне, – сказал сэр Давид Мандахар, бросив на английского аристократа взгляд, какой гордый владелец мог бы бросить на королевского пуделя с безупречной родословной.
Господину Дараину не сиделось на месте. Он подошел к Мандахару, почтительно наклонился и шепнул ему на ухо несколько слов.
– Верно, верно! – пробурчал министр. – Не могли бы вы, мисс Хедрикс, поведать о том, что произошло? Я полагаю, произошло немало, если судить по двум трупам… И потом, малыш Али Рахман – он тоже хотел сюда приехать, но я ему помешал, не нужно, чтобы его примешивали ко всему этому, – да, юный Али Рахман утверждает, что вас похитили посреди ночи…
Силы Стефани были на исходе, а изнурение и спад нервного напряжения действовали как наркотик. Она с трудом подбирала слова, мысли не складывались во фразы, и ей приходилось делать почти физическое усилие, будто бы поднимать слоги на большую высоту, – у нее было такое ощущение, что она говорит вручную… «Да, в каком-то смысле это был ручной труд, приходилось рыть, собирать, вытаскивать из глубины, бросать наверх – настоящая работа по выемке слов».
В рассказе, который она записала по настойчивой просьбе Хендерсона, она отмечала: «Мне думается, никогда прежде я не говорила так много, как в ту ночь и в последующие дни… По-моему, я десять-двадцать раз возвращалась ко всем этим подробностям… Но не только потому, что меня расспрашивали – полиция, правительство, мне пришлось встретиться с четырьмя или пятью министрами, да и с вами, Тед… Я знала, что как только я все расскажу, моей жизни уже ничего не будет угрожать… Я перестану быть единственным свидетелем, исчезновение которого будет означать также и исчезновение истины… В общем, я была Шахерезадой из сказок „Тысячи и одной ночи“, этой бедной девушкой, которая должна была говорить без остановки из страха, что ей перережут горло. Я еще никогда в жизни не испытывала такой усталости, но я не опустила ни одной детали, и я даже думаю, что физическая усталость и нервное истощение в некотором роде поддержали меня. Под этим я подразумеваю то, что я уже ни на что не реагировала, усталость уже исчерпала нервные источники, где рождаются эмоции, так что я смогла прожить заново – минута за минутой и час за часом – события той ночи, не испытывая при этом былого ужаса. Словом, я могла говорить спокойно, и помню, что когда я закончила, к небу уже вернулись его краски, а это всегда миг облегчения, эти спокойные утра, ощущение освобождения, как будто с вами больше уже ничего не случится…»
Едва она умолкла, как сэр Давид Мандахар повернулся к Дараину и принялся осыпать его оскорблениями. Она не понимала ни слова, но ярость, заставлявшая дрожать кончики его усов, две жилы, вздувшиеся посередине лба, и взгляд, в котором сверкал убийственный гнев, не оставляли никаких сомнений относительно сути его речи. Господин Дараин перенес эту грозу с благодушием человека, уже давно привыкшего играть роль громоотвода.
– Невероятно! – принялся негодовать затем сэр Давид Мандахар по-английски, повернувшись к Стефани. – Наши горы буквально начинены маоистскими провокаторами и агентами саудовского феодализма… Я потребовал, чтобы границы держали на замке, но армия мне ответила, что у них недостаточно легкового транспорта… Великие державы намеренно отказывают нам в оружии, чтобы держать нас в своей власти… Но мы его раздобудем, будьте спокойны… Если потребуется, мы опустошим наши сундуки, но у нас в скором времени будет самая боеспособная армия во всем Арабском заливе…
– Думаю, у вас больше нет сомнений относительно того, что на самом делепроизошло в самолете? – спросила Стефани.
– А у нас их никогда и не было! Нашим врагам нужен был предлог, чтобы вмешаться…
Предлог,подумала Стефани, задаваясь вопросом, правильно ли она расслышала.
– Я настаивал на том, чтобы сразу же рассказать правду, но что вы хотите, я ведь не все правительство!
У Стефани возникло странное ощущение – будто ее тело по-прежнему стягивают ремни, будто они давят на нее… Это не кончилось…Она услышала свой собственный голос, может, чересчур пронзительный, может, чересчур резкий, он говорил:
– Сколько колец делает удав, когда обвивается вокруг вас, чтобы задушить? Три? Четыре?
Она стала считать на пальцах:
– Погодите… самолет… тип, который шел за мной следом, чтобы убить… и сегодняшняя ночь… получается три…
Она почувствовала, как на ее руку легла чья-то рука, и в знак благодарности улыбнулась Руссо. Утро сияло, но этот покой казался ей обманчивым, как если бы свет дня был лишь маскировкой, сверкающим покрывалом, ловко наброшенным на реальность, остававшуюся угрожающей… Она поискала поддержку и уверенность во взгляде Руссо и по его тревожной озабоченности поняла, что теряет контроль над собой. Она попыталась взять себя в руки и призвала на помощь маленькие хитрости своего ремесла, приняла беспечный и непринужденный вид в надежде прогнать страх. Если присмотреться, лицо сэра Давида Мандахара было лицом разбойника с афганских гор, при утреннем свете в его чертах проступили суровость и жестокость, которых никак не скрадывали даже учтивые манеры, приобретенные в английской армии. И уж меньше всего доверия внушала носатая физиономия господина Дараина, который беспрерывно парил вокруг своего министра, как гриф, которому не терпится полакомиться. Это лицо не годилось для рассвета и для сияния раннего, лучезарного утра. А кем был на самом деле тот странный персонаж в машине, этот барон, лорд или не знаю как его там, ничуть не менее безупречный в своем костюме с Савил-Роу [83]83
Улица в Лондоне, где расположены ателье дорогих мужских портных.
[Закрыть]здесь, среди пустыни, чем кулуарах Уайтхолла [84]84
Резиденция английского правительства.
[Закрыть]или в пункте взвешивания жокеев на последних дерби? Руссо помог ей подняться.



