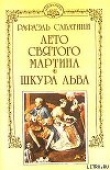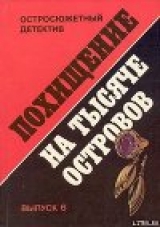
Текст книги "Кордес не умрет"
Автор книги: Гансйорг Мартин
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Я его не знаю. У меня болит распухший язык. Во рту противный привкус крови.
Сзади человека стоит другой. Он тоже носит очки и смотрит на меня сверху вниз. Он курит небольшую сигару. Его лицо я уже где-то видела…
Ах да, Шербаум.
– Как дела? – спрашивает стоящий у меня в головах незнакомец и отпускает мой локоть.
– Извините, – говорит он, – и называет фамилию, которую я не разбираю. – Я врач из этого отеля.
Письмо!
Я хватаюсь за правый рукав. Письма в нем нет.
– Вы в состоянии, фрау Этьен, дойти до машины или нужны носилки?..
– Спасибо, я думаю, что смогу идти.
Врач подставляет руку под мое плечо, чтобы помочь подняться. Я подымаюсь. Легкое головокружение. Я привожу в порядок свою юбку. Делаю несколько неуверенных шагов.
Проходя мимо зеркала, смотрю в него и пугаюсь своего лица, отраженного в нем.
– Пошли! – говорит Шербаум.
«Живо, Этьен, вперед», – слышится мне. Пустяки. «Номер двадцать, выходите, вода нагрета», – раздается где-то по соседству.
Ерунда! Возьми себя в руки! Ты же его не убивала. Это ты обязательно должна доказать.
Но – письмо…
Передо мной идет врач, сзади – Шербаум. Мы выходим из комнаты и покидаем отель.
Снаружи, в коридоре, стоит Андерсен – красавец-блондин. Лифт. Спускаемся вниз. Молчание. Шербаум вдавливает сигару в пепельницу. Врач покашливает. Я внезапно, видимо, под влиянием этого покашливания, а также запахов табака и рома, которые распространяет врач, чрезвычайно отчетливо вспомнила своего учителя математики в Макленбурге.
«Бетина Шиллинг, – говорил он, покашливая и распространяя вокруг сильный запах табака и слабый – рома, – у вас будут большие трудности из-за вашего необузданного темперамента; я бы даже назвал это отсутствием самодисциплины, а это приближается…»
Как давно это было? Двадцать два… Двадцать пять лет тому назад.
Теперь у меня перед глазами всплыли и другие картины..
Как это было тогда?
Картины прошлого возникают, как диапозитивы. Они все яснее, все отчетливее. Да, теперь я знаю…
* * *
Шум. Звуки фанфар. Радиосводки в конце войны передают все чаще. Но все меньше говорят об истинном положении на фронте. Пугающая тишина темных зимних ночей после оглушительного, вибрирующего звука сирены.
Зарево на юго-западе. Там, где Берлин, идет наступление. Иногда раздаются выстрелы из тяжелых зенитных орудий в перерывах между сплошным грохотом разрывающихся авиабомб – далеко, далеко. Случается и поблизости, тогда дребезжат оконные стекла. В небе – близко, далеко, повсюду – ноющий звук летящих самолетов.
Однажды вечером по дороге домой – я возвращалась после праздника, посвященного окончанию школы, – меня застигла воздушная тревога. Я со всех ног бежала в бомбоубежище. Оно находилось под зданием гимназии, наполовину занятой каким-то военным штабом. Я была единственной представительницей женского пола среди двадцати – тридцати мужчин, одетых в форму, и ужасно задавалась.
Было холодно, и сравнительно молодой майор, командовавший людьми, дал мне глотнуть рома из фляжки. Я не привыкла к алкоголю, но не хотела говорить «нет», чтобы не казаться жеманной, и выпила три походных стакана. Мне сразу стало тепло, но в голове все смешалось, затуманилось. Короче, когда дали отбой воздушной тревоги, я была в стельку пьяной. Естественно, заметила слишком поздно, что я и майор остались в подвале одни. Этот рыжеватый блондин богатырского вида подошел ко мне, пошатываясь, положил руку на плечо и тихонько так начал говорить, какая я симпатичная девушка, что не надо волноваться, а надо быть с ним полюбезнее…
– Всего один поцелуйчик, ничего особенного…
Его дыхание обдавало меня запахом сигар и рома. И когда я в полубессознательном состоянии, да еще в последней стадии опьянения все же попыталась ему сопротивляться, он залез свободной рукой вовнутрь пальто, расстегнул блузку и обхватил мою грудь, тихо приговаривая: «Так лучше, моя милая девочка… ай-ай, какие у тебя прелестные титечки, да ты и сама бравенькая… уже готова для любви…»
Он медленно клонил меня книзу, на матрас, набитый сеном, на котором мы сидели, схватил меня за бедра, коленями сжал мои ноги так, что я уже оказалась почти вся под ним, но вдруг, как пловец из водоворота, я, вырвавшись из моего опьянения злополучным ромом, почувствовала его горячие руки у себя под подолом и моментально стала трезвой как стеклышко.
Он, должно быть, сильно испугался, когда маленькая, глупенькая и, на первый взгляд, уступчивая девушка из захолустного городка превратилась в стальную пружину, въехала ему коленом в живот, фыркнула, как кошка, и стремительным прыжком вскочила на ноги.
Моя атака так его ошарашила, что он свалился с матраса и тупо глядел на меня снизу вверх.
– Если бы фюрер об этом узнал! – прошипела я и посмотрела на вызывавшего у меня одно только отвращение поверженного наглеца, а затем начала застегивать блузку.
За этим последовало нечто совершенно неожиданное уже для меня: майор начал безудержно смеяться. Он смеялся и смеялся, да так, что дрожали стены подвала, словно хохотала целая дюжина подвыпивших ландскнехтов.
– Нет! – кричал он. Он лежал на спине и колотил в исступлении кулаками по полу. – Нет, это немыслимо! – Он поперхнулся от смеха. – Если бы фюрер!.. Этот импотент, это дерьмо, кумир девиц из старогерманской провинции! Нет. Это невозможно… Если бы фюрер… Очаровательно!.. Ну, и что же тогда бы случилось? Фюрер! Ха-ха-ха…
Мое удивление сменилось подлинным ужасом. Человек сошел с ума! Без сомнения, он тронулся. Как это можно – немецкий офицер, и вдруг – такое о своем фюрере! А потом – этот смех… Я сжала свою кровоточащую руку, которую поцарапала о его железный крест. Тут же выскочила по лестнице из подвала и помчалась по улице, словно за мной гнались.
Отец заключил меня в объятья, когда я почти без чувств ввалилась в дом. Потом, собравшись с духом, я рассказала, запинаясь и заливаясь слезами, взбудораженная, дрожащая от холода и от страха, о пережитых неприятностях. Я просила отца приговорить этого человека к расстрелу – только к расстрелу! Сразу же на месте и расстрелять! И не столько потому, что он покушался на мою честь, а потому что он затронул честь фюрера…
– Ничего не поделаешь, сердце мое, – сказал отец, и я, к своему удивлению, увидела, что он прячет улыбку. – Ты скоро согреешься и заснешь, забыв все свои страшные приключения… Иди сюда, Юльхен, – обратился он к тете, которая, с трясущимися губами и сползшими на самый кончик носа очками, стояла рядом, скрестив руки на груди. – Иди положи девочке на кровать теплое одеяло.
* * *
Лифт остановился.
Я откинула со лба сбившуюся прядь, отбросила прочь воспоминания и вернулась в эту неприятную для меня действительность…
Я должна была остаться дома вчера… Почему я не осталась? Почему не предупредила Неле, почему не сказала ей, что у меня любовное послание к ней ее собственного отца?
Вместо этого мне зачем-то понадобилось вести переговоры с человеком, вдовой которого я себя считала, и который по имевшимся у меня сведениям (и я в это верила) был убит.
Андерсен с моим багажом идет впереди: Шербаум на небольшой дистанции следует за мной. Врач исчез. Не попрощавшись. Боже! Разве он обязан прощаться с убийцей?..
Я сажусь в машину. В авто нет ни забытых на сиденье перчаток, ни разбросанных повсюду газет, ни шарфа, ни болтающейся перед ветровым стеклом фигурки льва, тигра или обезьяны, подвешенной к зеркалу, – только тетрадка в зеленой обложке лежит в открытом выдвижном ящике. «Журнал поездок» – напечатано на ней.
Они должны сюда заносить каждую поездку, сообразила я: «Арест Этьен Бетины (убийство Куртеса); отель „Кайзер“, 14 км…» или что-нибудь вроде этого. Порядок должен быть во всем.
Андерсен кладет мой чемодан на свободное – переднее – сиденье, садится за руль, трогает машину с места.
Он ведет ее очень уверенно. Мы едем по оживленным улицам. Справа и слева помещения различных бюро, жилые дома, магазины, гостиницы, фасады из камня, бетона, кирпича, облицованные гранитом и мрамором. Люди идут или стоят на остановках. Продавщицы, деловые люди с «дипломатами», замешкавшиеся дети. Я гляжу на все это словно в первый и последний раз.
Перед светофором Андерсен останавливается. Две женщины переходят улицу. У одной из них развеваются на ветру легкие, светлые волосы, мой взгляд устремлен на нее, и…
Меня пронзает как электрическим током.
Неле.
Там, возле газетного киоска, на остановке. Это Неле. Корнелия. Моя дочь.
Или?
Да, это она.
Я не видела ее лица, но… Ошибка исключена! Это ее пестрое летнее пальто – оригинальная модель. Несколько недель назад я его ей подарила. И кепочка сиреневого цвета…
Знала ли я толк в убийстве, как это могло показаться уважаемым господам Андерсену и Шербауму, неизвестно, но уж в текстиле-то я как-нибудь разбираюсь.
«Неле!» – хочу я закричать… Но из моей груди вырывается едва слышный стон.
– Что такое? – спрашивает Шербаум и смотрит на меня сквозь очки внимательно, даже заботливо.
Светофор показывает зеленый. Андерсен выжимает газ и едет дальше.
– Вам нехорошо? – спрашивает Шербаум.
– Немного… спасибо, – тихо отвечаю ему и слышу, как сердце бьется у меня сильно-сильно почти где-то в горле.
Неле в Гамбурге… Это может означать только одно: она приехала к Кордесу! Но когда? Вчера вечером я разговаривала с ней по телефону… Это было в шесть, нет, в полседьмого. Если она сразу же после нашего разговора выехала, то часов в девять или десять была уже здесь. Узнала о моей инициативе? Что-то имела против этого? Или она его… Когда Кордес был застрелен?..
Нет! Только не Неле! Ради всего святого – только не Неле!
Но… Если она в Гамбурге – почему не дает о себе знать? Я же ей говорила, в каком отеле остановилась… Наверняка ее ищет Изабелла – когда Неле исчезла из дому, та, должно быть, просто потеряла голову. Обращалась ли она в полицию или еще куда-нибудь?..
Я сделала вид, что ничего не заметила. Лучше уж я все возьму на себя, только бы моего ребенка…
– Приоткройте немного окно, – сказал Шербаум Андерсену. – Фрау Этьен совсем бледная.
Поездка длилась недолго. Мы остановились у покатой бетонированной площадки возле цокольного этажа огромного серого здания, которое выглядело довольно мрачно.
Андерсен вышел из машины, открыл передо мной дверцу и подождал, пока с другой стороны вышел Шербаум. Затем все трое плюс мой чемодан двинулись вперед.
Мы подошли к лифту и поднялись на этаж. Я не заметила на какой – седьмой или восьмой. Мне это было безразлично.
Была ли это Неле? А пальто? Минутку! А цвет волос? Неле – темная блондинка, и… Я видела только пальто и кепку. Темная блондинка? Но это ни о чем не говорит. Столько темных блондинок шляется по Гамбургу!
Когда мы вышли из лифта, в глаза мне бросилось: «Комиссия по расследованию убийств». Это было написано на металлической дощечке, мимо которой мне хотелось поскорее пройти. Еще больше мне этого захотелось, когда я прочла: «Убийства», «Сексуальные преступления». Люди, работающие здесь, наверное, говорят: «Я иду в бюро», как какой-нибудь бухгалтер на мармеладной фабрике.
Бюро убийств, бюро трупов… Конечно, здесь есть и статистический отдел, который подсчитывает, сколько людей лишается жизни после удара молотком или топором, сколько погибает вследствие отравления, сколько преступлений связано с употреблением наркотиков. И женщины, светловолосые, в возрасте от тридцати до сорока, возможно, составляют значительный процент убийц…
Мы идем по коридору. На мое счастье – по пустому. Шербаум берется за ручку двери, на которой дощечка с именем, фамилией и званием владельца кабинета. Мы заходим, не дожидаясь приглашения, и оставляем дверь открытой.
Я слышу приятный голос: «Прошу!» Из-за стола поднимается человек в сорочке без пиджака, быстро снимает его со спинки стула, надевает и, поправляя галстук, подходит ко мне.
– Фекельди, – говорит он, протягивает руку и внимательно смотрит на меня. – Садитесь, пожалуйста, фрау Этьен.
Шербаум пододвигает стул.
– Герр Фекельди будет вас допрашивать.
Ах, значит, Фекельди.
Андерсен стоит в дверях. Мой чемодан он отставил в сторону.
Я сажусь.
– Извините, пожалуйста. Еще одну минуточку, прошу вас, – говорит Фекельди предельно вежливо, кивает Шербауму – и они проходят через открытую дверь в соседнюю комнату.
Возможно, Шербаум сообщает что-то следователю дополнительно и передает письмо Кордеса – это проклятое письмо! То, что я его пыталась спрятать, было непростительной глупостью! Они захотят теперь допросить Неле и не застанут ее в Корнвальдхайме.
Андерсен прислонился к двери и наконец-то закурил сигарету, которую до этого долго мял в руке. Он сделал такую глубокую затяжку, что мне показалось, сигарета сразу же будет докурена до ободка.
Комната более чем скромно обставлена. Два письменных стола стоят друг против друга, обыкновенная дверь, перед ней несколько простых стульев. На стуле Фекельди подушка из пористой резины в чехле светло-зеленого цвета; два запертых шкафа, одна полка для бумаг, почти пустая. Один стул – для посетителей или, что одно и то же, для преступников (на нем я и сидела) – и полуоткрытый стенной шкаф, на верхней полке которого газеты и журналы, а на нижней – кофейные чашки и бумажные пакеты.
На стене висит рекламный календарь какой-то нефтяной компании, а рядом – репродукция: пейзаж с оранжево-красными соснами и черно-коричневым озером, глубоким и чистым. Марк Брандербург. Прекрасно, что и здесь он в почете.
Этот пейзаж очень похож на тот, на фоне которого когда-то мы с Кордесом гуляли рука в руке. Только озера не было. Затянутый тиной пруд лежал где-то в глубине парка, по которому мы бежали. Но оранжево-красный цвет сосен был тот же…
* * *
Однажды вечером в начале октября 1944 года мой отец пришел из суда домой, позвал меня и тетю Юлию на кухню и объявил нам, что мы должны приготовиться к приему гостя. Гость этот придет к ужину и на восемь – десять дней останется в доме. Это известный герр Кордес, принадлежавший к какой-то рабочей группе из Берлина, которая прислана для сотрудничества с гражданскими властями. Ландрат созвал коллег и объяснил: отель набит до отказа, и если… и т. д.
Нечто подобное случалось в то время довольно часто.
У нас была комната для гостей на первом этаже. По долгу службы и по доброте душевной мой отец постоянно отдавал ее беженцам. Сейчас мы освободили ее. Это было длинное узкое помещение рядом с ванной. Моя комната была прямо напротив.
В комнате для гостей стоял великолепный старый шкаф. Красное дерево – если я не ошибаюсь. Когда его открывали, от него исходил слабый запах нафталина, потому что именно в этом шкафу мы хранили зимние вещи. Я вспоминаю комод с пустыми ящиками, покрытый бумажной скатертью с цветами. И кровать немыслимых размеров, спинки которой были украшены четырьмя шариками из дерева. Ребенком я страстно хотела эти шарики открутить, чтобы поиграть с ними.
Кордес прибыл незадолго до ужина. На его звонок я пошла отворять дверь. Он стоял в полутьме, негромко отрекомендовался.
– Мне назвали ваш дом в качестве моей квартиры, и я надеюсь…
– Прошу, входите, – сказала я.
Он был немного выше среднего роста, худощав, и с первого взгляда я им заинтересовалась, хотя он не представлял из себя ничего особенного. Но общее впечатление от его внешности, манер, походки, мимики живого лица, хрипловатого, но звучного голоса было таким возбуждающим, таким пленительным, таким сексуальным, как говорят сегодня!..
Он это знал и очень искусно пользовался своим обаянием.
Возможно, девушка из большого города, другого интеллектуального уровня и другого опыта не поддалась бы ему так скоро, как я, не доверилась бы так безоглядно – не знаю.
Неле, во всяком случае, не смогла устоять перед этим… этим излучением энергии…
* * *
Неле!
Всю меня вдруг словно обдало порывом ветра. Корнелия, Неле, моя дочь, дочь Кордеса, двадцати лет от роду, – надо благодарить случай, что между ними, между отцом и дочерью – с ума сойти! дело не зашло слишком далеко, не так далеко, как между Кордесом и мной!..
Теперь я совершенно уверена: это была она. Но почему она здесь тайком? Если бы я хоть пару минут могла с нею поговорить?
Сквозь окно Комиссии внезапно просочилась полоска солнечного света. Самое лучшее в этом строгом официальном помещении – окно, еще точнее – вид, который из него открывается: весь центр Гамбурга в золотистой дымке. Виден край блестящего Альстера, высятся башни над серо-голубой массой домов, далеко простирается туманная даль… Стоп! Остановись!
Я должна собраться. Я должна уяснить, что я хочу и чего не хочу сказать. Я не должна предаваться сентиментальным воспоминаниям или от страха городить всякую чушь. Никаких уловок, иначе придет этот Фекельди, и…
Он уже здесь.
Он вышел из соседней комнаты. У него в руках письмо Кордеса и какая-то папка. Мое дело. Оно еще совсем тонкое.
Шербаум идет вслед за ним, кивает Андерсену и, проходя мимо меня, останавливается рядом:
– Все в порядке, фрау Этьен.
Он говорит это совершенно серьезно, без тени иронии. Мое прежнее мнение о нем рассыпается в прах. Я, смутившись, говорю:
– Спасибо, герр комиссар.
Затем вместе с Андерсеном он выходит.
Фекельди улыбается. Потом поворачивается и через плечо говорит уже в дверях, обращаясь в соседнюю комнату:
– Я не хочу вам больше мешать.
Женский голос что-то спрашивает. Что именно, я не смогла понять.
– Нет, не надо, – отвечает Фекельди, потом закрывает дверь, кидает папку и письмо Кордеса на стол и садится на свою поролоновую подушку.
– Вы разрешите? – спрашивает он и вскрывает новую пачку сигарет. – Могу предложить и вам?
Это не мой сорт.
– Нет, спасибо, – говорю я. – Предпочитаю свои собственные.
Где же моя сумка? Ах, да – там, на чемодане. Возможно, ее взял Шербаум. На какой-то момент я замешкалась.
Фекельди вскакивает со стула – он сразу все понял, – берет сумочку и подает ее мне. Он, в самом деле, очень внимателен и вежлив.
Я беру из портсигара сигарету; он подносит к ней огонь и снова садится.
– Спасибо, – бормочу я и оглядываюсь в поисках пепельницы.
Он придвигает ко мне большую, расписанную зелеными цветами фаянсовую тарелку. «Пейте охотничий ликер Малепартиса» – написано на ней золотыми буквами.
Где-то сегодня я уже видела нечто подобное… Не могу вспомнить.
Фекельди разглядывает меня. У него хорошее лицо и симпатичные серые глаза. Над правой бровью шрам.
Я держу себя в руках. Курение мне в этом помогает. Он смотрит на письмо, вынимает его из конверта, начинает читать. Мне бы лучше ему все объяснить, но я вспоминаю наставление Ромайзеля и Дегана: никаких показаний!
Где же застрял этот Деган? Что я вообще могу ему сказать, когда он придет? Могу я сказать, что моя дочь в Гамбурге?
Фекельди читает. Рядом стоит пишущая машинка. Издалека доносится уличный шум, словно пробиваясь сквозь какую-то пелену.
Фекельди откладывает письмо в сторону. Он размышляет, расправляя и сжимая пальцы над поверхностью стола, выпячивает нижнюю губу, морщит лоб и говорит, обернувшись к окну:
– У меня тоже есть дочь, фрау Этьен. Я не могу, конечно, полностью войти в ваше положение, потому что я мужчина. И потому что моей дочери нет еще одиннадцати. Но я понимаю, что вы… чего вы… что вы просто потеряли голову, когда это письмо от вашего убитого мужа…
Он пришел в себя, провел языком по пересохшим губам и снова обратился ко мне:
– Прошу вас, расскажите, как это произошло.
Они умеют обращаться с людьми, и у них в руках хороший материал. Как они узнали, что Кордес был моим мужем, что я получила извещение о его смерти и тому подобное, – остается для меня загадкой. Но они узнали это!
– Нет, – говорю я и качаю головой, – мой адвокат…
– Минуточку, – перебивает меня Фекельди. – Я знаю, что ваш адвокат запретил вам давать показания. Это ваше право. С этим ничего нельзя сделать. Я обязан вас также известить, что все, что вы скажете, будет занесено в протокол, и может быть использовано против вас. Но я вас прошу отвечать хотя бы в пределах возможного. Рано или поздно все равно придется все рассказать, фрау Этьен. Почему же не сейчас? Это значительно облегчило бы жизнь нам обоим, не так ли? Я вам уже сказал, что рассчитываю на понимание с вашей стороны. Мы могли бы попытаться… Ну?
Он выжидающе смотрит на меня. Я отрицательно качаю головой.
– Вдруг совершенно неожиданно появляется человек, – продолжает он без малейших признаков раздражения, – человек, с которым много лет назад была тесно связана ваша жизнь… Он, может быть, даже не имея никакого злого умысла, своим появлением грозит нарушить привычный ход вашей теперешней жизни… Кто бы на вашем месте не стал в подобном случае отбрыкиваться руками и ногами?
Умело он ведет дело! Наверное, именно об этом, и именно так я начала бы говорить. У меня отчетливое чувство, что это принесло бы мне немалое облегчение – говорить! Если бы это не касалось Неле… Возможно, он бы мне поверил и даже отпустил на все четыре стороны. Но Неле?.. Неле попала бы в опасную переделку. Кроме того, я обещала, я должна молчать.
– Я не убивала Кордеса, – говорю я, – и больше ничего не знаю.
– Ну, ладно…
Фекельди опять выпячивает нижнюю губу и откидывается назад.
– Это ваше дело.
Он вынимает лист бумаги из письменного стола, берет авторучку и говорит, не глядя в мою сторону:
– Но данные о себе вы, надеюсь, мне сообщите.
– Пожалуйста, – отвечаю я сухо.
Он задает обычные вопросы, которые привык задавать многим людям. Голос звучит равнодушно: имя, фамилия, девичья фамилия, овдовела, была замужем, разошлась, когда и где родилась, профессия, адрес, рост, цвет волос… Он записывает все с моих слов, не поднимая на меня глаз, даже не убедившись, действительно ли у меня карие глаза.
Закончив, он откладывает авторучку в сторону. Выглядит усталым, разочарованным. Мне его почти жаль. Жалко, что я не смогла – как это называется? – «обеспечить полное взаимопонимание».
– Да… Еще кое-что вы могли бы для меня прояснить. Возможно, вы знаете – это непосредственно вас не касается, – почему ваш первый муж изменил свою фамилию? Раньше он был Кордес, а теперь его фамилия Куртес. Почему он это сделал?
– Не имею никакого понятия. В самом деле. Он всегда был несколько эксцентричен. Кроме того, я его считала мертвым, и если бы не это письмо…
Следователь кивает:
– Да, конечно. Вообще-то комическая ситуация… Таким образом, извещение о смерти было похоронено. Впрочем, так часто бывает. И потом – другая фамилия. Однако он не очень интенсивно старался вас разыскать.
Я пожимаю плечами и ничего на это не отвечаю.
Из соседней комнаты доносится мужской голос. Он явно не знаком Фекельди, потому что следователь встает из-за стола и прислушивается.
– …да-да, сообщите, по крайней мере, что я здесь и ожидаю!
Доктор Деган!
Фекельди выходит из комнаты, закрыв за собой дверь.
У меня вдруг мелькает сумасшедшая мысль. Не успев додумать ее до конца, я встаю и направляюсь к двери в коридор. Моя сумочка – здесь, мое пальто – тоже. Замок – тихонько! Так. Дверь открыта. Возможно, я найду Неле и все выясню… Теперь – к лифту (где он?)… потом вниз и наружу! А может быть, лучше – по лестнице?
Но, прежде чем я попадаю в коридор, я понимаю, что снова совершаю ошибку. Из моего положения нельзя выйти, прибегнув к такому примитивному способу, как бегство.
Где я скроюсь? Меня снова схватят. Кроме того, они должны убедиться, что я не убивала Кордеса… А все-таки хочется… Да, мне хочется выбраться отсюда, но тогда Неле… Нет, исключено! С Неле ничего не должно случиться. Неле ведь тоже никого не убивала. Но… Кто же тогда убил?
Я отступаю от дверей и остаюсь в комнате.
Тихонько закрыв дверь и снова усевшись на стул, жду, когда появится Фекельди.
– Там ваш адвокат, но я, к сожалению, не могу разрешить ему разговор с вами здесь. Мы должны доставить вас в следственную тюрьму. Там он и получит разрешение на беседу с вами. Сожалею, но таковы правила.
Я ничего не отвечаю и стараюсь скрыть свое разочарование. Если существует такая инструкция, я обязана ее выполнять. Не думаю, что доктор Деган даст себя обмануть, если Фекельди решил схитрить.
«Следственная тюрьма» – это звучит страшновато.
Но что мне делать? Теперь мне все равно. Может быть, лучше было бежать?.. Письмо! Это письмо лежало все время у Фекельди на столе. Так. Что же я о нем даже не вспомнила… Я могла бы его изъять… Но для чего?
Фекельди звонит по телефону. Он спрашивает фрау Кёлер или Дёлер и просит ее прийти. Затем вписывает в дело две или три страницы, складывает все в папку, делает пометку на клочке бумаги и, забрав с собой дело и письмо, снова уходит в соседнюю комнату.
Двери остаются открытыми. Фекельди что-то говорит какой-то женщине, начинает диктовать. Стучат клавиши пишущей машинки. Я сижу, жду, сама не зная чего. Я борюсь со страхом, и гоню от себя мысль, что этот адвокат не является человеком, способным вызволить меня отсюда. Почему его уже там нет? Почему он так быстро ушел? Почему я с ним не смогла поговорить? Я должна с кем-нибудь поговорить…
Упомянутая фрау появляется в соседней комнате. Фекельди говорит с ней под стук машинки. Потом поворачивает лицо в мою сторону, фрау кивает и тоже смотрит на меня.
Вот она вошла, закрыла за собой дверь и сказала:
– Здравствуйте, я должна вас обыскать. Встаньте, пожалуйста.
Я не нашлась, что ответить, так была обескуражена. Конечно, этого следовало ожидать. Женщина среднего роста, домашнего вида, с седыми, собранными в пучок волосами стоит передо мной. Она потребовала, чтобы я встала. Я вдруг представила себе, как она ощупывает меня, как ее руки скользят по моему телу, – это уже слишком!
– Нет! – я вскакиваю со стула и кричу: – Нет! Нет! Оставьте меня в покое! Что вам от меня нужно?.. Я не позволю…
Дверь отворяется. Не входя в комнату, Фекельди говорит:
– Возьмите себя в руки, фрау Этьен.
Мой ужас и мое сопротивление сменяются полной беспомощностью. Я опускаюсь на стул и начинаю всхлипывать. Слезы принесли облегчение. Мне стало лучше.
Те двое ожидают, не проронив ни слова. Они смотрят на меня. Когда я несколько успокаиваюсь, женщина подходит ко мне.
– Это закон, – говорит она и дружески кладет руку на плечо. – Не сердитесь. Я обязана…
Ну, хорошо. Еще и это… Я встаю. Фекельди закрывает дверь.
Женщина осторожным движением снимает с моей шеи коралловые бусы, затем отстегивает наручные часики.
Я еще раз смотрю на циферблат. Одиннадцать часов.
Сотрудница привычно обыскивает, скользя руками по плечам, груди, по ногам, расстегивает пояс и стягивает его с меня. Все, что она отбирает, складывается на письменный стол. Затем, направившись к двери, женщина спрашивает о чем-то в соседней комнате. Стук пишущей машинки на минуту прерывается.
Фекельди отвечает:
– Нет. Я так не думаю.
– О'кей! – говорит женщина и возвращается ко мне. – Чулки, бюстгальтер и тому подобное он разрешил вам оставить.
– Да? – удивляюсь я. – А что, собственно, он не думает?
– Он не думает, что вас можно заподозрить в покушении на самоубийство…
В покушении на самоубийство? Хорошенькое дело! И все это спокойно, в деловом тоне.
Значит, у меня оставляют вещи в знак того, что Фекельди отметает покушение на самоубийство? Или он думает, что я настолько выбита из колеи, что не способна на это?
– Так-то оно лучше. Ни оружия, ни запрещенных предметов, приспособлений и прочего. Вот и хорошо! – говорит женщина и кивает мне, выходя из комнаты.
Равнодушный знак внимания без тени сентиментальности и без признаков участия в холодных серых глазах.
Боже мой, если она обыскивает женщин по долгу службы, возможно, по пять – десять, а то и по двадцать раз каждый день, откуда взяться этому участию? Конечно, теперь я только одна из многих. Не особенно безопасна, но и не особо опасна… Должно быть, в этом доме ежемесячно разбирают, по крайней мере, дюжину дел по подозрению в убийстве, а то и больше.
Вернулся Фекельди.
– Еще немного терпения, – говорит он. – Мы сейчас.
Берет отобранные у меня вещи. Возле двери оборачивается и оставляет мне пояс.
– Это можете надеть.
Его слова звучат как просьба, даже с оттенком извинения.
– Спасибо, – отвечаю я.
Наконец-то в соседней комнате прекращается стук пишущей машинки.
Из коридора за дверью доносится рассерженный мужской голос. На высоких нотах кто-то протестует: «Я буду жаловаться! Обязательно! Не забывайте, что мы живем в свободной…» Последнее слово – «стране» я уже не слышу. Возможно, он сказал: «в свободном государстве», я не расслышала и никогда уже не расслышу. В чем же его обвиняли? Может быть, он тоже кого-нибудь убил? Как тоже? Что, я уже сама смотрю на себя как на убийцу? Или я должна играть эту роль, если Неле…
Фекельди вносит в комнату чем-то наполненный пластиковый мешок и подает мне два листа бумаги с написанным от руки и напечатанным текстом.
Мне подумалось, что у меня сейчас, наверное, заплаканное лицо, и выгляжу я плохо. Я стала искать сумочку. Сумочки нигде не было.
– Где моя сумочка? – спросила я.
– Здесь, вместе с другими вещами, – указывает следователь на мешок.
– И я не могу больше?..
– К сожалению, нет – все зарегистрировано… Пожалуйста, прочтите и подпишите.
На первом листе, отпечатанном на гектографе, нечто звучащее строго официально: «…известно, какое противоправное деяние мне инкриминируется. Я была извещена…» и т. д.
И это я должна подписать? Так далеко зашло? Я размышляю. Ну, да ладно.
Фекельди подает мне авторучку. Я подписываю.
На втором листе опись отобранных у меня вещей.
Гарантируется их сохранность. В заголовке указано, что вещи «безопасны». Мой паспорт, письмо Кордеса, чемодан, содержащий… (среди вещей такие нужные сейчас семь носовых платков)… общей стоимостью 482 марки 85 пфеннингов, прописью: четыреста восемьдесят две 85/100 марки.
Я подписываю и эту бумагу.
Фекельди кладет оба листа в папку и поднимает телефонную трубку.
– Комиссия по убийствам. Фекельди. Мне нужна машина, закрытая. Подайте к зданию Комиссии. Сейчас, немедленно… Спасибо. Все. – Затем он открывает дверцу шкафа, за которой я вижу кофейные чашки. За ними – зеркало, освещенное сверху лампочкой, мыло, полотенце.
– Если вы хотите привести себя немного в порядок и освежиться, прошу, фрау Этьен!
Я благодарю и заглядываю в зеркало. Особенно заметных следов мои слезы не оставили. К счастью, носовой платок я обнаружила в кармане жакета и теперь могу кончиком платка вытереть глаза. Мою руки. Вода в кране сильно отдает хлором. Мыло, в свою очередь, также имеет специфический запах – словно в автобусе, до отказа набитом учениками балетной школы.
И все же эта процедура освежила меня. Несколько капель кельнской воды были бы, конечно, очень кстати, но я не решилась и заикнуться, чтобы мне позволили взять что-либо из сумочки. Возможно, они измерили содержимое флакончика до последней капли, и возьми я несколько миллилитров, им придется переписывать весь лист… Как только у меня могло возникнуть такое детски легкомысленное желание! А не посмотреться ли в зеркало? Пристальное созерцание собственной физиономии привело меня к выводу, что она у меня явно не в порядке.