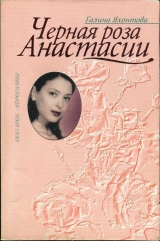
Текст книги "Черная роза Анастасии"
Автор книги: Галина Яхонтова
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
И вот она готова к приему гостей. К первому приему с тех пор, как… Каштановые волосы гладко зачесаны, высокий лоб открыт. С такой прической Настя напоминала венецианок со старинных портретов. Платье цвета торжества и траура. Колготки с бархатной набивкой на щиколотке – тоже черные, но тончайшие, а потому очень нарядные. И туфли. Те самые, итальянские, с каблуком рюмочкой и пряжкой. Она была в них, когда познакомилась с Евгением. Будь он неладен, тот день, когда она испортила жизнь хорошему человеку, вкрутив его, как в мясорубку, во все свои злоключения.
А ведь они могли быть так счастливы, если бы… Может быть, кто-нибудь наложил на нее проклятие? Может быть, нужно нанести визит ясновидящему? К Игорю? Но ведь он и так увидел бы, узрел подобную „печать“ на ее судьбе. И сказал бы.
Нет, это не проклятие, а сама судьба…
– Настенька, как ты замечательно выглядишь! Ну просто мадонна! – Настя не слышала, как вошел Евгений.
– Нет, Женя, мадонны из меня не вышло…
– Прости, я не сообразил. – Он смутился.
– Ничего, бывает…
В последнее время Настя чувствовала себя так, словно лишилась какой-то оболочки, тонкого хитинового покрова. Ее душу больно ранили, казалось бы, самые безобидные слова.
– Ребята вот-вот подъедут.
– Так кого же ты все-таки пригласил?
– Увидишь! А стол вы приготовили замечательный.
– Это все Зоя Степановна. Я предлагала ей остаться и поужинать с нами, но она отказалась наотрез. Сослалась на то, что не одета к торжеству.
– Да, она ушла. Я встретил ее в дверях.
„Смена караула, – подумала она. – Сторожат, словно я не могу, закрывшись в спальне, тихонько отравиться или повеситься, несмотря на их недремлющие очи… Как глупо! Ведь себя страхуют, свою совесть спокойную, а не меня. И балерина потому все время меня окликает и тревожит. Кричит: „Спуститесь накрыть стол?“, а я слышу: „Вы там живы?“ Стол все равно накрывала она одна. А я только стояла и смотрела…“
За окнами послышался шум мотора. И сигнал: долгий, какой дают таксисты, подкатившие с молодоженами в салоне к ресторану.
– Приехали, Настюша! – Пирожников смотрел в окно.
Она тоже выглянула, но никого не увидела. Только „вольво“ белого цвета.
„И почему это все его дружки так любят ездить на „вольво“?
„Дружки“ не заставили себя долго ждать. Из машины вышел Коля Поцелуев с неизменным „пайковым“ пакетом. „Тоже мне сюрприз – Коля Поцелуев. Да он названивает не реже, чем раз в день!“ Николай, поставив пакет, галантно открыл другую дверцу и подал руку… Марине! Она вышла, осторожно держа букет белых (хорошо, что не алых) роз и еще что-то плоское, похожее на коробку конфет.
Когда Настя вошла в гостиную, Марина уже сняла шубку (песцовую!) и причесывалась перед зеркалом. Подруга была одета в светло-серое, очень элегантное платье, с первого взгляда на которое было заметно, что эта вещь „от кутюр“. Марина заметила Настино отражение рядом со своим.
– Настенька! Как ты похудела.
– Да уж, похудела…
И в этой невинной реплике раненый слух сумел расслышать трагический смысл.
– Но все равно красивая! – воскликнула Марина.
Понятно было, что она не улавливает напряженности, слишком занятая собственными ощущениями.
– Ты… с Николаем?
– Мы все расскажем. Все! Когда сядем за стол. Мужчины как раз пошли на кухню, там порезать кое-что, разложить на тарелки.
– Стол накрыт. Он полон.
– Ну и что же… Чем больше блюд, тем лучше.
Настя заметила, что Марина очень изменилась. И не внешне, а в поведении: в ней появилась всепоглощающая страсть приобретать, тратить и купаться в роскоши. Саму Настю подобный недуг, к счастью, миновал…
– Ты очень изменилась, Марина.
– Ха-ха! Я так рада, что это заметно. Да, вот – розы. Тебе! Поставь, пожалуйста, в вазу. Их, между прочим, доставили утренним рейсом из Греции.
Цветы пахли белым мрамором древней Эллады. Казалось, что они выросли на ступенях Акрополя, занесенные туда пеной от волны, вынесшей на берег из пучин морских Афродиту. Богиню любви.
Да, их с Евгением свадьба вроде бы принесла счастье. И, может быть, в первую очередь – Поцелуеву и Марине. Сладкая парочка!
– Настя, ты ведь любишь серебряный век?
– Обожаю…
– Я хочу сделать тебе подарок. – Она освободила от упаковки тот плоский предмет, который Настя приняла было за коробку конфет. – Вот. Правда, текст французский, но ты ведь знаешь немного?
– Вот именно, немного.
– Но главное – репродукции. Посмотри, какое качество!
Настасья опустилась в кресло-качалку и раскрыла это чудо полиграфического искусства. Не надо было даже читать подписи под репродукциями, потому что мгновенно, по манере, узнавались мастера: Сомов, Бенуа… Но как похожи и непохожи они оказались на себя, вернее, на то, что она до этого момента о них знала! Как неожиданны были эти сюжеты романтика и сказочника Константина Сомова, любившего изображать арлекинов! А здесь: раннее утро и обнаженные усталые любовники в постели, где на рассвете их наконец-то одолел сон. Прекрасная эротика, „мягкая“, как охарактеризовал бы эти картины Каблуков.
Настя листала дальше. Все – до единой – работы находятся в зарубежных частных собраниях. И все незнакомы российскому зрителю. „Уплыл“ целый пласт культуры… Хотя можно было догадаться, что мирискусники создавали и такое. Можно было сообразить, просто логически дойти, хотя бы читая поэзию серебряного века. Ведь в стихах все это осталось! Красота чувств и обнаженного человеческого тела. Чистого, как мрамор. Как розы, доставленные из Греции.
Ее размышления прервал Николай. Он появился, держа несколько бутылок с шампанским.
– Вы уже наговорились, девочки? Да? Тогда попрошу за стол – будем развлекаться.
Они прошли в столовую, и Настя увидела, что на столе появились осетрина, омары и вездесущие противные устрицы. Впрочем, Сомов и Бенуа в Париже их употребляли, не морщась. И даже, очевидно, с удовольствием. Сразу стало шумно и суетливо. Но не празднично. Или так казалось только ей?
– Наливаю-наливаю, давайте бокалы! – Бутылка шипела и извергалась в руках у Николая. – Настя, где твой бокал? Тебе ведь уже можно?
Снова – ножом по сердцу… „Мне уже можно не то что один бокал шампанского, но целую бочку…“
– Первый тост скажет хозяин!
– Нет, пусть сначала гость проинформирует о целях визита, – предложил Евгений.
– Да, пожалуй! – Поцелуев сделал паузу. – Господа! Мы сегодня собрались здесь, потому что хотим отметить знаменательное событие. Два взрослых, битых жизнью человека наконец-то нашли свое счастье. Причем – благодаря вам, наши дорогие супруги Пирожниковы! Так вот, мы с Мариночкой уже месяц как живем вместе, а скоро сочетаемся законным браком. Как только я получу официальное свидетельство о разводе…
Видно, почувствовав, что приятеля заносит слегка не в ту сторону, Евгений произнес тост:
– Давайте выпьем за счастливый союз Марины и Коли. Пожелаем им всего хорошего, а главное – взаимопонимания!
Анастасия пила вино медленными глотками и думала о том, что на взаимопонимание эта парочка просто обречена. Еще бы, адская смесь секс-шопа с сексом по телефону! И устрицы вроде бы совсем ничего. Даже замечательные. Вот что значит привычка!
А Марина уже пустилась в рассказы, на которые она была большая мастерица. Настя иногда думала, что ей надо бы не критикой заниматься, а прозой. В стиле Зощенко.
– Ездили мы в конце сентября в Питер. Ну, большая группа слушателей Высших литературных курсов и несколько аспирантов…
Она подкрепилась шампанским, чтобы продолжить, а Настя снова ощутила боль. На этот раз от упоминания о слушателях ВЛК, с которыми провела три месяца в одном коридоре. И о слушателе ВЛК Коробове…
– Так вот, сели мы в „Красную стрелу“. А ребята из „Сибири“, конечно же, все тепленькие были. Еще в дорогу взяли пол-ящика „горючего“.
Да, самое главное упустила, к Володьке Старых как раз накануне приехала жена. Он ее, конечно, тоже в поездку взял. Сидела эта бедная женщина в купе с алкоголиками, а потом поссорилась с Володькой и перестала с ним разговаривать. Ушла к нам в купе, но Володьке спьяну показалось, что она легла спать у них на нижней полке.
И вот, представляете, ночь, экспресс на полном ходу, алкаши храпят по углам беспробудно. А Володька на своей верхней полке ворочается, проспавшись, переживает, что жену, которая к нему ехала из Магадана, совсем как декабристка-наоборот, обидел и даже матом обругал. Так он лежал-лежал мучился, а потом возьми и спустись.
Присел на нижнюю полку с краю, руку под одеяло просунул и давай кого-то по ножке гладить. Гладит он, гладит. И тот, кто лежит, хотя слышно, и не спит уже, но и не подает виду, что проснулся. Видно, приятно ему. И тут до Володьки доходит, что и кожа у „жены“ не такая гладкая, и ножка какая-то волосатая. Он возьми одеяло и приподними, а тот, кто лежал, видно, возбудился, и – хвать Володьку!
Старых заорал немым голосом, потому что узнал Башарова, ну, татарского поэта. Между прочим, из пассивных педерастов. Потому тот и воспринял Володькины ухаживания, как должное.
Володька, в чем был, а он был уже безо всего, как выскочит в коридор и давай стучать во все двери и вопить: „Отдайте мою жену! Верните жену!“
Такая вот была веселая поездка.
Мужчины смеялись, а Настю раздражал их смех. Но никто не замечал ее состояния. Вечер продолжался. Николай с Евгением удалились в холл покурить. Марина порывалась было за ними, но, мгновение подумав, решила остаться. Настя больше не курила. Как бросила тогда, когда носила малыша, так и не начала. Марина проворно освободила банан от шкурки.
– Ах, чудесный плод!
Даже слово „плод“ вызвало у Насти антропоморфные ассоциации. Сколько раз доводилось слышать: „Сердцебиение плода нормальное…“ Нет, она решительно сходит с ума.
– А знаешь, ты правильно сделала, что не стала бороться за Ростислава. Он действительно никчемный человечишка. И к тому же подлец. Да, кстати, его бывшая с ним наконец-то развелась и, по слухам, уже вышла замуж. Так он ходил, пьяный, из комнаты в комнату и причитал, что она отняла у него сына, что ее, ну, ту, он не любит, но Юрика обожает. А потом, наверное, вспомнив о тебе и о… ну, младенце, зарыдал, упав головой на грудь: „Все мои дети вырастут без отца“.
– Как – дети?!
– Он и твоего имел в виду. Еще не знал ничего…
– Ах, так…
– Ну тут ему и сообщили. И…
– Что же?
– Ты только не волнуйся… Но он обрадовался. Даже рыдать перестал. Говорит: гора с плеч и пятно с совести.
Настя молчала, ошарашенная. Да, она, конечно же, помнила, как Ростислав оскорблял ее, как он говорил всякие гадости. Но ведь это было обращено к ней, к женщине, которая, может быть, и вызывала раздражение, поскольку действовала непредсказуемо.
„Но радоваться смерти ни в чем не повинного ребенка. Собственного сына! Это уж слишком… Но почему его сына?.. Кто был отцом малыша: тот, кто его зачал, или тот, кто желал его взрастить? Кто же? И почему я считаю, что кто-то желал, чтобы он был? Евгений, скорей всего, просто делал вид, что согласен его усыновить. Он не мог бы, не мог любить его, чужого, раз уж собственный, природой данный отец так обрадовался его смерти… Он никому не был нужен, кроме меня… Никому на свете. И я не хочу больше здесь оставаться, я не могу больше жить с мужчиной в одном доме – с этим ли, с другим ли… Я уйду в свое логово, в берлогу, в дупло – зализывать раны. Уйду…“
Ходики прокуковали девять вечера. Застолье было в самом разгаре. А Настя вынашивала мысли – одну безумней другой. Вынашивала, как ребенка.
– Настенька, у нас, кажется, еще остались яблоки? – спросил Евгений, имея в виду большой ящик чудесных зимних антоновок, который появился у них в доме две недели назад и наполнил пространство ароматом спелости.
– Да, Женя… Я пойду в кладовку, принесу.
Освещение в кладовке было тускловатое: вчера перегорела лампочка, не нашлось запасной „сотки“, пришлось вкрутить „сороковку“.
Она искала яблоки. Очевидно, ящик стал велик для той жалкой дюжины, которая осталась. Здесь нет, и здесь, и в углу… А что это за большая картонная упаковка? Настя ее раньше вроде бы не замечала… Что в ней? Она открыла коробку и увидела… Лучше бы она не открывала и не смотрела, не поддалась позывам непреодолимого женского любопытства… Потому что там, в коробке, были сложены распашонки, пеленки, памперсы, игрушки – те самые, которые Евгений привез из Германии. А вот и маленький белый медвежонок.
„Но этого медвежонка уже никто не будет укладывать спать. Никому он не станет любимой игрушкой. Никогда… Или?.. Зачем же муж все это так аккуратненько сложил и припрятал? Этот самый, запасливый мой, который писал, что начинает готовить дом к приезду нового жильца? Вот же оно, здесь: все, что он подготовил. Лежит до лучших времен? Дожидается, когда я еще кого-нибудь рожу? Родного Пирожникову ребенка? Нет! Мне нужен был только этот, он один, который шевелился во мне и толкался ножками…“
Она унесла медвежонка и, крадучись, прижимая к груди мягкую ношу, пробралась в холл, а потом спрятала игрушку в сумочку, отчего та раздулась, как живот беременной женщины.
А потом возвратилась в кладовку и все-таки нашла остатки былой роскоши – дюжину яблок, последний подарок Прозерпины, снова спустившейся в подземное царство.
Наконец-то Коля и Марина уехали. Причем Коля изрядно хлебнул шампанского. „Как же он за рулем?“ – беспокоилась Настя, но потом перестала: даст на лапу гаишнику, если что, ему не впервой.
И Евгений расслабился, зарумянился, словно принял эстафету от съеденного гуся. Он ослабил узел галстука и отвалился на спинку кресла. „Это же надо, весь вечер пробыл в галстуке, „этикетчик“ несчастный“, – мысленно брюзжала Настя.
– Настенька, уже за полночь. Пора спать?
– Да. Ты поднимайся наверх, а я приму душ.
– Ладно… Я тоже хотел ополоснуться, но сил нет ждать. Отложу до утра…
Он поднимался наверх, и деревянные ступеньки поскрипывали совсем не так, как когда-то скрипели металлические.
Настя вошла в ванную и открыла краны. Упругие струйки убегали в канализацию, невостребованные и лишние, как тропический ливень. Она знала, что там, наверху, слегка слышен водопроводный шум, и очень надеялась, что это мелодичное естественное шипение окажет на Евгения дополнительное снотворное воздействие.
Сколько времени прошло? Полчаса? Час? Она утратила чувство внутреннего „хронометража“, а потому посмотрела на ходики: половина второго.
Ах, как отвратительно поскрипывают ступеньки… И двери – их нужно смазать. Хотя – зачем?
Евгений крепко спал, и лицо у него во сне было доброе, открытое, как у ребенка.
„Ребенка“ – опять это слово! Она тихо позвала супруга:
– Женя!
К счастью, он не реагировал. С утра до ночи – на ногах. Устает неимоверно. На какое-то мгновение Насте стало его жалко. Но этот прилив теплых чувств все равно уже не в состоянии был предотвратить то, что она замыслила. Она была уже не здесь, не в этом доме, не с этим мужчиной. И нигде – в миру, пущена по миру, словно снег, что так долго и неотвратимо падал.
Как тот, первый снег…
Анастасия надела свою вечную каракулевую шубу прямо на тонкое платье. Натянула сапоги, не замечая, что зубья замка прикусили тончайшие черные колготки с бархатной набивкой. Кое-как замотала голову черным шарфом и вышла из дому, не взяв ключей.
В ее сумке лежали другие ключи – от возрожденной „хрущевки“ – и маленький белый медвежонок. Ей казалось, что он теплый, что он греет бок сквозь сумку, сквозь шубу, сквозь платье…
Снег скрипел под ногами мерно, умиротворенно. Он скрипел так, словно стоял большой мороз. Но она не чувствовала холода в полном безветрии. В мире, где остановилась жизнь.
Вот только пальцы ног, начиная с мизинцев, затекали и деревенели.
Настасья Филипповна шла под звездным небом в направлении близлежащего шоссе. Она шла по фантастическому миру темных окон, погруженных в сон домов, пустынной дороги и первозданного, чистого снега. В ночи он казался „безупречно чистым“, как выражаются в рекламе стирального порошка.
Наконец-то она одна – ни Евгения, ни Зои Степановны, никаких лиц и голосов из прошлого, из ее несчастного прошлого, о котором она хочет навсегда забыть, перевернуть прожитую страницу, заменить ее на чистую, как этот снег в ночи.
Вот и шоссе. Настя вышла на обочину и брела в направлении к городу. Сколько надо идти? Километр? Два? Пять? Она перестала ощущать не только время, но и расстояние. Просто перемещалась, двигалась, подобно тому, как это делали странники и паломники.
Пальцы на руках под тонкими перчатками, кажется, перестали сгибаться… И ноги стали уже не деревянными, а бронзовыми. Редкие машины время от времени проносились с сатанинским свистом. Те, кто ехали в них, наверное, принимали ее за невесть как выросший на загаженной обочине куст. Или за сумасшедшую, что было не так уж далеко от истины.
Она одна, одиночка, теперь – навеки. Если бы он был жив, ее малыш! Был бы он с ней, и неважно, кто бы там считался его отцом, хотя бы и сам Люцифер. Ну и что!.. Но сын покинул ее… И Бог покинул ее… А она покинула весь остальной мир. Почти как сестра Варвара…
Нет! Варвара перешла из одного мира в другой. Она все равно занята земными заботами – помогать болящим и страждущим. Она есть, существует – здесь и сейчас.
А Насти нет. Она ушла ото всех и вся. Она пытается убежать и от себя.
Боже, какие страшные черные деревья! Словно воинство Дьявола, они окружали ее со всех сторон, подступали к дороге, вот-вот загородят путь. „Как темно, как ужасно, как беспросветно“, – хотелось закричать.
И вдруг…
Вдруг Настя, словно по мановению волшебной палочки, оказалась в сплошной полосе света. Он исходил из двух светящихся точек, которые медленно надвигались прямо на нее. Так медленно, что она видела, как они, словно в сказке Андерсена глаза собак, превращались сначала в чайные чашки, а потом – в блюдца…
И некуда было свернуть, чтобы скрыться от этого света, потому что слева – обрыв, склон, снег и бурьян. А справа – дорога и лес, сугробы.
До ее слуха долетало урчание мотора – утробное, вулканическое. Чудовище не тормозило. Оно просто медленно, методично медленно надвигалось, словно явилось исполнить то, что Настя задумала – исчезнуть, не быть, раствориться, быть втоптанной в этот заснеженный асфальт, смешаться со снегом и растаять вместе с ним. Философы называют подобную страсть инстинктом смерти.
Она стояла посреди дороги, словно распятая на скрещении двух потоков света, покорная, наконец-то подчинившаяся судьбе, и смотрела прямо в глаза ослепляющему чудовищу. И не чувствовала, как по щекам катятся слезы и замерзают на шарфе, на воротнике из шкурок бедных новорожденных ягнят.
„Динозавр“ замер в шаге от нее, и она протянула руки, опираясь на капот, чтобы не упасть. И все равно осела на землю…
Какие-то темные фигуры уже суетились рядом с нею. Сильные руки подхватили ее почти неощутимое тело. Низкие голоса звучали взволнованно, но слов разобрать она не могла. И сама не произнесла ни звука, потому что голос замерз, как и слезы.
– Что ж это вы, девушка, по ночам разгуливаете? Да еще одна!
Настя молчала.
– Разве вы не понимаете, что это опасно? Что так можно стать жертвой преступления? Особенно в наше неспокойное время?
Она не отвечала. А „проповедник“ стащил с ее ног, которые она уже перестала чувствовать, сапоги и принялся массажировать, растирать ступни.
– А мы патрулируем и видим: бредет кто-то. Сначала показалось – призрак. Но призраки, по словесным портретам, в белом ходят. А вы в черном разгуливаете.
Настя продолжала молчать, но от „профессионального“, слегка кондового обращения милиционера почему-то становилось легче на душе.
А другой, тот, который сидел рядом с водителем, по всей видимости, старший в их команде, уже достал высокий, вытянутый, как оружейный снаряд, термос и налил в кружку дымящуюся жидкость. Потом вытащил плоскую фляжку и добавил несколько „булькалок“.
– Вася, пусть девушка согреется! – Он передал кружку подчиненному.
– Пейте. Сейчас теплее будет… Лишь бы простуду не подхватили… Это ж надо – в такой мороз, и почти босая!
Напиток пах дикими травами, хвоей и чем-то неуловимо знакомым. Когда-то она уже пробовала нечто подобное. Ах, да – это же „Алтайский бальзам“, ее угощал им Валерка Флейта год назад… Нет, больше года назад. Сколько всего произошло за это время!
– Ну как, прочухались? – Старший явно не обучался в кадетском корпусе.
– Прочухалась, – наконец-то подала она голос. И сама удивилась его звучанию. Ну овечка божья, да и только!
– Мы, к сожалению, в ближайшие три часа не сможем отвезти вас домой. Служба есть служба. Так что выбирайте: либо с нами ездить, либо в отделение можем доставить.
– За что… в отделение?
– Не „за что“, а нас подождать. Или до утра перекантоваться.
– А может, высадите меня? Я уже отогрелась.
– Ни в коем случае! Вы не отдаете себе отчета, как это может быть опасно. – Он внимательно смотрел на нее, и Настя предположила, что его „бортовой компьютер“ анализировал ее данные: возраст, слезы, черная до ниточки одежда. Кажется, за потенциальную преступницу он ее не принял.
– Не надо в отделение, – попросила она.
– Тогда – с нами?
Настя заметила сквозь отдушину в покрытом дивными узорами окошке „уазика“, что они уже въехали в город, пустынный и тихий, как и шоссе. Кое-где в поле зрения попадали бессонные окна, и она начинала чувствовать себя не такой одинокой в этом мире.
Негромко работала рация. Старший о чем-то переговаривался, потом машина резко сменила курс. Но Насте не было дела до ночной охраны правопорядка. Она положила голову на вовремя подставленное плечо сержанта Васи, успевшего завернуть ее все еще гудящие ноги в невесть откуда взявшееся одеяло, и заснула.
… Она лежала на берегу потрясающе голубого моря, закопавшись вся – кроме головы – в мягкий теплый песок и ощущала себя словно похороненной, но не погребенной.
Она пыталась пошевелить пальцами рук и ног, и они с трудом – но поддавались усилиям.
Она смотрела в небо: там вились, парили, объединялись в пары и разлетались в стороны прекрасные белые птицы, вечно юные, как ее героиня Нисияма.
Она присматривалась к их полету, подобно древнему гадателю, который по полету птиц стремился предсказать судьбу – свою и целого племени. Но вдруг заметила, что это вовсе не чайки, а вороны, белоснежные, искрящиеся на солнце, перламутровые.
Белые вороны! Все мы – люди – белые вороны. Но никто не замечает, что „белый“ – не он один, а потому каждый чувствует себя дискомфортно.
Вороны что-то кричали, но она разучилась понимать по-птичьи. Она уже не птица, а женщина, и не может улететь со своей стаей.
Ее взор устремился в сторону моря – туда, где сходятся земля и вода. На самой кромке она увидела Евгения, своего супруга, который смотрел вдаль – туда, где соединяются море и небо. И ее охватило неодолимое желание встать рядом с ним в этой „точке раздела“ стихий и так же, как он, смотреть на неподвижную линию горизонта.
Она пыталась выбраться из-под слоя песка, но не могла… Сначала она освободила одну руку, потом другую, и быстро, словно была рождена ползать, рыть и вслепую постигать свои пути, пыталась освободиться… Песок сыпался, снова сыпался на нее…
Она пробудилась так же внезапно, как и уснула. Сержант Вася осторожно освободил свое плечо от „романтической тяжести“, предоставляя взамен вчетверо свернутую куртку, подбитую мехом. Настя вывернула куртку мехом наружу верное средство избавиться от влияния темных сил – и уютно устроилась на бархатистой цигейковой мохнатости.
– Подождите полчасика, – сказал Вася, – мы тут одного дебошира усмирим. Возможно, забрать придется, так вы уж не пугайтесь, если мы его приведем.
Милиционеры возвратились минут через двадцать, оживленно беседуя, очевидно, обсуждая происшествие.
– Что ж она вызывает, если не хочет, чтобы мы его приструнили? – недоуменно спрашивал Вася.
– Женишься – поймешь, – отвечал ему капитан. – Припугнуть она его хотела просто… Муж и жена – всегда одна сатана. Иногда даже дело заведешь, протокол составишь на мужа – хулигана и дебошира, а жена придет через день и заберет заявление.
– Почему же? – не унимался сержант.
– А черт его знает почему. Жизнь так устроена, что жена к мужу тянется. Даже если он такой, как этот… Грибанов. Ишь руки распустил, ножи метал.
– Но он же может бабу свою прирезать в следующий раз! И дочку!
– Может… Но, знаешь, если не насмерть резанет, то она ему все равно в конце концов простит, да еще в тюрьму на свидания ездить станет и плакаться, что очень без него тужит. Вот так-то, Василий. – Капитан уже сел в машину: – Ну, как там наша спасенная?
– Почему – спасенная? – удивилась Настя.
– Потому что девять шансов из десяти, что, если бы мы вас не подобрали, то подобрали бы к утру ваш труп где-нибудь на обочине. – Он улыбался, а ей стало страшно.
Наконец-то страшно!
– Неужели – сразу и труп?
– Конечно! Вы же представляли собой исключительно легкую добычу… Ехала бы какая-нибудь другая машина – и все… А мне потом на участке – преступление нераскрытое…
– Они проезжали…
– Кто – они?
– Другие машины.
– Ваше счастье. В рубашке родились.
В рубашке. В белой рубашке, в которой рожают и ведут на плаху. В длинной смирительной рубашке…
„Козлик“ петлял по спящим улицам, и ее спутники радовались, что дежурство проходит спокойно. И с каждой четвертью часа в городе появлялось все больше светлых окон. Она никогда раньше не думала, что так много людей бодрствует по ночам.
Милиционеры были рады ее обществу, которое помогало скрасить нудное дежурство. Они снова пили чай из термоса, и Настя рассказывала патрульным про их родную Москву. Она вспоминала истории из Гиляровского, которого ее спасители, оказывается, не читали. И, кажется, забывала о несчастьях, вырываясь из замкнутого круга, беседуя с этими чужими, новыми людьми, ничего не значащими в ее жизни. А может быть, как раз и значащими? Ведь они были уверены, что спасли ее.
Капитана звали Валентином. Но почему-то это совпадение имени и места службы не вызвало у Насти неприятных ассоциаций. Было и прошло! А значит – не было, сплыло, как прошлогодний снег.
– Настя, хотите пирожное? Или торт? Или, может быть, поесть? – спросил Валентин-второй.
– А что, у вас тут и торт есть? – поразилась она милицейскому сервису.
– Тут нету. Ну что, хотите?
– Хочу! – выпалила Настасья, уловив дух авантюризма в его вопросе.
– Сейчас будет. – Валентин включил рацию: – Ваня, прием, ты меня слышишь? Это Двадцать второй. Ты меня слышишь?
Что-то щелкнуло и затрещало, как в старые недобрые времена „заглушка“ „Голоса Америки“. Но потом сквозь зуммер прорвался голос:
– Да, Двадцать второй. Слышу вас хорошо.
– Ваня! Нам торт нужен. Можешь помочь?
Секундная пауза, а потом:
– Какой торт: суфле или шоколадный?
– Суфле или шоколадный? – повторил Валентин, предоставляя право выбора Насте.
– Суфле, – ответила она, увлеченная игрой.
– Суфле, – рефреном повторил капитан. – Ваня, мы подъедем через десять минут.
– Есть, – ответила рация и отключилась.
„Козлик“ остановился у ярко освещенного ночного заведения, коих развелось великое множество, и Анастасия прочла на вывеске: „Испанский уголок“.
Из дверей, протискиваясь меж курильщиками и легко отстраняя вышибалу, появился невысокого роста, но коренастый, сразу видно – тренированный парень в сером штатском костюме. Он держал в руках коробку и направился прямо к „уазику”.
– Привет, – сказал он. – Ваш торт-суфле.
– Спасибо, Ваня, – ответил Валентин, – век не забуду и с получки отдам.
– Да ладно, какие там счеты! – улыбнулся Ваня широкой улыбкой. – Я вот для вас еще пару бутылок „Пепси“ захватил, чтобы торт было чем запивать. Извините, в карманы больше не влезло.
– Как у тебя здесь? – Валентин принял дары. – Спокойно?
– Нормально. „Объект“ снова не появился. Наверное, зря мы его тут караулили.
– Начальству виднее.
– Пожалуй… Ну что, я пошел? – Он снова улыбнулся, на этот раз потому, что заметил Настю.
Они ели свежайший, пахнущий миндальными орехами торт. Машину иногда подбрасывало, они хохотали, замечая белые пятна от суфле на щеках и носах друг друга. Совсем как в американских комедиях! Разговаривали о чем-то вовсе необязательном, житейском, но подтолкнувшем Настю признаться в „грехе“ стихописания. Сержант Вася, в свою очередь, тоже отважился на признание, что и он, дескать, знаком с одним поэтом, которого частенько приходится транспортировать до вытрезвителя. За этими интересными беседами их и застало раннее утро. „Маяк“ пропикал шесть раз, но за окнами было совсем темно. В это время года ночи длиннее, и у новых приятелей Насти было много работы. Потому что так повелось, что все самое прекрасное и все самое чудовищное на земле творится в основном в темное время суток.
Ночью убивают, насилуют, грабят, ночью выпадают из окон… И ночью же пишут стихи, укачивают детей, любят… Что ни говори, а человек – ночное существо.
Дежурство заканчивалось.
– Куда вас отвезти? – спросил капитан.
Она слегка замешкалась, а потом все же произнесла:
– Если можно, то, пожалуйста, в Марьину Рощу.
– Отчего ж нельзя?
– Оттого, что далеко…
– Ну, нам сегодня семь верст не крюк. Правда, Василий?
– Так точно!
Мимо Ямской слободы, Бутырок, Хуторских слободок, мимо, в „Гиляровском“ прошлом, преступно-полицейского сердца Москвы они ехали в Марьину Рощу, где когда-то обитала Верка-модистка, несчастная героиня говорухинского телесериала, как и Настя, любившая „черную кошку“…
Москва просыпалась. Навстречу уже попадались полупустые троллейбусы, с отвратительным воем проносясь на большой скорости.
Вот „УАЗ“ свернул на знакомый путь: тут год тому проезжали под сиреной пожарные машины, и остановился у подъезда.
– Спасибо, ребята.
– Не за что. Звоните в случае необходимости. – Валентин протянул ей визитную карточку. Оказывается, и у стражей порядка они тоже вошли в моду.
– Я думаю, увидимся. – Она взяла карточку. – Ну, мне пора.
– И нам тоже. Меня дома дочка заждалась. Я ее, знаете ли, один воспитываю… Жена, ну, дело житейское, нашла себе другого, поспокойнее. И денег больше зарабатывает. – Капитан грустно улыбнулся.
– Так что же она, одна? Всю ночь? – удивилась Настя.
– Почему одна? Она с моей мамой, то есть с бабушкой своей, но скоро, наверное, придется оставлять одну: бабушка болеет очень, а Машенька большая уже – ей пять исполнилось на той неделе.
Настя заметила, с какой нежностью, совсем не свойственной людям его профессии, он говорит о малышке. Она открыла сумку, чтобы спрятать визитку… и увидела чудесного белого медвежонка в клетчатой жилеточке с бархатными пуговками. Она успела совсем забыть о нем!
– Валентин, можно, я сделаю подарок вашей девочке? Ей понравится! – Она сунула медвежонка в руки строгому капитану.
– Благодарю, Настя. Маша как раз мечтала о такой игрушке. – Он был растроган почти до сентиментальных ноток в голосе.






