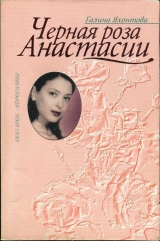
Текст книги "Черная роза Анастасии"
Автор книги: Галина Яхонтова
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Безусловно, роботы, способные лишь на простые операции, появятся раньше, чем наделенные каким-то интеллектом. К тому же подгонять всех роботов под единый высший стандарт было бы и экономически расточительно, и бессмысленно. В результате наш мир может в каком-то смысле уподобиться феодальному. Как сегодня у человека есть стиральная машина, холодильник, радио, телевизор, так у него сможет появиться „двор“ андроидов, относительно примитивных интеллектуально, но по телесному облику не отличающихся от людей (хотя во избежание недоразумений они могли бы носить какой-то знак). Не исключено, что в таком обществе утвердится культурная норма, в соответствии с которой сексуальный интерес к этим манекенам окажется извращением – более или менее так, как сегодня садомие. Таков один из вариантов эволюции.
Но может произойти и иначе: эпизодические развлечения с андроидами будут восприниматься как нечто абсолютно неважное. Или как мелкий вполне простительный грешок – вроде того, как сегодня смотрят на самоудовлетворение.
За пределами нормы окажется лишь тот, кто отдает куклам предпочтение перед живыми людьми. А поскольку воспроизвести в тефлонах и нейлонах телесную красоту куда легче, чем психические структуры, в сфере „человеческих“ сексуальных отношений стали бы целиком доминировать ценности, почитаемые высшими: там имели бы значение лишь духовные, психические качества партнера, ибо заполучить „красавицу-роботессу“ можно было бы в любой момент, а завоевание реальной живой женщины или, разумеется, мужчины (ситуация равно распространялась бы на оба пола) было бы незаурядным успехом“.
Настасья связала ленточкой и Станислава Лема. Мысли роились в ее милой головке. Сопоставляя цитируемых авторов, „включив“ свою литераторскую интуицию, она пришла к некоторым выводам. Например, к тому, что в идеале женщина тоталитарной эпохи механистичнее любой игрушки, поскольку программируется намертво – раз и навсегда. Идеи изменяют не тело, которое, как пишет Лем, легко воссоздать при достаточном уровне технологии, а душу – психические структуры. И фантастику Насте хотелось сочинять именно про душу, а не про тело…
Высокий каштан с мощным стволом, изогнутыми ветвями, в это время года особенно некрасивыми, рос под окнами. Все вокруг уже успело зазеленеть: березы, липы, трава. А каштан все ждал своего часа, плотно сжав светло-зеленые, огромные, удивительно живые на вид почки. Анастасия знала, что скоро, очень скоро – в одну прекрасную ночь – дерево выбросит вверх из куцеватых пучков листьев матовые бело-зеленые свечи своих необычных цветов, призывно и удушливо-терпко пахнущих. И тогда корявые каштановые ветви станут прекрасными.
Она спустилась по лестнице, повторяя имена каких-то героев, даты чьих-то жизней, названия городов и стран, где жили и творили гении.
Сессия, и сегодня снова надо было что-то сдавать… Какую-то очередную „зарубежку“.
Настя подошла к старому институтскому особняку, затененному ярко-зеленой завесой первой листвы, понимая, что ни за что бы сюда больше не приходила, если бы не дела. Она чувствовала себя уже нездешней, ушедшей в иные миры и жизни, когда шла по двору, в котором произрастала роза ветров ее прошлого. Удивительно и почти невероятно, но по пути она не встретила никого из знакомых.
Настя исчезла в недрах здания, а уже через полчаса вышла с чувством исполненного долга и свежей записью в зачетке. Осчастливленная хорошим началом дня и потеряв при этом всякую „бдительность“, она направилась в сторону Центрального дома литераторов. Напрямик, по памяти она брела по тихому московскому центру. Ступала медленно и осторожно, еще не осознавая, что инстинктивно научилась по-иному, более бережно нести свое тело.
У входа в ЦДЛ она попросила первого попавшегося писателя, а члены этой братии узнаются по более или менее лихорадочному блеску в глазах, провести ее внутрь. Что он с радостью и сделал. И даже предложил выпить по чашечке кофе. Но Настя вежливо отказалась. Сегодня кофе она будет пить одна. Потому что сегодня только ее праздник: еще один сданный экзамен в еще один чудесный весенний день.
„Что ни говори, а прав Игорь, когда утверждает, что жизнь должна быть приятной и приносить радость, – думала Анастасия, – именно так: человек должен просто чувствовать удовлетворение от существования, а не искать его, не призывать любой ценой“.
Она пила кофе, самый лучший кофе в городе. В нижнем баре звучала тихая музыка. Немногочисленные в этот час посетители о чем-то мирно беседовали. Можно было догадаться, что о политике, потому что именно в таких красивых местах чаще всего приходят мысли о необходимости государственных переворотов.
И снова – ни одного знакомого лица. Но… не тут-то было. В бар вошла Люба Ладова, завсегдатайка этого дома. Она прижилась в ЦДЛ, как кошка. Бывают такие кошки – не домашние и не бродячие, а которые живут „при“: при ресторане, при кинотеатре, при гастрономе…
– Настюша! Как же я рада! – Она оглядела ее изрядно округлившуюся фигуру. – Как ты похорошела! – воскликнула она, подсаживаясь к столику.
Они пили кофе и слушали музыку.
Настя заметила, что Ладова, в отличие от нее самой, похудела. Или просто черное строгое платье с белым шарфом, украшенным ришелье, давало такой эффект? Теперь Любовь явно „косила“ под декадентку. И эта короткая стрижка, и строгий пробор, и сигаретка, чуть толстоватая для длинного изящного мундштука, кажется, янтарного! А ногти, ногти! Впору рекламировать какой-нибудь лак для вурдалаков.
– Давно тебя не видела, – произнесла Анастасия почти без интонации.
– И я! А знаешь, – перешла она на заговорщицкий шепот, – поговаривают, что ребенка ты ждешь от Удальцова…
Настя ничуть не удивилась ее бестактности.
– Удальцов слишком знаменит, чтобы о нем не „поговаривали“, не правда ли, Люба?
– Так, значит, они ошибаются. Тогда… От Коробова?
– От духа святого. – Настя ответила слишком резко, и Ладова поняла, что попала в точку.
– Ах, хорошо, что он не женат. У тебя есть хоть какой-то шанс… А я столько пережила… Столько…
Настасья не на шутку испугалась, что пережитое Ладова уже успела воплотить в бессмертных строках, которые сейчас посыплются на ее голову. Но нет, Любаша продолжала свой рассказ в разговорном жанре.
– Я ведь тоже… Была немножко беременна. – Она затянулась, но неглубоко, для имиджа. – И вот, приезжаю я в Переделкино под Новый год. А там Петя с этой, ну, с зубодеркой. И с дочкой. Представляешь? – Она сделала круглые глаза.
– Представляю.
– Я дня два ужасно комплексовала, пряталась, старалась не попадаться им на глаза. Даже гулять не выходила. А потом осмелела и все рассказала.
– Что рассказала? Кому?
– Петиной благоверной. Про меня, ребенка и нашего мужа.
– И что же она? – Банальная жизненная история начинала забавлять Настю.
– Она побежала плакаться к Белле Ахмадулиной. Оказывается, они хорошо знакомы. И кому только из сильных мира сего эта стерва не чинила зубы! А Орлов, представляешь, какой подлец, вместо того, чтобы воспользоваться свободой, которую ему эта „зубастая“ предоставила со злости, пришел ко мне и… Нет, не могу дальше говорить. – Большая непрошеная слеза стремительно скатилась по щеке исстрадавшейся поэтессы.
– Что, он тебе сказал какую-нибудь гадость?
– Нет, Настя, нет! Хуже! Он меня ударил. – Она поднесла руку к уху: – Вот сюда. Он разбил мне всю мочку: я едва смогла вынуть сережку из раны. А потом эта больница, аборт. Ах, я столько натерпелась, я столько пережила.
– Все проходит, Люба, – философски заметила Настасья и вздохнула.
– Не все. Я… Я по-прежнему люблю его, – сообщила поэтесса, переходя на колоратурное сопрано. – „Мне б ненавидеть тебя надо. А я, безумная, люблю“.
„Все мужики – подлецы, а все бабы – дуры“. – Настя мысленно произнесла любимую Любину поговорку.
Она с трудом поднялась на свой пятый этаж и нашла в дверях записку: „Настя, заберите пакет в кв. 31“.
В „кв. 31“ жила интеллигентнейшая старушка: гимназистка, институтка, эмигрантка, зечка, а ныне – пенсионерка. В общем, из „бывших“. Хотя теперь все из бывших. Но она из тех „бывших“, которые были прежде всех остальных. На звонок она открыла сразу, не соблюдая никаких правил безопасности.
– Наталья Николаевна, а вдруг бы это была не я, а вор или грабитель?
– А чего мне бояться, девочка, в мои-то девяносто пять?! – резонно ответила Наталья Николаевна, как всегда, аккуратненькая, в темно-синем платье с широким кружевным воротничком.
Она жила с какой-то внучатой племянницей, старой девой, очень похожей на нее саму. Настя иногда даже путала их, хотя племянница была лет на двадцать моложе. У двери стоял большой пакет, и Наталья Николаевна указала на него сухонькой рукой:
– Возьмите, Настенька. Это вам оставил один молодой человек. Он не застал вас дома, а в нашей квартире всегда кто-то есть. Я ведь уже почти не выхожу.
– Что за молодой человек? – с опаской спросила она, припоминая душераздирающие криминальные истории.
Например, историю о чьем-то бывшем супруге, который прислал оставившей его жене взрывчатое устройство в коробке от торта „Птичье молоко“. И виновница разбитой жизни пиротехника, и две ее подруги взлетели на небеса, так и не успев вкусить от чуда „кондитерского“ искусства. „Не дай Бог, Валентин снова что-нибудь изобрел“, – пронеслось у нее в мыслях.
– О! Тут есть визитная карточка. Он на ней записку оставил… На обратной стороне. Милый такой человек. Молодой. – Старушка стала искать карточку. – Ах вот.
„Поцелуев Николай Петрович, – прочла Настя, – владелец магазина „Купидон“. И на обратной стороне: „Настя! Женя оставил мне „мэсидж“ – заботиться о вас. Не обессудьте, если что не по вкусу. Позвоню“.
– Приятный такой юноша, – продолжала Наталья Николаевна, – похож слегка на штабс-капитана Воронцова… Впрочем, вы его, наверное, не знали.
Выцветшими глазами старушка смотрела вдаль. В бесконечность.
„Какой же он юноша? Поцелуеву уже лет под сорок“, – думала Настя. Но потом сообразила: для Натальи Николаевны он просто младенец! Она выхватила из пакета первое, что лежало сверху – головку какого-то заграничного сыра – и протянула Наталье Николаевне:
– Это вам. К чаю.
– Благодарю, милочка! – Наталья Николаевна с достоинством приняла дар, потом поднесла сыр к лицу, изящно принюхалась и умозаключила: – Настоящий швейцарский! Сто лет такого не едала!
Анастасия улыбнулась, потому что старушка преувеличила совсем чуть-чуть.
– Алло! Настя-ханум? Это я, Улугбек! Привет тебе от Зульфия-ханум и Амина-ханум! – Голос у приверженца шариата, как всегда, был радостный.
– Как там Зульфия?
– Хорошо! Ташкент уехал, девочка родил. И я Ташкент уезжаю. Потому звоню.
– Я слушаю тебя, Улугбек.
– Понимаешь, ханум, вещи свои хочу тебе оставить. В общежитии сопрут.
– Что же, ты хочешь все ко мне перевезти? – Настя представила казанки в ассортименте на своей модерновой кухне.
– Нет, что ты! Только видак и кассеты. Ладно?
– Улугбек, а если у меня сопрут?
– Я тебе прощу, – засмеялся он. – Я еду, да?
– Хорошо, приезжай. – Настя продиктовала адрес.
Видак и кассеты – это уже полегче. А могли быть еще ковры-самолеты, медные лампы с джиннами, кувшины с вином, сундуки с сокровищами и верблюды, тяжело груженные, но неутомимые. В общем, большой отрезок Великого шелкового пути вкупе с минаретами Самарканда. Плюс какой-нибудь захудалый евнух в сундуке…
Вскоре появился сам „восточный парень, скромный, но беспощадный“. Поставив ящики с „сокровищами“ посреди комнаты, он со всей прямотой заявил:
– Ты зачем Ростика-джан бросил? Он пьет, гуляет, поет ночью. Я спать не могу.
– Это твои проблемы. – Восточная тактичность явно не была чертой Настиного характера.
– Проблемы? Проблемы у тебя, ханум. – Он кивком указал на ее округлившийся живот. – Наши девушки себя сжигают, когда такие проблемы. Обливают бензином и сжигают… Вот, тут телевизор и видак. Тут – кассеты. Смотри, сколько захочешь. Да? – Он улыбался нагловато, но таинственно.
Итак, какие же зрелища интересуют правоверных мусульман? Естественно, теологические. Анастасия поставила первую попавшуюся кассету. Название на ней, написанное латинскими буквами, осталось для нее тайной за семью печатями, поскольку она не знала тюркских языков. Божественное зрелище: шииты совершают намаз. Мечеть переполнена мужчинами с отрешенными лицами и почти безумным выражением глаз. С речью к правоверным обращается какой-то аятолла. Возможно, сам Хомейни.
Она наблюдала действо, не предназначенное для женских глаз, и вспоминала, что не так давно слышала эти слова, молитвы, вздохи, обращения к Аллаху… Тогда ей казалось, что рушится мир, расшатанный гортанными звуками. И он на самом деле рушился, ее мир, никак не связанный с исламским фундаментализмом.
Но что это? Кадры на экране незаметно изменились, словно кто-то решил сыграть злую шутку. Вместо строгого божественного зрелища изумленным зрителям (в данном случае Насте) предлагался безымянный мультфильм, поскольку анимационные кадры безо всякого предисловия продолжали оборванную сцену намаза. У Насти создалось впечатление, что хвала Аллаху была записана поверх другой информации, которая частично сохранилась.
Настя узнала Белоснежку, а с ней – и семерых гномов. Но сюжет, сюжет! Никакие братья Гримм не додумались бы до такого! Вот неказистые, уродливые гномы коротают время в своей убогой избушке, предаваясь содомскому греху. А вот сердобольная Белоснежка „подает“ им половую милостыню. Но коварная ведьма, с эксгибиционистской страстью разглядывая в зеркало свое далекое от классических канонов обнаженное тело, замышляет адское злодейство. Она подбрасывает мирно прогуливающейся по лесу Белоснежке, что бы вы думали, золотой пенис, перед которым та, естественно, не может устоять. Девушка использует подарок по назначению, но… падает замертво, едва испытав наслаждение. Что дальше? Аналогичные, полные крутой эротики, трактовки „Золушки“, „Мальчика-с-пальчик“, легенды „О Робин Гуде“, пародии на американские вестерны и фантастические боевики… Все сюжеты были с первого взгляда узнаваемыми и горячо любимыми. Но вот трактовка… Да куда там знаменитой „розовой“ серии французского кино! По эвристике, изобретательности авторы мультсериала превосходили даже самые смелые эротические фантазии зрителя. В том числе и Анастасии Кондратенко.
Ну где еще она смогла бы увидеть ковбоев с членами величиной с тропический кактус? Или инопланетные пейзажи с обилием вулканов, подозрительно напоминающих по форме идолов глобального фаллического культа? А все хитроумные машины для любви! В какое сравнение годилась им скромная светловолосая Треси, у которой только и силы, что пять батареек?
Настя спрашивала себя, интересно ли ей все это смотреть? В какой-то мере – да. Однако не более, чем любой мультик, например, Диснея, который, естественно, не вызывал никаких „побочных“ чувств. Как, впрочем, и эти эротические.
Вспоминая общежитский быт временно одиноких мужчин, Настя предположила, однако, что эта кассета была в их зрительской аудитории одной из самых любимых, поскольку сочетала черты двух наипопулярнейших для этой части публики передач: мультфильмов и аэробики.
Следующая кассета оказалась обычной заурядной порнухой. Причем каждый сюжет развивался по четко определенному канону, не оставляя сомнений в режиссуре действа. И персонажи вели свою роль просто по-актерски профессионально, не более. Этот жанр отличается от других разве что определенной степенью физиологичности. Она вспомнила свои ощущения, когда впервые смотрела нечто подобное. Они напоминали угрызения совести от подглядывания в замочную скважину, но никак не половое возбуждение. Вполне кстати Настасья подумала о главном эксперте по эротике и порнографии – И.И. Каблукове.
Поговаривали, что сей ученый муж жил бобылем во внушительных размеров квартире, одна из стен которой была занята стеллажом для видеокассет. Вероятно, чтобы не потерять нюх, дегустатор каждый вечер просматривал что-нибудь этакое – эротическое, переходящее в порно. Причем ни повторяемость сюжетов, ни явная искусственность происходящего, ни шаблонная операторская работа – его не утомляли.
Ходили слухи, что чиновник Каблуков берет взятки. Причем не классическими борзыми щенками, а видеокассетами. Поскольку „жесткую“ эротику от „мягкой“ мог отличить только сам Иван Иванович, заинтересованные в безобидной ошибке эксперта деловые люди готовы были хоть бесконечно питать его пагубную страсть к зрелищам. Этот пример еще раз подтверждал идею кого-то из мудрецов о том, что миром правят не идеалы, а интересы.
Настасья уже успела утомиться от просмотра.
„Тик-так, тик-так“, – поскрипывали кухонные часы в форме ботинка с непривычно длинным носом – точь-в-точь, как у гномиков в мультике.
„Вот и вечер, скучный и одинокий, – вздохнула она, – сколько таких вечеров мне еще предстоит? Тысяча? Две? Вся жизнь, если…“ – На этом „если“ ее мысли оборвались, словно кто-то сломал пружинку в невидимых часиках судьбы.
„…Если я не приму предложения Евгения Пирожникова…“ – подсказал ей таинственный голос.
Но она не могла сделать шаг, пока проблема выбора не встала обоюдоостро, как мифический меч.
И эта проблема неумолимо возникла перед ней в этот же вечер. Когда раздался звонок в дверь, она по привычке подумала: „Боже, неужели опять Валентин?“
– Это я, Ростислав. – Голос был холодный и четкий, как скальпель хирурга.
Анастасия открыла дверь и впустила его в свое жилище, как впустила бы случайный сквозняк.
– Кофе будешь? – спросила из вежливости, хотя прекрасно знала, что от кофе он не отказывался еще ни разу в жизни.
– Да. – Он сел в кресло-вертушку у письменного стола.
Настя готовила кофе. А к нему – бутерброды с черной итальянской салями из „поцелуевского“ презента. Так сильно дрожали руки, словно это она приятельствовала с „зеленым змием“, а не ее неожиданный визитер. Она вскрикнула, потому что порезала палец. Ей очень хотелось заплакать, зарыдать, уткнуться носом в плечо своего мучителя, потому что по закону всемирных подлостей женщинам свойственно любить и беречь именно тех, кто доставляет им наибольшие, а часто и совсем невыносимые страдания.
Но она молча слизывала темную, как церковное вино, кровь, а причастившись, заклеила пластырем ранку и продолжила готовить бутерброды. С коими и появилась вскоре пред очами возлюбленного, сильная и неприступная.
– Вот и кофе! – произнесла Настя с интонацией официантки.
Они пили кофе. Ростислав все еще не отваживался начать разговор, ради которого скорее всего и явился. Насте нелегко было видеть его снова. А тем более здесь, в обновленной „берлоге“. Она старалась прогнать провокационные мысли, боясь признаться самой себе, что хотела бы лицезреть его в подобной непринужденной обстановке каждый день и час.
– Значит, ты все-таки собираешься рожать?.. – почти без интонации наконец произнес Ростислав.
– Как видишь, – на той же ноте ответила Настя.
– Ты, конечно, знаешь, что я против. Но запретить я тебе не могу… Не могу!
– Предположим. – Она с трудом сдерживалась, чтобы не „ляпнуть“ что-нибудь такое, о чем придется пожалеть впоследствии.
– А ты хотя бы понимаешь, что навлекла позор на себя и на ребенка? Слава Богу, что твоя бедная мама ушла в мир иной и не может видеть всего этого…
– И это говоришь мне ты? Слава, ты в своем уме?
– В своем, в своем… Но ты… Ты ведь знала, что я человек порядочный, вот и решила удержать меня своим ребенком. Да как подло! Ты забеременела без моего согласия.
– Слава, а ты в это время стоял за дверью? – еле слышно спросила она.
– Я не о том… Я сотни раз предупреждал тебя, что хочу писать стихи и быть свободным – от всех и вся. А тут, о Господи, двое детей от разных женщин! – Он едва не плакал. – А я, между прочим, еще официально не развелся.
– Это не мое дело, – заметила Настя, точно копируя его „манеры“, но Ростислав был настолько занят произнесением трагического монолога, что не мог этого понять.
– И в какое положение ты меня ставишь? Зачем, скажи, зачем эта вселенская огласка?! Все знают, что я, поэт Коробов, отец этого несчастного ребенка. Сегодня встречаю Любу Ладову, а она мне: „Привет, беременный папаша!“ А все ты, ты!
– Убирайся…
Ростислав слышал только себя:
– А я ведь тебя любил. Я создавал твой идеальный светлый образ. Я хотел тебя обессмертить…
– Ты? Меня?..
– Я посвящал тебе лучшие стихи, пока ты не приблизилась ко мне настолько, что неизбежно возникли силы отталкивания.
– Ты сам все разрушил, Слава… Уходи.
– Что? Ты меня выгоняешь?! – Наконец-то до него дошло. – Да, я уйду. Уйду, но когда ты принесешь мне своего бастарда и будешь умолять, чтобы я дал ему свою фамилию, так и знай – я выгоню тебя.
Вместо, казалось бы, естественного негодования и неподдельной обиды Настю вдруг охватило чувство гадливости. Как к червяку, извивающемуся на тарелке.
– Зачем ты пришел, Слава?
В его глазах можно было прочесть смятение, растерянность, страх, стыд – все, что угодно, но только не хотя бы малейший намек на достоинство, которое и делает существо мужского пола мужчиной.
Оставшись одна, Настасья задумалась, устав от сильных эмоций, опустошивших ее. Мир казался ей переполненным сексуальными, привлекательными, удивительными особами противоположного пола, большинство из которых по той или иной причине не подходят женщинам. Но они склонны забывать, что влюбиться в человека, который тебе не подходит, – самое легкое в жизни! Проблема состоит в том, чтобы не влюбляться в таких людей. Чтобы вовремя говорить „нет“. И даже если не вовремя, то лучше поздно, чем никогда.
Настя не могла разобраться, смогла ли бы она вот так, просто и легко выгнать Ростислава, если бы в ее жизни вдруг не появилась тень Пирожникова? Наверное, нет. Скорей всего, как и все женщины в подобной ситуации, обрадовалась бы этому неожиданному визиту Коробова и постаралась бы вести себя дипломатично и мудро: „Милый, а как для тебя будет лучше? Дорогой, ты во всем прав, только вот… Единственный, я так тебя люблю, что ставка в этой игре, как говаривали герои древнего многосерийного детектива, больше, чем жизнь…“ Но она сказала только: „Уходи“. Значило ли это, что она скажет Евгению „да“?
Она чувствовала, что совсем запуталась… Ей начало казаться, что Ростислав не имеет никакого отношения к ней и ее ребенку. Может быть, так сходят с ума?
А может быть, нужно просто представить свою жизнь лет этак через десяток. Ну допустим, она удержит, „поймает“, как он говорит, Коробова. Можно ли представить теперь, что они живут вместе в этом доме?..
Анастасия села писать, и сонмище общежитских воспоминаний ворвалось в ее рукопись: запахи, голоса, натужный скрип пожарной лестницы, Катя и ее неунывающая гитара, бедная Гера, проданная за бутылку. Бумага, как ей и положено, все терпит. Но сможет ли вытерпеть все сама Настя? Вытерпит ли ее малыш?
Она засыпала, а тот, кто сидел в ней, как утка в зайце из известной народной сказки, никак не хотел успокоиться. Он бодрствовал! Он все время ворочался с боку на бок, меняя конфигурацию ее округлившегося живота.
„Конечно же, у него уже есть душа, – догадалась Настя, – и она все чувствует, а может быть, узнает тех, кто привел ее в этот замкнутый и спокойный мир… Интересно, когда все-таки младенец обретает душу? В момент зачатия или в мгновение рождения?“
За эти почти пять месяцев она достаточно хорошо прочувствовала, что у „нового“ человека более чем достаточно времени для такого приобретения.
До возвращения Пирожникова оставалось чуть больше недели. За это время Настасья планировала завершить собирание „Опытов“ для Марка Самойловича.
Она как раз делала извлечения из истории постижения вечных таинств эроса леди Чаттерли.
„Это была запредельная ночь; поначалу ей было немного страшно и неприятно; но скоро она снова погрузилась в слепящую пучину чувственного наслаждения, более острого, чем обычные ласки, но минутами и более желанного. Чуть испуганно она позволила ему делать с собой все; безрассудная, бесстыдная чувственность как пожаром охватила все ее существо, сорвала все покровы, сделала ее другой женщиной. Это была не любовь, это был пир сладострастия, страсть, испепеляющая душу дотла. Выжигающая стыд, самый древний, самый глубокий, таящийся в самых сокровенных глубинах души и тела. Ей стоило труда подчиниться ему, отказаться от себя самой, своей воли. Стать пассивной, податливой, как рабыня, – рабыня страсти. Страсть лизала ее языками пламени, пожирала ее, и, когда огонь забушевал у нее в груди и во чреве, она почувствовала, что умирает от чистого и острого, как булат, блаженства.
В юности она не раз задавалась вопросом, что значат слова Абеляра об их с Элоизой любви. Он писал, что за один год они прошли все ступени, все изгибы страсти. Одно и то же всегда – тысячу лет назад, десять тысяч лет назад, на греческих вазах – всюду! Эксцессы страсти, выжигающие ложный стыд, выплавляющие из самой грязной руды чистейший металл. Всегда было, есть и пребудет вовеки!
Этот мужчина был сущий дьявол! Какой сильной надо быть, чтобы противостоять ему. Не так-то просто было взять последний бастион естественного стыда, запрятанного в джунглях тела. Только фаллос мог это совершить. И как мощно он вторгся в нее!
Как лгут поэты, и не только они! Читая их, можно подумать, что человеку нужны одни сантименты. А ведь главная-то потребность – пронзительный, внушающий ужас эрос. Встретить мужчину, который отважился на такое и потом не мучился раскаянием, страхом расплаты, угрызениями совести, – это ли не счастье! Ведь если бы потом он не мог поднять глаз от стыда, заражая стыдом и ее, надо было бы умереть.
Господи, как редко встречаются настоящие мужчины! Все они – псиной породы, бегают, нюхаются и совокупляются. Боже мой, встретить мужчину, который бы не боялся и не стыдился! Конни взглянула на него – спит как дикий зверь на приволье, отъединившись от всех. Она свернулась клубочком и прильнула к нему, чтобы подольше не расставаться“.
Процитированный отрывок заставил Настю задуматься. Но не о том, редко или часто встречаются настоящие мужчины. Она была уверена, и практика – критерий истины убеждает в этом, что настоящих мужчин, о которых рассуждает Конни, создают настоящие женщины, могущие разбудить страсть, избавить от комплексов, открыть великие тайны чувственности. Но они, увы, не могут подарить своим избранникам то, что сделало бы их мужественными в квадрате: неженственный взгляд на мир…
Абеляр и Элоиза – пара в мировой культуре классическая и почти столь же известная, как Ромео и Джульетта. С единственной разницей: философ Абеляр и его возлюбленная существовали на самом деле. И были насильно разлучены: Элоизу заточили в монастырь, а Абеляра кастрировали. Но и после всех злоключений они не перестали любить друг друга. Может быть, потому, что успели пройти все изгибы страсти? Всего за один год.
А они с Ростиславом прошли свои изгибы страсти всего за несколько месяцев. И все! Не тот, видно, масштаб личностей, не те страсти… Настя готова была признаться себе, что влюбилась когда-то в Коробова прежде всего потому, что он напоминал ей отца, запечатленного на фотографии. А потом оба они оказались раздавленными тяжким грузом комплексов. Каждый – своим.
Но любовью ли была эта слепая страсть? Может ли вообще маниакальное влечение существовать долго – всю жизнь? Возможно, на эти вопросы ответила бы Наташа Ростова, воспылавшая страстью к Анатолю Курагину? Тихая и мирная Наташа, растворившаяся в конце концов в счастливом, лишенном хоть какого-нибудь надрыва браке с Пьером Безуховым. Впрочем, Андрея Болконского она, кажется, тоже любила…
* * *
В почтовом ящике Настя нашла номер толстого журнала со своими стихами. Она благодарила этот день за нечаянную радость. Подборка так и вышла – без фотографии, в свое время не сделанной криминальных дел мастером Валентином.
„Где он теперь? – вспомнила она давнего эротического друга. – Куда он мог исчезнуть?“ Страшные следы на давно растаявшем снегу вновь проявились, как негатив, в ее памяти. И ей страстно захотелось быть защищенной. Хотя бы каменной стеной.
Анастасия не знала, что Валентин исчез не случайно и вовсе не по своей воле. Что именно каменная стена, а то и две-три отделили экс-фотографа не только от бывшей возлюбленной, но и от всего свободного мира по меньшей мере лет на семь. Она не знала, что „загремел“ он в тюрягу, к сожалению, не за поджог ее квартиры. „Заложили“ некрофила-мазохиста подельники, которых взяли в разгар какой-то мафиозной разборки, На вопрос, кто в МУРе их информировал, они отвечали прямо и открыто, исключительно четко, – как дикторы „НТВ“, произнося одно и то же имя.
Такой вот вышел „печальный детектив“.
* * *
Настасья Филипповна пила цейлонский чай, заедая его швейцарским сыром, и душа ее была спокойна, поскольку скатертью-самобранкой стал пакет, презентованный легально состоятельным Поцелуевым. А когда на ее столе появлялись копченые угри из прудов скромного фотографа, она, бывало, испытывала смутную тревогу, приводившую временами к отсутствию аппетита. К счастью, ей были неизвестны причины тех давних „безвкусовых“ пристрастий.
Она листала толстый журнал, и сердце ее стучало с тайной гордостью. Нет, куда там – она вся была переполнена преступной гордыней. Потому что о-то-мсти-ла! Отомстила милой бардессе Катюше Мышкиной, которая осаждала редакцию этого издания, как половцы Киев, уже который год. Настасья испытывала удовлетворение, достойное великой Джулии Лэмберт.
Открой глаза, пойми, что все сбылось.
Укачивает облако ребенка.
Во сне являлась дальняя сторонка
И грузной птицей пролетала злость.
Прости, прости.
Качается мой мир,
Цепями по земле гремят качели.
Взлететь и быть мы так с тобой хотели!
А ныне – пир…
И Настя пировала, намазывала белую булку красной икрой, а не губной помадой. Сегодня у нее был маленький праздник. Она почувствовала себя сильнее, потому что смогла произнести „нет“ – своим болям, обидам и неясным томлениям.
Сегодня она осознала, что сможет сказать и „да“. Когда настанет час.
А вечером Анастасия смотрела „Ночного портье“, поставленного Лилианой Кавани и переписанного Улугбеком Ахметовым на безымянную кассету.
Едва она заправила кассету в гнездо видеомагнитофона, как уже не могла оторваться. Она вся была поглощена созерцанием женственного взгляда режиссера на трагические страницы истории двадцатого века. Только женщина могла увидеть так: ни батальных сцен, ни бесконечных переговоров и штабных заседаний, ни военных сводок… Герои фильма трагичны по самой сути, потому что не изменили ролей. Они – жертва и палач. Как сказала их создательница в одном из интервью: „Все мы жертвы или палачи и выбираем эти роли по собственному желанию. Только маркиз де Сад и Достоевский хорошо это поняли“.






