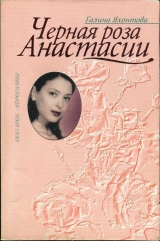
Текст книги "Черная роза Анастасии"
Автор книги: Галина Яхонтова
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Легок на помине, в квартиру вошел Валерка:
– Вы уже здесь! Ой, какие прыткие!
Настя заметила, что одноклассник удивительно похорошел. Можно сказать, расцвел. И щеки теперь не такие впалые, и румянец на них здоровый, и глаза смотрят молодо и уверенно.
– Мы уже тут все перезнакомились, Валера.
– Вот и чудесно! Жена, накрывай на стол.
Хозяйка исчезла за кухонной дверью. Ванюша устремился за ней. А Пирожников вызвался им помогать, прихватив фрукты и вино.
Настя с Валерой сидели на диване рядом, как когда-то давным-давно сидели за одной партой.
– У тебя очень симпатичная жена, – начала она разговор.
– А у тебя классный супруг, не то что тот, которого я побил, – поддерживал дуэт Кукушки и Петуха Флейта. – А Надюша… Она и вправду удивительная женщина. Столько пережила, но не сломалась, не обозлилась.
– У нее какое-то несчастье?
– Как тебе сказать?.. Не знаю даже, с чего и начать… Понимаешь, сидела она. За растрату. Ее подставили, ее же и посадили. А теперь вот амнистировали.
– А мальчик? Это твой сын? – Настя все-таки спросила, хотя поразительное сходство двух мужчин: большого и маленького, не оставляло и тени сомнения в их родстве.
– Мой, Настя. Разве не видно? – Он улыбнулся гордо, по-отцовски.
– Видно, Валера, с первого взгляда.
– Я познакомился с Надей, когда конвоировал этап. Она такая несчастная тогда была, потерянная. – Он заметно нервничал, кажется, хотел закурить, но, учитывая ее „положение“, не решался. – Понимаешь, женщинам на зоне легче, когда они беременные…
– Что-то ты придумал. Быть беременной женщиной очень тяжело, – вздохнула она.
– Ну да, конечно. – Он бросил взгляд на ее живот. – Тяжело. А потому и легче. И режим не такой строгий, и работа поближе к ребенку – чтобы кормить могла. В общем, все осужденные женщины не прочь заиметь ребенка. А единственная, в сущности, возможность для такого дела – этап. Когда конвоиры меняются, и потом никто концов не найдет.
– Каких концов, Валера? – засмеялась Настя.
– Я образно выражаюсь. Понимаешь, когда они на зоне, там все мужики наперечет – и отца запросто вычислить могут. За такое начальство по головке не погладит. А когда их везут – в поезде, скажем, то там охранников все время меняют.
– Понимаю. Там вы и познакомились.
– Ну да. Трудно было, правда, нам сойтись. Потому что старые, матерые зэчки следят, чтобы ни-ни без денег.
– Каких денег? – недоумевала она. – Женщинам на этапе еще и платят?
– Да не женщинам – мужчинам. Даже такса есть. За каждый раз надо платить. А если девушка заплатить не может, то паханки ее не пустят. У Надюшки совсем денег не было, так я ее ночью, когда все спали, в тамбур вывел. Я один в карауле был… Но потом ее бабы все равно избили до полусмерти.
– И ты не смог ее уберечь?
– Меня уже тогда в вагоне не было… А потом Ванюшку она родила. И два года почти малец в детдоме на зоне рос. Тоже, значит, за колючей проволокой был. Надя говорит, что в этом детдоме все стены были расписаны сказочными сюжетами разными. А разрисовала их осужденная за убийство.
– Ужас какой…
– Не ужас, а жизнь. Надя, как вышла, разыскала меня. Я ей адрес тогда в тамбуре сказал, так она его почти три года помнила и как молитву повторяла. И я, как только увидел ее снова – сразу понял, что никогда не забывал. А уж Ванюшка… вот так, Настя, бывает. И не думаешь, не чаешь, где счастье свое встретишь.
Чудный малыш, похожий на херувимчика, снова вбежал в комнату. И Настя заметила в его глазах Надину грусть.
В начале августа позвонил Игорь. После ничего не значащих расспросов о здоровье он „выдал“ кое-какие интересные сведения.
Как оказалось, Ленка Дробова тогда все-таки до него дозвонилась. Конечно же, они встретились. Стали общаться, как поняла Настя, очень даже близко. Но Ленка была зомбирована тем своим „зеленым учителем“. Игорь сразу же понял это, но решил не увязать в „борьбе титанов“, поскольку не считал себя слишком искушенным в черной магии. Короче говоря, перестраховался и решил подумать о собственной душе. Ленка-таки не смогла выйти „из себя“. И в настоящее время, по словам Игоря, находилась в Соловьевке – в отделении для тихопомешанных.
Игорь по сердобольности периодически ее навещал, что предложил сделать и Насте. Но она отложила визит до лучших времен, сославшись на нездоровье.
– Не притворяйся, Настя, – сказал Игорь, – просто ты не хочешь ее видеть. Инстинктивно не желаешь смотреть на больных людей.
– Наверное, ты прав…
– И ты права… А знаешь, их ведь там работать заставляют.
– Как?!
– Очень просто. Ленка шьет мягкие игрушки. Ну, зайчиков, собачек. Им даже норму спускают.
– Уму непостижимо… Игорь, а кто ее туда упрятал, уж не ты ли?
– Нет, не я. Соседи… С ней вообще ужас что творилось одно время. Представляешь, Ленке вдруг стало казаться, что она чует, в какой квартире занимаются в данный момент любовью. В острой стадии она ходила по ночам по своему подъезду, звонила, стучала в двери и кричала при этом: „Немедленно прекратите трахаться!“ За таким занятием ее и застали подоспевшие санитары.
Настасье было неимоверно жалко Ленку, но она поняла, что никогда не станет покупать своему ребенку зайчиков и котиков из кооперативных киосков.
По ночам над домом сияло мириадами звезд бархатное, как лепестки анютиных глазок, небо, предвещая скорый звездопад. И казалось, что все звезды неслышно дрожали.
Анастасия писала стихи, вспоминая высказывание Гурия Удальцова о том, что поэт должен быть сквозным и пропускать мир через собственную душу.
Не поминай, как звали. Отрекись
От имени и от земного дома,
Во сне моем звездою нарекись,
Но не пади с небес в мои ладони…
Я это счастье выношу в себе,
Я отрекусь от вещих звездопадов,
Я полюблю звезду за неразбег
И за стремленье вечное не падать…
Потом она читала написанное мужу и у нее возникало ощущение, что он абсолютно ничего не понимает в поэзии, но в то же время удивительно чувствует энергию, исходящую от преображенных Настей слов. Она тихо радовалась, что связала судьбу не с поэтом, который способен видеть в стихах коллеги лишь костяк, ремесло, а со строителем, который воспринимает именно „надстройку“ стиха. Недаром в литературных кругах шутят, что союз двух поэтов чем-то напоминает кровосмесительное сожительство.
Рассказывали, что один известный поэт, разводясь с женой – известной поэтессой, восклицал во время судебного заседания: „Я не могу с ней жить! Она у меня образы крадет!“
Звездными августовскими ночами они не зажигали света. Иногда на подоконнике теплилась тоненькая яркая свечка, тихонько потрескивая, словно робея на окраине мира перед ликом холодных непадающих звезд.
Как-то они побывали на концерте вдруг ставшего знаменитым танцовщика Мориса Елисеева, который вместе с парочкой леди исполнял очень трогательные эротические па.
Публика собралась уже привычная для Анастасии. Было много мехов и открытых плеч, украшенных бриллиантами. И было понятно, что зрители больше хотели себя показать, чем полюбоваться Морисом.
Вообще-то „эротические театры“ – явление для российской культуры вовсе не новое, а, как говорится, хорошо забытое старое. Первую подобную труппу организовал еще граф Юсупов, вельможа пушкинской поры. Нужно было чем-то занять дворню – вот он и придумал „театры“. Или позаимствовал эту идею где-нибудь на необозримых просторах Европы.
А в этом шоу Настю поразил не сам Морис и не его бисексуальные леди, а молоденький стриптизер, который сумел обнажиться настолько невероятным образом, начиная с брюк и сорочки и кончая последним предметом туалета – галстуком, что зал ахнул. Она пожалела, что в свое время не взяла интервью у Елисеева: была возможность, был заказ главного редактора, но не оказалось соответствующего настроения… Как со всеми голубыми, с ним, наверное, было бы легко беседовать. Впрочем, она надеялась когда-нибудь с ним еще побеседовать. Если, конечно, он не осядет в Датском королевстве, где абсолютно законно регистрируются гомосексуальные браки.
В фойе они столкнулись с примечательной парочкой. Люба Ладова вела под руку Петю Орлова. Они смотрелись вполне мирно, как устойчивая семейная пара, прожившая вместе не один год. Правда, на лице Пети можно было заметить тень постоянных перепоев или же в лучшем случае перманентной умственной работы.
Ладова была в черном: имиджу дамы серебряного века она пока не изменила. Люба с плохо скрываемым интересом разглядывала Пирожникова. А Настя слегка удивлялась мирному поведению укрощенного Орлова. „Вскормленный в неволе“, в семейной, конечно, он теперь выглядел так, словно уже был отпущен на свободу, но не знал, что с ней делать… Пары обменялись светскими фразами и представлениями, а потом разошлись, сказав на прощание „до встречи“.
Встреча выпала вскоре. Любе не терпелось разузнать о Настиных счастливых превращениях как можно подробнее. В тихий сентябрьский денек, когда каштан под окнами с глухим стуком уронил на асфальт первых „ежиков“, Люба появилась в квартире у Анастасии. Поскольку она наносила визит в это жилище впервые, ее, казалось, интересовало все – от письменного стола до мусорного бачка. Вдоволь насладившись созерцанием, она, не жалея эпитетов, расхваливала все и вся, при этом металлически посверкивая глазами. Так, что к Насте в душу даже закралось подозрение: а не дурной ли у нее глаз?
А потом Ладова стала расспрашивать – и что, и как, почему Пирожников, а не Коробов? Где Удальцов? Настасья отвечала односложно, не вдаваясь в подробности и постепенно поворачивая течение разговора вспять – в диаметрально противоположные направления. Ей это в конце концов удалось.
И тогда Люба рассказала свою „новейшую историю“. В мае, когда не только в Москве, но и во всей средней полосе России было еще прохладно, а Пете Орлову страшно хотелось отогреться от холодной зимы, он ушел в очередной отпуск. Но не остался в столице, не поехал в Переделкино, где имел дурную славу избивателя женщин, и даже не отправился в деревню к маме на первую зелень. Родной дом он и так помнил достаточно хорошо для того, чтобы слагать душераздирающие ностальгические стихи.
Петя принял неожиданное решение, возможно вступавшее в тщательно подавляемое противоречие с патриотически настроенной душой. Он купил путевку на солнечный испанский берег. Средства, к счастью, в доме были: благо супруга-дантистка теперь работала в русско-американском стоматологическом центре, а значит, часть зарплаты получала в валюте. Этой частью супругиной зарплаты Петя и оплатил тур в Барселону.
Он еще не знал, какие происки судьбы поджидают его. А знал бы – кто знает… Но, как говорится, „нам не дано предугадать…“
В Барселоне авантюрный Петя не стал часами прогуливаться, разглядывая архитектурные шедевры Гауди или достопримечательности готических кварталов. Нет! Он решил сразу взять быка за рога. Что в данном испанском случае казалось вполне уместным. В качестве быка в Петиной корриде выступил Чарли Джексон, симпатичный и обеспеченный американский журналист.
Путешественники подружились так, как это ранее случалось только с пионерами где-нибудь в Артеке. Петя, совсем как банный лист, не отставал от Чарли ни на шаг. Они вместе ходили в рестораны, на футбол, на бои быков… Но платил, конечно, Чарли, поскольку „дантистской“ валюты хватило только на приобретение путевки… Приятели настолько сблизились, что стали производить на каталонцев впечатление гомосексуальной парочки, проводящей на Средиземноморском побережье медовый месяц.
Петя с поэтической страстностью рассказывал понимающему по-русски Чарли о своей многострадальной родине. Безусловно, Орлов утаивал от приятеля, что еще два года назад винил во всех российских несчастьях исключительно Соединенные Штаты, которыми Чарли гордился не меньше, чем Петя – Россией. Но журналист не владел столь тонко образной русской речью, чтобы донести до поэта, как говорится в одной рекламе, „вкус, запах и то, как выглядит Америка“. Поэтому Петины рассказы производили на Чарли гораздо более неизгладимое впечатление, чем рассказы Чарли на Петю. Наблюдалась, как определили бы физики, полупроводимость.
Через две недели Чарли в буквальном смысле слова заболел Россией. Ему снились белокаменные церкви с золочеными куполами, похожие на зажженные свечи, красные кирпичные стены кремлей, березы с расплетенными косами, величественные медленные реки, горы черной икры, которую, кстати, американцы не слишком жалуют и величают чуть презрительно „рыбьими яйцами“. А также неисчислимое воинство пухленьких полногрудых матрешек, радушных и розовощеких.
А через три недели друзья сели в личный „форд“ Чарли, с которым американец не расставался, словно родился с рулем в руках, и отправились в длительное, полное приключений путешествие через всю Европу на Восток, в Москву.
И, надо сказать, эта цель манила Чарли не меньше, чем когда-то Наполеона или Гитлера. Приятели проезжали страну за страной. В ресторанах и отелях то и дело мелькала кредитная карточка Джексона. А также в „прорезях“ парковочных и телефонных автоматов, на бензозаправках и в веселом парижском квартале близ площади Пигаль.
Забавно, что Петю в краснофонарном Париже ничего не удивило, кроме разве что места, где предлагали себя мужчины. Они медленно бродили, одетые в одни сорочки, по мостовой. И к этому достопримечательному месту то и дело подъезжали шикарные лимузины с тонированными стеклами, за которыми скрывались оценивающие глаза богатых дам. Периодически кто-то из мужчин приподнимал руки, и тогда нижний край сорочки устремлялся вверх, открывая для обозрения покупательниц то, что они и желали здесь приобрести. Иногда дверца какого-нибудь лимузина открывалась, впуская избранного счастливца в темное бархатное нутро, и снова закрывалась. Автомобиль уносился в другие, более респектабельные кварталы…
Чарли и Петя колесили, заезжая в большие и малые города и государства. Когда „форд“ въехал на мост над символичной Эльбой, оба, и русский, и американец, испытали чувство восторга, сравнимое с тем, какое охватило встретившихся на этом месте лет пятьдесят назад союзников.
Все дороги, как казалось приятелям, вели в Москву. И привели в конце концов.
На Петю, как и следовало ожидать, сразу же навалилась уйма редакционных дел. Тем более что он прихватил к отпуску недельки две лишних.
А Чарли взяла „на поруки“ дантистка. Тем более что она сносно лепетала по-английски. Сначала Петина половина играла роль гида. Она открывала иностранцу экзотическую прелесть России, сопровождая его в Архангельское, Коломенское и Марфино. Потом она обнаружила в зубе гостя свежую дырочку. И, проявив все свое умение, законопатила ее в лучшем „русско-американском“ виде. Это был беспроигрышный прием: им хищная женщина покорила практически весь Союз писателей. Или два союза, на которые, как пчелиный рой, разделился теперь некогда единственный.
В обратный путь Чарли снова пустился не один. Теперь его сопровождала экс-Орлова, вдохновленная его живописными англоязычными рассказами о диком Западе. Благо она понимала журналиста „в оригинале“. К счастью, он оказался холостым, а потому почел за честь спасти хотя бы одну прекрасную русскую полногрудую матрешку от невзгод эпохи перемен.
А Петя Орлов страшился смотреться в зеркало, боясь увидеть в нем соперника матадора.
Нет, наверное, все же поэт Орлов происходил не из одноименного славного рода, а от случайной дворовой ветви графов… Потому что, как известно, истинные Орловы вели себя в подобных ситуациях абсолютно по-иному. Один из них, как рассказывали, обольстил и доставил из Италии ко двору Екатерины II самозванку Елизавету Тараканову. Но чтобы у Орловых уводили женщин?! Приоритет здесь принадлежал поэту Петру, который утешал себя тем, что главное – быть первым. В любом деле.
– Вот тут-то я его и охомутала, – закончила повествование Ладова, – только пил он очень. Безобразно просто.
– А где же девочка, дочка его?
– Пока живет с нами. Но „зубастая“ звонила, что оформляет необходимые документы и вот-вот заберет ее в Штаты – Люба не выдержала и вздохнула: – Скорей бы! Совсем я умаялась с этим „вождем краснокожих“.
Настя тоже умаялась со своим „вождем“. Уже недели две, как она спала полусидя, потому что живот изнутри давил на диафрагму, отчего перехватывало дыхание.
„Скорей бы уж… Скорей бы…“ – осторожно вздыхала она.
Просматривая как-то свежий номер „СПИД-ннфо“, Настя среди выдержек из читательских писем обнаружила такое милое признание: „Жену свою я очень люблю, поэтому изменяю ей редко…“
Тема супружеской верности и измены в наше смутное время не слишком модная, в поэзии, в эстраде последних лет часто использовалась; при этом пропагандировалась скорее измена, чем верность. „Там, где я, там нет со мною места рядом“, – напевала Настя и невольно в ее мысли протискивалась тень Ростислава Коробова.
Тени – они вездесущи…
Эти проблемы занимали как доброй памяти леди Чаттерли, так и прекрасную свинарку по имени Минна Карлюн, из романа мудрого финского мужчины Марти Ларни.
Она сумела откопать даже гносеологические корни мужской измены: „Общеизвестно, что тоска толкает мужчину на поиски развлечений, а „развлекаться“ для них – значит делать такое, что вообще делать не следует. По этой причине любовь собственной жены развлекает их, как правило, очень редко, поскольку она дозволенная“.
К чести Настасьи Филипповны надо сказать, что она никогда не засыпала в чужих постелях и не посещала „с определенной целью“ чужие дома. Потому что, наверное, нет на свете ничего несвободнее подобной свободной любви, когда пугаешься и тиканья чужих часов, и поскребывания ничейной мыши.
Но любовницу она могла жалеть и даже сочувствовать ей. А как бы она себя повела, оказавшись на месте обманутой жены? Подала бы на развод? Ушла бы? Устроила бы скандал? Простила бы мужа? Ее „компьютер“ не давал ответа.
Вечером она занималась самым прозаическим на свете делом: месила тесто. Она аккуратно развела молоком дрожжи, всыпала муку, осторожно посолила, а потом накрыла кастрюлю крышкой, поставила в теплое место – у камина – и стала ждать. Что-что, а ждать она в последние месяцы научилась…
Нет в мире более послушного и благодарного материала, чем сырое тесто. Настя трудилась по всем правилам: добавляла муку, растирала с сахаром яйца, растапливала масло. А потом долго месила густую, податливую, как женская суть, массу.
Ее творение готово было принять любую начинку, какую она, творящая, могла ему предложить. Настя начиняла пирожки рубленым мясом, перемешанным с золотистым обжаренным луком. А потом уложила дюжину близнецов на противень, дала им расстояться, смазала каждый разболтанным яйцом и поставила в горячую духовку.
И вот они, горячие, румяные, уже лежат на доске под полотенцем, обмякают, дожидаясь хозяина – кормильца и едока.
Настя чувствовала себя участницей ритуального действа, маленьким камертоном, пытающимся воспроизвести эхо старинного домостроя.
Евгений приехал усталый, но, как всегда, сдерживал накопившееся за день раздражение. Настя с умилением наблюдала, как он поедает один за другим ее „близнецов“. И светлеет лицом, потому что путь к его сердцу тоже лежит где-то вблизи желудка.
Он из того же теста, что и все мужчины…
А Настя с сегодняшнего дня – настоящая Пирожникова.
Потом они сидели в гостиной и молчали. Евгений просматривал газеты, а она перечитывала „Иосифа и его братьев“.
Им было хорошо вдвоем, они не мешали друг другу, не заглушали того, что звучит у каждого в душе. Наверное, им удалось воплотить ту самую гармонию, о которой писали в трактате „Зеленые братья“. Идеалом для них было иметь общее сознание, но не терять при этом ощущения личности. Теперь Настасья знала, в чем просчитались зеленые утописты: они хотели создать сообщество многих – целого племени. Но на деле душевный симбиоз возможен только для двоих. Например, для них. Они вместе, в общем доме.
Мужчина и женщина…
Муж и жена…
Поцелуев решил развестись с супругой. А многие знакомые Насте предприниматели этот Рубикон уже перешли. Она заметила, что процент распада семей в их окружении был значительно выше, чем в среднем по стране. И эта тенденция не могла ее не беспокоить.
– Женя, почему все твои приятели разводятся? Словно эпидемия вспыхнула.
– Разводятся… Но далеко не все.
– Но многие. Им что же, жены надоели?
– Нет, я думаю, в каждой семье свои причины. Но виноваты всегда бывают оба. Хотя бы в том, что не поняли друг друга, – дидактически заметил Пирожников. – Есть, правда, и объективные причины. Например, та, что небедному человеку легче решать проблемы. Он может оставить бывшей жене квартиру и обеспечить ее существование. А сколько народу вынуждено терпеть опостылевших „половин“ только потому, что невозможно решить жилищные проблемы?
– Снова ты о жилье да о строительстве! Вот уж узкий специалист! – засмеялась Настя.
– Специалист должен быть узким. Всем предметам учит один учитель только в начальной школе.
– Пожалуй, ты прав… А почему разводится Коля? У него что, проблемы? – Она вспомнила реплику его супруги во время презентации „Купидона“.
– Не знаю… Мне кажется, что проблемы у них психологические. Его жена не может и не хочет принять новый образ жизни мужа – все эти презентации, ночные клубы, гольф и противных устриц. Ты заметила, что она его нигде не сопровождает?
– Заметила…
– И Миша Зайцев с Татьяной своей расстался, потому что она так и осталась младшим научным сотрудником со всеми комплексами „советской“ женщины. А он изменился. А вот Пацюки сумели остаться вместе. Но какой кризис перетерпели! У него была другая женщина, переводчица. Жена узнала и давай английский вспоминать по системе Илоны Давыдовой. Приоделась, похудела, похорошела. С гостями американскими сама беседовать стала. И знаешь, переводчица рядом с ней поблекла.
Анастасия представила Ольгу Пацюк, жену одного из компаньонов Евгения. Она действительно была очень красива – стройная, уверенная в себе брюнетка, всегда шикарно одетая, умеющая вести светские беседы… Рассказанное Пирожниковым никак не вязалась с ее нынешним обликом преуспевающей женщины постиндустриального высшего общества.
Ведь сумела же, стиснув зубы, преодолеть такие серьезные проблемы, сохранить имидж, вернуть невозможное – любовь мужа.
А что бы сделала сама Настасья в подобной жизненной ситуации? Она не хотела отвечать на этот риторический вопрос, потому что ей не нравилось слово „жизненный“. Оно напоминало определение из реестра видеопроката, где о фильмах пишут кратко и понятно: боевик, фантастика, комедия, эротика, ужасы, крутая эротика (слава Каблукову!), жизненный… Принадлежность к этому жанру означает, что сюжет фильма обязательно окажется построенным на семейных проблемах. А значит, в нем будут измены и предательства. Одним словом, ужасы. Настин безупречный внутренний мир подсказывал, что вместо „жизненный“ в данном случае следовало бы употреблять „житейский“. Ибо дело житейское – еще не вся жизнь. А так, отрезочек, который можно перейти.
В этот период ей нравилось читать о беременных. О Маленькой Княгине, например. Или о Кити. Или об Анне Карениной…
„Удивительно, как Лев Толстой постиг состояние беременности! Наверное, на протяжении последних нескольких прошлых жизней он сам был женщиной…“ – подозревала она.
Однажды она „набрела“ на книгу, так сказать, из другой оперы: „Ребенок Розмари“, повесть Айры Левина, ставшую основой знаменитого фильма ужасов.
Главная героиня повести тоже ждала ребенка. Так же мучительно и долго, как и Настя. Но ее состоянию предшествовало нечто необыкновенное.
„Розмари немного поспала, а потом вошел Гай и начал заниматься с ней любовью. Он гладил ее обеими руками – долгие чувственные движения начались от ее привязанных кистей, скользили вдоль рук, по груди, по пояснице и завершались щекотанием между ногами. Он снова и снова повторял возбуждающие поглаживания – руки у него были горячие, с острыми ногтями, – а потом, когда она была уже совсем готова, уже не могла больше ждать, он подсунул под нее руку, приподнял, и его плоть слилась с ее плотью, причиняя сладострастную боль. Он лег на нее, рука его скользнула под спину, широкая грудь давила на нее. (Так как это был костюмированный бал, на Гае был жесткий кожаный панцирь.) Его движения были грубы и ритмичны. Розмари увидела его глаза, горевшие желтым огнем, почувствовала запах серы и корня танниса, ощутила на своих губах сладострастные стоны и вздохи наблюдателей.
Это вовсе не сон, подумала она. Это все на самом деле. Это происходит со мной. Ее глаза протестующе засверкали, она хотела крикнуть, но что-то большое накрыло ее лицо, она задыхалась от сладковатого запаха.
Чужая плоть все еще находилась внутри нее“.
А потом Розмари все ждала и ждала ребенка, страниц сто пятьдесят кряду.
„Розмари попыталась приподняться, но не смогла, руки были совершенно ватные. А между ногами болело так, словно туда вонзилось множество ножей. В ожидании она лежала и вспоминала, вспоминала.
Была ночь. Часы показывали пять минут десятого.
Они вышли. Гай и доктор Сапирштейн, со скорбным, но исполненным решимости видом.
– Где ребенок? – спросила Розмари.
Гай приблизился к краю кровати и присел, взяв ее за руку.
– Золотко мое.
– Где он?
– Золотко… – Гай попытался произнести что-то еще, но не смог. Он бросил умоляющий взгляд на человека, стоявшего по другую сторону кровати.
Доктор Сапирштейн смотрел на Розмари сверху вниз. Кусочек кокосового ореха застрял в усах.
– Были осложнения, Розмари, но это никак не повлияет на последующие роды.
– Он…
– Умер, – закончил доктор.
Гай сжал ее руку, ободряюще улыбнулся.
– Вы лжете, – проговорила она. – Я вам не верю.
– Золотко, – успокаивал Гай.
– Он не умер. Вы забрали его. Вы лжете. Проклятые колдуны. Вы лжете! Лжете! Лжете!“
И она оказалась права. Ее Энди был жив.
Он находился в квартире Минни и Романа…
В противоположном конце комнаты, в большом эркере, стояла черная плетеная колыбелька. Черная. Вся черная: отделка из черной тафты, полы и оборки из черного нейлона. Медленно вращалось серебряное украшение на черной ленте, прикрепленное булавкой к черному пологу.
Умер? Но в тот самый миг, когда в голове пронеслась испугавшая ее мысль, жесткий нейлон затрепетал, серебряное украшение задрожало.
Он был там, внутри. В этой чудовищной и извращенной ведьминой колыбельке.
Серебряное украшение оказалось распятием, повешенным над головой. Обхватившая щиколотки Иисуса черная лента была завязана узлом.
Мысль о том, что ее ребенок, совершенно беспомощный, лежит среди всего этого ужаса и святотатства, вызвала у Розмари слезы, и вдруг ее охватило неудержимое желание бросить все, дать волю чувствам и разрыдаться, капитулировав перед лицом столь изощренного, неслыханного зла…
Милый Энди спал, такой маленький, розовощекий, завернутый в уютное одеяльце, в маленьких черных рукавичках, завязанных ленточками на запястьях. У него было на удивление много оранжево-рыжих волос. Шелковистые, они были аккуратно расчесаны. Энди! О Энди! Повернув нож острием в сторону, Розмари потянулась к нему, губки у малыша надулись, он открыл глаза и взглянул на нее. Глаза у него были золотисто-желтые, все золотисто-желтые, ни белков, ни радужной оболочки, золотисто-желтые глаза с вертикальными щелочками-зрачками.
Розмари смотрела на него.
А он смотрел на нее своим золотисто-желтым взглядом, который затем перевел на раскачивающееся вниз головой распятие.
Розмари взглянула на них, напряженно наблюдавших за ней, и, сжимая нож в руке, закричала:
– Что вы сделали с его глазами?
Они зашевелились и повернулись к Роману.
– У него глаза Его Отца, – сказал тот…
– Покачай Его, – предложил Роман, улыбаясь Розмари. Он толкнул колыбельку в ее сторону, придерживая за полог.
Розмари неподвижно стояла, глядя на него.
– Вы пытаетесь… заставить меня стать его матерью?
– А разве ты не Его мать? Ну же, покачай Его.
Она покорно сжала пальцами обмотанную черным ручку. Розмари посмотрела на малыша. Он наблюдал за ней. Теперь, когда она была подготовлена, глаза его уже не казались ей столь ужасными. Тогда ошеломила именно неожиданность. В каком-то смысле глаза были даже красивы.
– Какие у него ручки? – спросила Розмари, не переставая качать.
– Очень хорошенькие, – ответил Роман. – У Него есть ноготки, но очень маленькие, жемчужного цвета. Варежки нужны, чтобы Он не поцарапался, а не потому что на ручки неприятно смотреть.
Тишина заставила Розмари поднять глаза. Оки подходили с разных сторон, чтобы посмотреть на нее, останавливаясь на почтительном расстоянии.
– Слава Розмари, матери Адриана! – крикнул Роман.
– Это Эндрю, – поправила Розмари, – Эндрю Джон.
– Адриан Стивен, – настаивал Роман.
– Я понимаю, почему вам хотелось бы назвать его именно так, но сожалею, у вас ничего не выйдет. Его зовут Эндрю Джон. Это мой ребенок, а не ваш, и по такому поводу я даже спорить не собираюсь. То же самое относится и к одежде. Он не может все время носить черное.
Роман открыл было рот, но Минни, глядя прямо на него, громко сказала:
– Слава Эндрю. – А потом: – Слава Розмари, матери Эндрю и Слава Сатане.
Розмари пощекотала ребенку животик. А потом ухватила его за носик:
– Ты же умеешь улыбаться, а, Энди? Умеешь, крошка Энди со странными глазами, а ну-ка, улыбнись! Улыбнись мамочке, – Розмари постучала по серебряному украшению, и оно закачалось. – Всего одна улыбочка! Давай, Энди-крендель“.
Появление Игоря в их доме обещало раскрытие каких-то новых тайн. И действительно: он решил провести с Настей сеанс гипноза.
– Ляг на тахту и расслабься, – говорил он мягким, успокаивающим голосом, под руководством которого она вдруг стала ощущать, как тело наливается теплом и тяжестью, а потом погружается в состояние приятной дремы. – А теперь представь, что ты… расширяешься. Вот – заполнила собой эту комнату. Выходишь за ее пределы и становишься величиной с дом. Расширила себя до размеров… Земли… Вселенной…
Но Настя все же не смогла расшириться до заданных размеров. Задание было явно невыполнимо. Зачем же оно давалось? Игорь терпеливо объяснял, что благодаря подобной практике размывается привычное представление о себе как о существе, ограниченном кожным и волосяным покровами. Сознание готовится к неожиданным превращениям.
– А теперь сделай дыхание более интенсивным – глубоким и быстрым.
Она дышала, дышала и вдруг начала чувствовать необыкновенный прилив сил. Появилось чувство удивительной легкости. Она словно левитировала над тахтой. Самое необычное ощущение возникло, пожалуй, в пальцах. Казалось, что по ним проходит электрический ток. Вибрации становились все сильнее, растекались по рукам и ногам, пересекаясь где-то в центре тела. Под животом…






