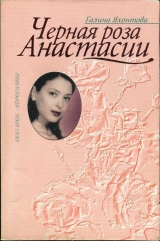
Текст книги "Черная роза Анастасии"
Автор книги: Галина Яхонтова
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Но вот дом… Собственный коттедж, напрочь опровергающий извечную истину, что сапожник ходит без сапог, Евгений возвел полтора года назад. Особнячок вышел очень милый: не ангарно-огромный, не в псевдозамковом стиле, но отличающийся от окружающей застройки – так выделяется драгоценный камень среди стекляшек. У Евгения был замечательный вкус, благодаря этому врожденному качеству президента компания и преуспевала.
Да, замечательный дом был у Пирожникова: полутораэтажный, с двумя спальнями, просторной гостиной и большой зеркальной столовой, отделенной от кухни зеркальной же дверью, с гаражом, цветником и садом, тоненькие деревца которого обещали в скором будущем щедро плодоносить.
И решил, а вернее, решился оставить Евгений свое уютное жилище на попечение своей эротической подруги Екатерины Лисицыной, хотя и не первой красавицы столицы, но девицы вполне элитной и, как казалось Пирожникову, надежной, поскольку уж очень хотела она выйти замуж за владельца домика, за „мальчика-с-пальчик“, как она ласково его величала.
Пирожников теоретически не исключал возможности бракосочетания с Екатериной прекрасной, но какая-то пружинка, какой-то винтик внутри неизменно удерживал его от этого шага. Скорей всего, эта пара была поражена, как говорят современные психологи, парадоксом страсти, когда один из партнеров все время пытается наступать, а другой, как зверь, чующий погоню, всеми силами стремится ускользнуть. Так или иначе, но Евгений не соглашался узаконить отношения, не поддавался ни на какие лисьи хитрости, хотя даму свою содержал и лелеял. Даже – вот невиданный случай – не изменял ей, не покушался на девочек по вызову и разъездных секретарш… А может быть, он просто боялся СПИДа?
У Лисицыной вскоре обнаружилась одна забавная страсть: она проявляла удивительные способности к дегустации алкогольных напитков. Пробовала же она все – от какого-нибудь абстрактного „Рислинга“ или „Мартеля“ до вполне конкретных „Фин-Шампань“ или „Метаксы“. И Пирожников в свободное от дел фирмы время сопровождал свою боевую подругу в походах по винно-водочным отделам. Любовники набирали полные полиэтиленовые пакеты изумительных по форме и содержанию ярких бутылок, а Екатерина при этом пошучивала, что новое вино следует наливать в новые же меха. „Сладкая парочка“ часто совершала фантастические автопробеги с одной окраины мегаполиса на другую. Они приобретали все новинки российского алкогольного рынка, а потом десантировались в доме „мальчика-с-пальчик“, где и разгружали свои пакеты, простите, меха.
После торжественной сервировки стола следовала дегустация, по размаху достойная печально известной римской императрицы Мессалины.
После ужина Лисицына становилась тихой и несчастной. Чаще всего она сначала плакала над своей неудавшейся жизнью, а потом засыпала спокойным сном ребенка. К счастью, ее оргии не заканчивались песнями или битьем бутылок о стены. А потому Пирожников решил, что недостатки и причуды Екатерины вполне можно терпеть. Да и где найдешь спутницу без недостатков!
Вот такая боевая подруга и осталась во дворце ждать своего короля. Конечно, захаживала в дом пожилая женщина, помогавшая в уборке. Безусловно, посещал владения Пирожникова опытный садовник, любивший деревья больше, чем людей. Несомненно, как и все дома вокруг, этот был подключен к общей системе сигнализации с видеокамерой над воротами.
Но хозяйкой, калифом на час, осталась Екатерина Лисицына, студентка романо-германского отделения филфака МГУ, безупречно, с классным произношением читавшая вслух надписи на этикетках французских, итальянских и испанских амброзий.
Месяц в Сиднее пролетел фантастически быстро. Евгений Пирожников завел множество деловых связей, нашел чудесных партнеров, питавших генерированное жаждой экзотики теплое чувство к России и „новым русским“. Окрыленный удачей, с атташе-кейсом, полным контрактов, проспектов и прожектов, он возвращался в Москву. Причем примерно на неделю раньше оговоренного срока…
Нельзя сказать, что он впал в глубокую ностальгию, толкнувшую его на этот преждевременный шаг, что он невыносимо соскучился по Екатерине, хотя звонил ей регулярно, несмотря на разницу во времени суток и года, каждый раз слыша дежурный набор: „Все хорошо, милый. Я просто умираю от тоски по тебе, мой „мальчик-с-пальчик“. Временами Евгению казалось, что эти слова были записаны на автоответчик, но поскольку вздохи и паузы варьировались, он убеждался, что возлюбленная говорит „в живом эфире“.
Евгений возвращался с гостинцами: в дорожной сумке, сданной в багаж, покоилось несколько бутылок, предусмотрительно запакованных, дабы избежать аэротряски, в надежные коробки со стенками, выклеенными гофрированной бумагой. Что было в бутылках, Евгений точно не мог сказать, но обретенные на зеленом континенте приятели уверили российского коллегу, что именно этот изысканный, типично австралийский напиток приведет его даму сердца в неописуемый восторг.
И вот счастливый путешественник вышел из машины возле родного дома и полной грудью вдохнул прохладный первоапрельский воздух. Из открытой форточки лилась лирическая мелодия. Входная дверь оказалась незапертой. Евгений вошел в прихожую и устало опустил драгоценную ношу на пол.
И вдруг… В его, Пирожникова, любимом кресле-качалке, в его, Евгения, обожаемом махровом халате дымчато-серого цвета, в его, хозяина, разношенных тапках сидел какой-то пьющего вида тип и читал газету „Русский порядок“.
От неожиданности бизнесмен не нашелся, что сказать. Поэтому разговор начал патриот из кресла:
– Ты кто? – спросил он строго, как следователь.
– Я… хозяин, – тихо, но твердо ответил Евгений.
– Ха! – осклабился патриот, а потом крикнул, обращаясь куда-то в левую часть дома, где, по смутным воспоминаниям Пирожникова, была ванная: – Катенька!
– Что? – раздался нежный голосок, созвучный легкому шуму льющейся воды.
– Катя, где наш хозяин? – спросил тип.
– Наш хозяин в Австралии, – нараспев ответили из ванной.
– Вот, понял, хмырь, он в Австралии, – объяснил Пирожникову незнакомец.
Услышав это, милый и добрый человек, наделенный от природы обворожительной улыбкой Чеширского кота, вдруг превратился в подобие озверевшего Кота Леопольда.
Не в пример удачливым героям Боккаччо, гости домика „мальчика-с-пальчик“ вынуждены были сниматься с насиженного места в высшей степени стремительно.
Слегка одурманенная утренним похмельным синдромом Лисицына катапультировалась, натянув на свое мокрое, голое, но прекрасное тело песцовую шубку – самое дорогое, что у нее было в жизни. А незнакомый патриот, так и не успев представиться, улетучился, навсегда утащив даже память о великолепном махровом халате и стоптанных тапках „хозяина из Австралии“. Впрочем, Пирожников не жалел о потерянных предметах гардероба, поскольку первое желание, которое у него возникло, когда он увидел свои вещи на приверженце русского порядка, было сродни тому, какое испытал нарком Берия в одном известном фильме, совершенно аналогичным образом разглядевший свой халат на девушке, доставленной для утех. Лаврентий Павлович вымолвил тогда только одно слово: „Сжечь“. И был прав.
Домик „мальчика-с-пальчик“ снова опустел. От избытка чувств хозяин выпил в гордом одиночестве половину содержимого одной из бутылок. Австралийское виски показалось ему напитком, способным удовлетворить разве что вкусы кенгуру. Плюс к тому на глаза нашему герою попалась статья о пагубных веяниях запада на российскую мораль, напечатанная в… злополучном „Русском порядке“. Автор статьи вдавался в исторический экскурс о том, что были на докапиталистическом Западе полезные изобретения в области интима: „Интересам мужей служили механические средства защиты, которые считались надежнее клятв в верности: хитроумные решетки, „запиравшие вход в сад земной любви“. Это были пояса Венеры, которые исключали возможность проведения полового акта, но не ограничивали естественных потребностей женщины. Они запирались сложным замком, ключ от которого находился у мужа“. Евгений плюнул и бросил газету в горящий камин. Скромного кавалера Де Грие из нашего героя не получилось…
Примерно в то же время, когда происходили эти печальные события, Настя в который раз изучала страницы знаменитой книги Антуана Франсуа Прево д’Экзиля, воспевшего самую бескорыстную, всепрощающую любовь бедного Де Грие к прекрасной Манон.
„Ей шел семнадцатый год; пленительность ее превосходила всякое описание: столь была она изящна, нежна, привлекательна; сама любовь! Весь обман мне показался волшебным.
При виде ее я замер в смущении и, не догадываясь о цели ее прихода, ожидал, дрожа, с опущенными глазами, что она скажет. Несколько минут она находилась в не меньшем замешательстве, нежели я, однако, видя, что я продолжаю молчать, поднесла руку к глазам, чтобы скрыть слезы. Робким голосом сказала она, что я вправе был возненавидеть ее за ее неверность, но если я питал к ней когда-то некоторую нежность, то довольно жестоко с моей стороны за два года ни разу не уведомить ее о моей участи, а тем более, встретившись с ней теперь, не сказать ей ни слова. Смятение моей души, покуда я выслушивал ее, не может быть отражено никакими словами…
…Мы сели друг подле друга. Я взял ее руки в свои. „Ах, Манон, – произнес я, печально смотря на нее, – не ожидал я той черной измены, какой отплатили вы за мою любовь. Вам легко было обмануть сердце, коего вы были полной властительницей, обмануть человека, полагавшего все свое счастье в угождении и послушании вам. Скажите же теперь, нашли ли вы другое сердце, столь же нежное и преданное? Нет-нет, природа редко создает сердца моего закала. Скажите, по крайней мере, сожалели ли вы когда-нибудь обо мне? Могу ли я довериться тому доброму чувству, которое побуждает вас сегодня утешать меня? Я слишком хорошо вижу, что вы пленительнее, чем когда-либо, но, во имя всех мук, которые я претерпел за вас, прекрасная Манон, скажите мне, останетесь ли вы верны мне теперь?“
Она наговорила мне в ответ столько трогательных слов о своем раскаянии и поручилась мне столькими клятвами в верности, что смягчила сердце мое беспредельно…“
Настасья любила эту легкомысленную книгу, несмотря на ее „историческую“ непристойность, любила, сожалея, что не может отмыть ее запятнанные страницы. „Манон Леско“ является исключительным романом, который обаятелен самой испорченностью своей, и героиню которого ни за что в жизни не хотелось бы реабилитировать. Менее виноватая или менее безнравственная, Манон уже не была бы сама собой. Пятнышко грязи идет, как мушка, ее безрассудной головке. Это знак, по которому ее узнают любовники.
Сочувствуя бедному влюбленному кавалеру, Анастасия тем не менее отложила в сторону ручку, аккуратно собрала исписанные листки в стопку, которую положила в верхний ящик своего еще не вполне освоенного, но уже любимого письменного стола. Вещи, как и люди, обладают тем свойством, что сначала их успеваешь полюбить и только потом к ним начинаешь привыкать…
Сегодня по расписанию у нее была редакция.
– Настя, я очень спешу, убегаю на заседание. – Присказка у главного не менялась. А сказка на этот раз была такая: – Я тебя позвал, потому что хочу дать задание, рассчитанное исключительно на тебя, дорогая.
– Снова феминистки-суфражистки? – спросила она, едва не зевая.
– Нет, не угадала! – Он таинственно улыбнулся.
– Так что же?
– Нам позарез нужен материал о каком-нибудь толковом деловом человеке, бизнесмене например, приносящем пользу державе. Только чтобы не перекупщик, не маклер, а человек, занятый в сфере производства. Очерк о герое нашего времени, как говаривали в период застоя.
– Президент строительной фирмы подойдет? – Настя быстро сообразила, что наконец-то представился счастливый случай отблагодарить „птицу Феникс“.
– Строительной? Думаю, подойдет. Хорошо, если бы он при том был еще немножко… и меценатом. В общем, смотри по обстоятельствам. – Редактор вскочил, быстро надел пальто и шляпу и, дружески похлопав Настю по плечу, удалился.
Она представила лицо Евгения, его милую улыбку и поймала себя на мысли, что ей приятно с ним снова встретиться.
Она позвонила в „Феникс“ не откладывая, прямо из кабинета главного редактора, но секретарша сказала, что он на объектах.
– Что ему передать?
– Ничего… А впрочем, передайте, что его беспокоила пресса.
Настя положила трубку, не слишком уверенная, что слово „пресса“ поможет Пирожникову сориентироваться и выйти на конкретного представителя этой самой абстрактной прессы.
Минуту она сидела в задумчивости. Сегодня ей почему-то необходимо было с кем-нибудь пообщаться, как говорил экстрасенс Игорь, схватить клочок положительной энергии. И она снова взялась за телефон.
– Гурий Михайлович? Это Настя Кондратенко.
– Очень, очень рад.
Она различила в голосе Удальцова нотки удивления.
– Мне бы очень хотелось с вами пообщаться.
– Так в чем же дело? Я выезжаю… Но куда? В Дом литераторов?
– Мне не хотелось бы встречаться с вами в цэ-дэ-эле. – Настя представила любопытные глаза, горящие во всех углах, как уголья в темноте.
– Тогда где же?
– Давайте подумаем…
Голос в трубке на продолжительное время замолк. А потом зазвучал с прежней решительностью:
– Настя, не подумайте чего плохого и поймите меня правильно. – Это Удальцов произнес тоном учителя, обращающегося к ученику. – У меня есть ключи от квартиры моего приятеля, который сейчас лежит в больнице. Мы могли бы там спокойно побеседовать. Ну как?
– Я не против.
Настя, правда, подумала, что с таким же успехом можно было бы встретиться и в ее собственной квартире. Но жажда сменить обстановку была сильнее разумного решения.
– Тогда запишите адрес. Я буду вас ждать часа так через два. Хорошо?
– Да, до встречи.
На самом деле на сборы Насте понадобилось от силы минут десять, она сложила бумаги на столе, вымыла чашечку с кофейной гущей, на которой не собиралась гадать, и выкурила сигарету с Таней – корреспондентом отдела морали.
Чтобы убить оставшееся время, она стала читать полосы завтрашнего номера. Ее внимание привлекла статья некоего профессора этики, изучающего мораль первых послереволюционных лет.
„Проповедь „свободы любви“ исходила от таких радикально настроенных деятельниц коммунистического движения, как И. Арманд и А. Коллонтай. Охваченная революционным энтузиазмом молодежь решала „проклятый вопрос“ с неподражаемой прямотой: „Слушали: о половых сношениях. Постановили: половых сношений нам избегать нельзя. Если не будет половых сношений, то не будет мировой революции“.
Отношения „без черемухи“ (одноименный роман П. Романова), „без всяких причиндалов“ нашли в студенческой среде немало горячих сторонников. Среди учащихся вузов, проанкетированных Д. Лассом в 1928 году, почти половина ответила, что „любви нет“, „не понимаю, что такое любовь“, „любви не признаю“ и т. д. С насмешкой говорят об этом чувстве и герои литературных произведений:
„Мы не признаем никакой любви, – восклицает комсомолец из повести Л. Гумилевского „Собачий переулок“, – все это буржуазные штучки, мешающие делу“.
Комсомолка Женя, выведенная А. Коллонтай в одном из очерков, заявляет: „Половая жизнь для меня простые физические удовольствия, своих возлюбленных меняю по настроению. Сейчас я беременна, но не знаю, кто отец моего ребенка, для меня и это безразлично“. Героиня того же Л. Гумилевского выражается еще определенней: „Довольно! Требуется тебе парень – бери, удовлетворяйся, но не фокусничай. Смотри на вещи трезво. На то мы и исторический материализм изучаем…“
Социалистическая действительность мало соответствовала провозглашенным декларациям. Еще Г. Спенсер сказал: „Нет такой политической алхимии, посредством которой можно было бы получить золотое поведение из свинцовых инстинктов“.
Да уж, не получается великой любви из „свинцовых инстинктов“. Анастасия убедилась в этом на собственном нескладном опыте. И теперь, по-бабьи сочувствуя комсомолке двадцатых годов Жене, она тем не менее ловила себя на мысли, что в какой-то момент и ей самой стало безразлично, кто отец ее будущего ребенка. Хотя, в отличие от героини очерка А. Коллонтай, Настя прекрасно знала, что этим отцом являлся Ростислав Коробов – первая и, как казалось, единственная любовь, неспособная однако брать ответственность ни за собственные стихи, ни за близких людей, ни за ночной металлический гул пожарной лестницы – общежитских „врат“ в рай.
„Все люди и события появляются в нашей жизни только потому, что мы их сами призываем“, – подобную мысль она когда-то вычитала в „Иллюзиях“ Ричарда Баха. Так что не стоит винить других в собственных ошибках и просчетах. Даже если эти другие – мужчины, которые всем ходом жизни на земле призваны заботиться о своих женщинах и детях. Даже если они заставляют женщину чувствовать себя невообразимо сильной. Уныние – тяжкий грех. И Настя собирала все еще оставшиеся душевные силы, чтобы не впасть в него. А кривая как-нибудь выведет…
Дом, где ее должен был ждать Удальцов, находился на улице Неждановой. Тихий, неестественно спокойный квартал. Такой спокойный, что даже не верилось, что это Москва. И не просто Москва, но самый центр ее. И время здесь, казалось, было остановлено, переплавлено в камень, заморожено где-то во второй четверти прошлого века.
Рядом с этими колоннами, арками и порталами Настя ощутила себя одетой нелепо и безвкусно, словно явилась к званому обеду в трико. На мгновение возникло острое желание обрести гармонию, начав хотя бы со смены демократичной куртки на соболье манто. Она вошла в полутемный, оскверненный непочтительным к старине двадцатым веком подъезд и почувствовала, что ее внешний вид больше не важен, потому что внутри здание оказалось перестроенным, а значит, лишенным каких бы то ни было примет стиля. Окна на лестничных площадках между этажами были полукруглые, со сложными рамами, напоминающими решетки. Небольшие стекла явно отличались одно от другого, с новыми, возможно только вчера вставленными, соседствовали перламутровые от старости, придающие переулку фантасмагорические черты. Она подумала, что, не исключено, Михаил Булгаков тоже иногда смотрел на мир сквозь такие вот отекшие от времени стекла.
Квартира на третьем этаже встретила ее неприветливой дверью из дуба, хотя и не мореного, но обработанного „морилкой“. Она позвонила, и мелодичные звуки заглушили участившееся вдруг сердцебиение. Замок долго щелкал и вздрагивал, словно не хотел слушаться. Но с судьбой бороться бесполезно, и дверь открылась скрипя.
– Настя! А я, признаться, уже заждался.
Гурий Михайлович казался чересчур суетливым и взволнованным. И намека не осталось на „бронзовую“ неприступность, которая так привлекала женщин.
Квартира была засыпана пылью, как январская улица – снегом. Вещи, трогательные статуэтки, которых так много бывает в старых жилищах, – все это находилось в полном порядке, но видно было, что давно, очень давно, к ним не притрагивались.
Дом выглядел настолько нежилым, словно несколько месяцев назад рядом взорвалась нейтронная бомба и люди улетучились, растаяли, оставив в полном порядке свои пожитки.
– Я тут принес, вот. – Удальцов указал взглядом на кухонный стол, на котором, словно пришельцы из иного мира, возвышались бутылка итальянского шампанского „Милорд“, банка израильского растворимого кофе и пакет, очевидно, со съестным.
Анастасия, повинуясь инстинкту хранительницы очага, взяла тряпку, иссохшую, как египетская мумия, и, собрав все силы, открыла кран. Ржавая вода со страшным ревом устремилась в раковину. И вот мутный поток сменился прозрачным, принося успокоение в ее душу. „Не зря японцы так любят созерцать падающую воду“, – эта нелепая мысль пришла ей в голову на неизвестно чьей кухне в присутствии великого поэта Удальцова.
– Где здесь чайник? – Это она произнесла вслух.
– Вот.
Посудина, которую подал Насте поэт, выглядела в высшей степени исторической. Чайник – медный! В такой когда-то, по преданию, смотрелась Золушка, не имевшая зеркала. Но поверхность этого чайника, покрытая темной зеленой патиной, не отражала даже синего пламени. Пока чайник тихонько урчал, Настя сметала со стола пыль, под слоем которой этот дом задыхался, как задохнулись Помпеи под тяжестью пепла.
Старинные хрустальные бокалы, серебряные чашечки для кофе, фарфоровые тарелки с „перфорированным“ краем – для бутербродов, явно купленных в кафе Центрального дома литераторов. И весь этот дух старины в Настином сознании странным образом переплетался с обликом самого Удальцова… Он казался ей частью этого немножко бутафорского от излишней подлинности мира. Хотя он был старше Насти всего на каких-то лет двадцать пять. Классическая разница для пар, в прошлом веке принадлежавших к российскому высшему свету… И сам он, казалось, чувствовал, что ест не из своей тарелки – в прямом и переносном смысле.
Они вели ни к чему не обязывающий разговор о его двух дочерях, о том, что у гениев почти всегда рождаются дочки, и о том, что, „как говорит один экстрасенс“, к Насте притягиваются те мужчины, которым нужна сильная женщина, ибо она именно такой и является.
Они говорили обо всем и ни о чем конкретно, пока наконец Удальцов не сформулировал нечто выстраданное, прочувствованное больше, чем все его стихи.
– Моей душе хорошо с тобой, Настя, но я слишком стар для молодой женщины…
Она пыталась возразить, но он сделал запретительный знак рукой и продолжал.
– Но я поэт, – улыбнулся он тихой улыбкой, от которой Насте стало немножко страшно, – и я не знаю, что такое любовь. Я знаю, что любовь – это стихи. Строки остаются, когда исчезают и поэты, и их возлюбленные. Правда, современники никогда не понимают, что истинно, а что ложно. Но будем надеяться, что время играет нам на руку.
Он замолк, глубоко вдохнул, словно готовился к затяжному прыжку, а потом начал читать:
На темном склоне медлю, засыпая,
Открыт всему, не помня ничего.
Я как бы сплю – и лошадь голубая
Встает у изголовья моего.
Покорно клонит выю голубую,
Копытом бьет, во лбу блестит огонь.
Небесный блеск и гриву проливную
Я намотал на крепкую ладонь.
А в стороне, земли не узнавая,
Поет любовь последняя моя.
Слова зовут и гаснут, изнывая,
И вновь звучат из бездны бытия.
Он читал, и на Настасью из ниоткуда, из иных миров изливались потоки света. И растения, неестественно зеленые в этом пыльном мире, протягивали к ней листья. И теплая энергия исходила от его голоса, его облика.
Она молчала, не находя, что сказать, бессильная перед великой силой искусства.
– Вот… Видишь как… И пусть потом разбираются, был я с тобой близок или не был. Пусть высчитывают, почему я это написал. – Он удовлетворенно улыбался в пространство. – В конце концов окажется, что в твоей жизни был только я один.
Настя подавила легкую волну негодования, поднявшуюся было в душе, но не стала возражать. Она молчала, потому что по-своему Гурий Удальцов был прав, поскольку обладал великой правотой Поэта.
Но по пути домой она, как заклинание, повторяла другую его строку: „И дымилась страсть из-под ногтей…“
„Кому он посвятил это?“ – вопрошала она.
Вечером того же дня Анастасия принялась перевязывать ленточкой „вязанку хвороста“ из „Золотого осла“ Апулея.
Она листала прекрасно изданную книгу с изумительными иллюстрациями, изображающими Луция, превратившегося в осла, Психею с обоюдоострым, как любовь, мечом в руках, Венеру, конические колонны, серебристые оливы и прочее древнеримское великолепие. И в Девятой книге „Метаморфоз“ нашла то, что искала, хотя выбирать что-то в этой книге, которую хочется переписать в „Любовный конспект“ всю, было очень тяжело.
„Но не успел юноша пригубить первой вступительной чаши и узнать, какой вкус у вина, как приходит муж, вернувшийся гораздо раньше, чем его ожидали. Тут достойнейшая супруга, послав мужу всяческие проклятия, прячет дрожащего, бледного от ужаса любовника под случайно находившийся здесь деревянный чан, в котором обыкновенно очищали зерно…
…Наступило урочное время, когда хромой старик, которому поручен был присмотр за всеми вьючными животными, всем табуном повел нас на водопой к ближайшему пруду. Обстоятельство это доставило мне желанный случай к отмщению. Проходя мимо чана, заметил я, что концы пальцев у любовника высовываются, не помещаясь, из-под края; шагнув в сторону, я наступил со злобой копытом на его пальцы и раздробил их на мелкие кусочки. Издав от невыносимой боли жалобный стон, он отталкивает и сбрасывает с себя чан и, обнаружив себя непосвященным взглядам, выдает козни бесстыдной женщины.
А мельник, не слишком взволнованный нарушением супружеской верности, приветливо, с ясным и доброжелательным лицом обращается к смертельно побледневшему молодому человеку:
– Не бойся, сынок, с моей стороны тебе не грозит ничего плохого. Я не варвар и не такой черствый человек, чтобы по примеру сукновала уничтожить тебя смертельным дымом серы или отрубить голову такого красивенького и милого мальчика в наказание за прелюбодеяние. Нет, я просто поделюсь тобою с женой. Я прибегну не к форме раздела имущества, а к способу общего пользования, чтобы без споров и упреков мы все трое поместились в одной постели. Да я всегда жил с женой в таком согласии, что у нас, как у людей умеренных, вкусы всегда совпадали. Но сама справедливость требует, чтобы у жены не было перед мужем преимущества.
С такими шутливыми словами он повел юношу к постели, а тот, хотя и неохотно, но шел за ним. Тогда, заперев в отдельной комнате свою целомудренную жену, возлег с молодым человеком и использовал наиболее приятный способ расплаты за свои поруганные права мужа.
А когда небесное светило привело за собою рассвет, мельник позвал двух самых сильных работников и, приказав поднять юношу как можно выше, отхлестал его рукой по ягодицам, приговаривая:
– Сам еще мальчишка, нежный и молоденький, лишаешь любовников цвета своей молодости, нарушая законы брака и преждевременно стараясь присвоить себе звание прелюбодея.
Вот он, пример бесстрашного любовника, который неожиданно вышел целым из опасности, если не считать белоснежных ягодиц, перенесших издевательство и ночью, и утром. А мельник уведомил жену о разводе и в тот же день выгнал ее из дому“.
Настин ужин напоминал известный „завтрак аристократа“: кружка молока, морковный салат и кусочек хлеба. При полном отсутствии аппетита она готовилась поглотить „добычу“, как вдруг раздался звонок в дверь.
В глазок она увидела какое-то существо с длинными волосами.
– Кто там?
– Это я, Лена, открой, – послышался голос Ленки Дробовой, давно исчезнувшей и уже полузабытой.
Кажется, в том же октябре она вместе с „братьями" отправилась на Алтай.
Анастасия впустила пришедшую, внешне смахивающую на странницу. Та вошла как-то боком, опасливо озираясь.
– Проходи, Лена. Я одна, – успокоила ее Настя.
На Ленке была линялая куртка и такие же джинсы, свитер, ажурный от проедин моли, и ко всему еще шейный платок непонятого цвета.
– Как у тебя… Страшно.
– Что – страшно? – удивилась Настасья.
– В таких жилищах обитают дьяволы, – объяснила Ленка, и теперь уже страшно стало хозяйке дома.
– Проходи, проходи. Сейчас кофе сварю. – Она провела гостью на кухню.
Ленка тихо опустилась на табуретку, отсутствующим взглядом обозревая кружки, чашки, тарелки, шкафчики и иже с ними.
– Нас выгнали с квартиры, – наконец произнесла она. – Я вернулась к матери, но не могу с ней ужиться. У-у, дьяволица!
– Почему же вас выгнали?
– Нашумела история с „белыми братьями“. Хозяйка, испугавшись, что мы такие же, отказала нам в квартире.
„Было чего испугаться“, – мысленно посочувствовала Настя хозяйке квартиры.
Пока она совершала ходку к секции за чашками, гостья успела истребить „завтрак аристократа“ и встретила Настино возвращение словами:
– Еще чего-нибудь у тебя пожевать не найдется?
В ее глазах блестел негасимый голодный огонь.
– Есть баночка сардин, а магазины уже закрыты, и на завтрак у меня ничего не останется, – вежливо и правдиво объяснила Настя.
– Давай сардины. – Ленка открыла пустой холодильник и с первого беглого взгляда нашла заветные консервы.
– Оставь мне одну рыбку. – Настя попыталась спасти свой желудок и для большей уверенности отложила рыбешку на отдельную тарелку.
Пока она варила кофе, хищная Ленкина вилка уже скребла о дно баночки.
– Ты будешь есть рыбу или нет? – твердо спросила „зеленая сестра“.
Настя обернулась и, повинуясь неугасимому огню Ленкиных глаз, устремленному на ее тарелку, быстро насадила сардину на вилку, отправила в рот и запила жадным глотком горячего кофе. Испытав действие ошеломляющей гаммы вкусов, Настя схватила стакан холодной воды, смачно отхлебнула из него, а потом посмотрела на Ленку с первобытной ненавистью.
Чего-чего, а возрождения внутривидовой вражды „братья“, несомненно, добились. Возродительница нравов первобытного коммунизма наконец-то приступила к разговору о том, за чем пришла:
– Я к тебе по делу. Дай мне координаты экстрасенса. Помнишь, ты мне о нем говорила.
– Он помогает только знакомым.
– А я с ним познакомлюсь, – нагло улыбнулась Ленка.
Настя вспомнила финал своего последнего разговора с Игорем и дала Ленке номер телефона. Встряхнув давно немытой гривой, та встала из-за стола.
После того как за Дробовой захлопнулась дверь, Анастасия долго убирала кухню, мыла посуду, пол, вытирала стол, удивляясь, насколько ее нынешнее состояние обострило чувство брезгливости.
Когда она протирала телефонный аппарат, тот вдруг внезапно зазвонил у нее в руках. Она сняла трубку, все еще держа в другой руке тряпку.
– Настя, это вы мне звонили? – услышала она голос Пирожникова.
– Да, Евгений. Это я. Но мы вроде бы перешли на ты, – напомнила она.
– Ой, прости. Я так обрадовался, что ты мне позвонила, даже немного растерялся. – Он говорил быстро-быстро, и Настя подумала, что ей в нем нравилось больше всего: прямота и искренность.
– Я хотела тебя отблагодарить за свое чудесное спасение.
– Ну уж…
– Не прибедняйся. Лучше согласись дать мне интервью – материал для этакого очерка о герое нашего времени.
– Может быть, не стоит?
Ей показалось, что он слегка разочарован таким предложением.
– С рекламой, конечно. – Она знала, чем его искусить.
– Тогда о’кей. Когда?
– Время назначай ты. А я постараюсь вписаться в твой плотно упакованный график.
– Завтра, завтра… – Видимо, он листал еженедельник. – Завтра в шестнадцать ноль-ноль. Тебя устроит?
– Вполне.
– Если ты не против, я за тобой заеду.
– Я не против.
– Куда заехать?
Этот вопрос удивил Настю.
– Домой, куда же еще? В Марьину Рощу.
А во сне ей снова и снова снился Ростислав. Изгоняемый из яви, из бытия, он находил лазейку в ее „неправильно работающем подсознании“.






