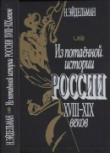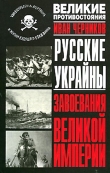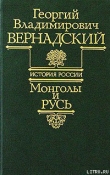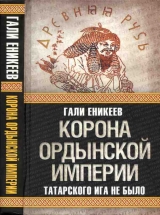
Текст книги "Корона Ордынской империи, или Татарского ига не было"
Автор книги: Гали Еникеев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Также, для лучшего восприятия народом, достаточно осведомленным о географии Центральной Евразии, должны были быть в летописи-легенде отражены и объективные факты – географические и этнографические, а также и хронологические сведения – место и время рождения героя; названия имен собственных известных личностей, топонимы, некоторые даты известных событий, условия жизни персонажей и т. п. И красивая легенда о герое обязательно должна была быть «вплетена» в оправу правдивой фабулы, безо всякой фальши «привязанной» к определенной – реальной – местности, и к обстановке, соответствующей реалиям описываемого времени, и к достаточно точной хронологии. Впоследствии, при переписках и пересказах, в легенду могли вноситься лишь несущественные изменения (автору этих строк доводилось слышать содержание «Чынгыз-бий хан Дафтере» в пересказах стариков в 70-х и 80-х гг.).
Посмотрим, где именно, по данным татарской летописи, родился Чынгыз хан:
У Белого моря, «в городе Мальте жил Алтын-хан, жену которого звали Курлавуч. У них росла дочь – красавица Гуламалик-Куркли, которую родители берегли как зеницу ока и держали за закрытыми дверями и окнами. Но однажды, открыв окно, она увидела солнечный луч и… забеременела от него. Родители, чтобы избежать позора, посадили ее на специально снаряженный корабль и пустили по морю».
«Однако беременная царевна попадает в руки Тумаула, «деда» Чынгыза, который женится на ней и радуется тому, что она беременна и девственница. Вскоре у них родился сын, которому дали имя Дуйын-Баян. От Тумаула царевна-изгнанница рожает еще двух сыновей (Будантай и Белугтай). Их, чтобы они не были соперниками Дуйын-Баяну, отец отправляет в страну калмыков[92]92
На рубеже XVI–XVII вв., когда составлялся данный список летописи, калмыками уже звали потомков ойратов – халха-монголоязычного народа. Примерно в то время они и прибыли в Россию из «своей страны» – Западной Монголии и Джунгарии, которая и для калмыков тоже – «историческая родина».
[Закрыть] (!), а последнего женит на Алангу, происходившей также из рода Алтын-хана. Алангу родила трех сыновей: Буданджар, Кагынджар, Салджу.
После смерти Дуйын-Баяна вдова Алангу опять забеременела, но также от божественного луча. Претендовавшие на престол старшие сыновья обвинили ее в разврате. Алангу требует выяснения; чтобы убедиться в ее беспорочности специальная «комиссия» должна была нести дежурство у ее дома. Под утро с неба спускается яркий луч, который входит в дом Алангу, а через некоторое время выходит оттуда в образе серого волка, и, крикнув «Чынгыз!», уходит в лес. Народ убеждается в невинности Алангу. Родившемуся сыну дают имя Чынгыз» (105, 107–108).
Как видим, здесь называется предположительное место проживания предков Чынгыз хана и называются два топонима: «город у Белого моря – Мальта». «Белое море» – это однозначно топоним, и сохранился он к настоящему времени, хотя не совсем как название именно моря.
Название города из легенды – «Мальта», это название населенного пункта, и реального. Но не южноевропейского, известного ныне, а сибирского.
Выше было показано, что сведения из нескольких независимых источников, таких как работа Махмуда Кашгари, древнекитайских летописей, переведенных В. П. Васильевым, Сборника летописей разных мусульманских авторов, известного как «Сборник летописей Рашид ад-Дина» указывают на проживание татар, применительно к рассматриваемому случаю, в районе Орхона и Байкала. Точнее, из этих сведений напрашивается вывод о прибытии древних татар на Байкал с южной стороны по рекам Орхону и Селенге.
Обратим теперь внимание на то, что на Байкале есть и поныне топонимы, которые упоминаются в татарской легенде о происхождении Чынгыз хана: это, во первых, село Мальта, ударение на последнем слоге, как и в большинстве татарских слов: «Мальта, позднепалеолитическая стоянка нар. Белая, у с. Мальта, в 85 км. к западу от Иркутска. Полуземлянки и наземные жилища, кам. и костяные орудия, статуэтки, погребение мальчика с костяными украшениями» (94, 764).
Второй топоним – это река Белая[93]93
Можно возразить, что этот топоним «Белая» – название русское. Но есть, к примеру, также и в Башкирии река Белая, по-татарски же называется «Агидель», то есть – «Белая река». Отсюда видно, во всяком случае, что в названии реки прилагательное «Белая» сохраняется при переходе его в другой язык.
[Закрыть]. В легенде это название моря, но – река Белая фактически впадает в море – Байкал, она – как бы продолжение (залив) моря, учитывая что Ангара, притоком которой и является Белая, вытекает из моря – Байкала[94]94
Есть у Ангары в этой местности одна уникальная особенность, придающая ей сходство с незамерзающим зимой морем. Река эта не замерзает круглый год на протяжении километров 20, начиная от Байкала – и это свойство природное, так как сравнительно теплая вода температурой выше нуля, поднимается зимой с глубины озера и вытекает в Ангару.
[Закрыть].
От устья реки Белой, на которой и находится современное село Мальта, до самого Байкала по Ангаре расстояние около ста километров. Как видим, местом обитания предков Чынгыз хана и, возможно, его родиной татарская летопись указывает западное побережье Байкала, и эти сведения совпадают с современными топонимами, и город Мальта мог, соответственно существовать на берегу Байкала или неподалеку на реке в X–XI вв., несколько поколений до рождения Чынгыз хана. И наименование этого города могло перейти впоследствии к современному селу Мальта. Топонимы, что общеизвестно, могут сохраняться тысячелетия, а не только века.
Чынгыз хан мог, несомненно, родиться и в другом месте, или начать свою заметную для историков деятельность в другом районе Центральной Евразии, где также обитали татары задолго до «монголо-татарского нашествия», судя по приведенным выше сведениям. Хотя, стоит упомянуть, что татарские источники содержат также сведения, что «юртом рождения, жизни и правления Чынгыз хана являлся Кытай» (105, 111).
Но заметим, что географическое понятие «Кытай» означало в рассматриваемое время весьма обширные территории – по выражению Л. Н. Гумилева, «от Китайской стены до сибирской тайги»[95]95
«Термин Хитай (или Хатай, Китай) означал в ту пору (в средневековье. – Г.Е.) северную пограничную область Китая (Катай, Cataya Марко Поло, по его словам, там много христиан, идолопоклонников и мусульман); Мачин (а также Манзи) – Южный Китай)» (87, 47).
[Закрыть], а вовсе не означало страну (территорию государства) народа, известного ныне под схожим названием – «китайцы» (самоназвание «хань»).
Как видим, сведения о проживании части средневековых татар – представителей «улуса, в котором родился Чынгыз хан и единоплеменные с ним поколения» на Байкале, о строительстве и использовании ими судов, о проживании их в городах, приведенные выше – полностью согласуются со сведениями татарской летописи. И главное – все эти сведения противоречат официальной версии происхождения Чынгыз хана из племени кочевников-халха, использующих в качестве основного жилища примитивные передвижные юрты и не имевших других навыков создания материальных благ, кроме «малопродуктивного кочевого скотоводства». Но как видим, и город, и корабль (судно) и море в татарской легенде, и даже, как мы видели также выше, локализация и этническая принадлежность соплеменников героев – все мои гипотезы подтверждаются также данными из других, независимых друг от друга источников.
Особо стоит отметить, что в татарской легенде, отрывок из которой приведен выше, имеется существенная деталь в сюжете о чудесном происхождении Чынгыз хана: волшебный луч проникает не в дымоход юрты, как в легенде китайцев и персов (55, § 21), а в окно городского дома. И легендарный волк убегает в дверь именно дома.
Объяснение этому простое – китайцам и их соавторам-последователям персам необходимо было в своей историографии представить Чынгыз хана исключительно прирожденным «диким кочевником», «учителями» которого были именно китайцы.
А соплеменников основателя и первого правителя державы монголов авторам китайско-персидской «Истории о монголах» необходимо было объявить «веточкой великого ханьского народа», как утверждают сами китайцы (об этом ниже), халха-монголами, которые вели именно исключительно кочевой образ жизни и находились на соответствующем уровне развития.
И как мы видим, татарская летопись – это летопись народа, обладавшего издревле высоким уровнем материальной культуры, и летопись повествует именно о предках данного этноса, к тому же у персонажей легенды татарские имена. Также герои летописи, судя по ее содержанию, обладают всеми качествами «оседлых» народов: умеют строить дома, суда, ходят на судах по рекам (возможно, и по Байкалу) живут в городах. Все эти свойства, присущие татарскому народу, как следует из приведенного, частично признаются даже официальными историками, но лишь в отношении «монголо-татар» – и то в более поздний период существования монгольской державы.
Как видно из приведенных выше сведений, достойных доверия, монголо-татары Чынгыз хана в своем развитии ничуть не отставали от «оседлых» народов, достигших для своего времени высокого уровня материальной культуры. И сочетал этот народ, как видно, одновременно и оседлый образ жизни, и кочевое, скотоводческое, хозяйство – но вовсе не «малопродуктивное».
Это свойство – сочетание «оседлой» и «кочевой» жизни у средневекового татарского народа, как и у некоторых других народов (арабов, уйгуров и др.), прошедших аналогичный путь в своем развитии в более ранние, чем татары, периоды истории, было замечено историками и явилось поводом для споров. Мол, что было «первично» у татаро-монгол и других «кочевников», «ставших почему-то оседлыми за весьма короткий исторический период» – государство или «оседлость»?
Известны факты находок в евразийской степи многочисленных свидетельств наличия в VIII–XII вв. земледельческих поселений, в том числе и городов. Л. Н. Гумилев решительно возражал против объяснения этих находок тем, что «кочевники, беднея, превращались в земледельцев и тем самым приобщались к цивилизации» (37, 311).
Не согласен был Великий Евразиец также и с утверждением о том, что исключительно «кочевнические образования – «тюркское, …уйгурское, …арабское, …татаро-монгольское и др. объединялись в государства, только когда часть населения обращалась к земледелию, создающему устойчивую экономическую базу» (там же, 323–324). Л. Н. Гумилев пояснял: «Растущие кочевые орды или племенные союзы подчиняли себе соседние оседлые народы, либо инкорпорировали, не ассимилируя, группы земледельцев, либо на основе симбиоза создавали мощные державы – иногда на основе военной демократии, иногда феодальных отношений» (там же, 323–324).
Учитывая изложенное выше, полагаю, можно сделать вывод о том, что именно сочетание земледелия и прочих навыков оседлого образа жизни с кочевым скотоводством и другой деятельностью, требующей постоянного перемещения больших групп населения и было свойственно этносу «монголо-татар Чынгыз хана» – древним и средневековым татарам, приблизительно с VIII в.
Имеются сведения о том, что средневековые татары как раз и занимались теми видами деятельности, которые требуют мобильности больших групп населения: сопровождением караванов и охраной караванных путей, товарным скотоводством, охраной государственных границ и отражением крупных войсковых соединений киданей, китайцев, позже чжурчженей и войск хорезмшахов.
Но «разделение труда» в самом татарском этносе (сочетание кочевого скотоводческого и оседлого хозяйствования) не исключало также, по выражению Л. Н Гумилева, и симбиоза – сотрудничества с другими, оседлыми и кочевыми, народностями и племенами.
В дальнейшем «оседлость» средневековых татар, надо полагать, увеличивалась на территории всей Центральной Евразии – там, где уже проживали их оседлые соплеменники. «Свертыванию» кочевого скотоводства особенно способствовало наступление вековой засухи в Великой Степи – усыхание и выгорание многих степей ввиду резкого уменьшения осадков в связи с перемещением глобальных циклонов севернее Великой Степи (34, 302–305).
Свидетельства проживания раннесредневековых татар мы можем видеть и ныне от Великой китайской стены, Алтая и Байкала до Черного моря – например, это локализация татарского населения России, факты существования «древнетюркских» и средневековых «татаро-монгольских» городов, различных памятников «древнетюркской» культуры. То есть имело место, в том числе и внутри этноса средневековых татар, именно «сосуществование кочевий и городов при меняющихся формах взаимодействия» (там же, 325).
Поэтому, нельзя сделать вывод, что татары Чынгыз хана были «полудикими кочевниками», только лишь из того, что об их войске, передвигавшемся в походе, различные летописцы оставили примерно такого рода сведения: «Татары не нуждаются в следовании за ними провианта и припасов, потому что при них овцы, коровы, лошади и другая скотина, и они ничем иным не питаются, как их мясом. Животные же их, на которых они ездят, (сами) разгребают землю копытами и едят корни растений, не зная ячменя. Вот почему, делая привал, они (татары) не нуждаются ни в чем постороннем» (101, 3).
Здесь речь идет лишь об идеальной для своего времени организации передвижения крупных войсковых соединений – по принципу «все необходимое, и ничего лишнего», знакомому даже современному военнослужащему любой страны. Войсковые соединения монголо-татар, ничем лишним не обремененные, были вооружены и организованы на совершенном для своего времени уровне, как в тактическом, так и в стратегическом смысле (8, 253).
Монголо-татары использовали совершенно новый принцип формирования войск – непривычный как для западных и восточно-мусульманских авторов, так, поначалу, и для русских – до определенного периода – казачий. При этом войско, либо отдельное его соединение, представляет собой поселение-«племя» – Орду, которой подчинялись меньшие «племена» – поселения, в то же время и административные районы – «улусы»[96]96
От татарского слова «олыс», современная литературная форма, принятая в официальном татарском языке: «олеш», что значит – «доля», «удел».
[Закрыть].
Ордой[97]97
От татарского слова «Урта» (Urta), что значит «Центр».
[Закрыть], то есть «Центром», также называлась ставка, если выразиться современным языком, главнокомандующего вооруженными силами государства монголо-татар на определенной территории.
Л. Н. Гумилев объясняет это слово так: «Слово «орда» значит «ставка хана», но в переносном смысле это эквивалент латинскому «ordo» – орден, то есть упорядоченный стан» (31, 488).
В переводах ярлыков монголо-татарских ханов с татарского языка, например, в ярлыках ханов Улуса Джучи, в том числе и в ярлыках на русском языке, встречаются выражения «в Сарае Орда кочевала», «Орда кочевала на Каонге», то есть указывается место составления и выдачи данного документа, подтверждающего чьи-либо права и привилегии, например, на ярлыках, выданных русским митрополитам в XIII–XIV вв.
Эти выражения из ярлыков, составленных на русском языке, привели историков, изучавших эти документы, к ложному выводу «о ведении золотоордынскими ханами, вместе со своей ставкой, кочевого образа жизни» (106, 265) – чему способствовало «общепризнанное мнение» о том, что монголо-татары были «полудикими кочевниками» из далеких степей Халха.
Несомненно, ставки монгольских ханов имели свойство становиться, причем весьма часто, также и мобильными походными штабами. При ставке имелся также соответствующий административный аппарат с канцелярией (там же, 267).
Мобильность ставки обеспечивала гораздо большую эффективность управления подвластными территориями, также и должный контроль со стороны администрации хана за соблюдением законности местными властями. В то же время весьма способствовало это управлению войсками и поддержанию их боеготовности.
И частые разъезды «правительства» по территории государства, думается, отнюдь не говорят о том, что ханы Улуса Джучи, например, вели исключительно «кочевой образ жизни», поскольку, мол, никак отвыкнуть не могли от своей «дикости» – встречаются и такие домыслы в историографии.
Как замечает академик М. А. Усманов, специально изучавший государственные документы монголо-татар, перевод «орда кочевала» является не совсем точным переводом со старотатарского языка «тюркского оригинала ирурдэ – что означает «во время нахождения», точнее, «в бытность». «Дело в том, что трудно грамматико-стилистическое толкование фразы «в Сарае (или Гулистане) орда кочевала», так как речь идет о стольных городах, поэтому в оригиналах этих ярлыков могло быть лишь вышеназванное слово ирурдэ – в бытность в Сарае» (106, 265).
М. А. Усманов объясняет, что «предположение это подтверждается данными оригиналов ханских ярлыков. Например, жалование Токтамыша написано «в бытность Орды в Ур-Тубе на Доне…». Ярлык Тимур-Кутлуга написан «в бытность Орды в Муджавиране на берегу реки Днепра»… У Улуг-Мухаммеда читаем: «Написано в бытность благословленной Орды в Крыму…» (там же).
Необходимо также отметить: как войска средневековых татар, так и зачастую и их самих конкретно – как рядовых бойцов, так и высший и средний командный состав очевидцы наблюдали в походных, полевых условиях. Это и информаторы араба Ибн-аль-Асира, и посещавшие монголо-татар лично европейцы Гильом Рубрук и Плано Карпини, и китаец Мэн-Хун, и многие другие, чьи сведения попали в исторические источники, составившие основу официальной истории о монголо-татарах.
Например, наблюдали очевидцы представителей средневековых татар именно в период «сбора» народа-войска и проведения войсковых операций во время боевых действий либо подготовки к ним – отсюда, полагаю, сведения, например, о «неустроенности нынешних татар» (17, 219), о том, что «татары, отправляясь в дорогу или возвращаясь домой, только и знают, что пьют кобылье молоко или убивают барана» (там же, 126), «на стоянках и заставах, ныне варят и едят кашицу» (там же) и т. п.
В заключение данной главы замечу, что любой этнос, наряду со своим самоназванием и языком, несомненно, сохранит имевшиеся у предков совершенные навыки владения письменностью, а также приобретенные ими когда-то опыт в строительстве городов, «постоянных обиталищ» – домов, навыки предков в металлургии, в хлебопашестве, да и в скотоводстве, в том числе и кочевом. Так как, согласится всякий – наличие в хозяйствовании товарного скотоводства вовсе не есть признак отсталости того или иного народа.
Также этнос не забудет и имевшийся в народе опыт, например, судостроительства, и навыки судоходства на крупных для своего времени судах и на значительные расстояния. А также сохранит любой народ и многовековой опыт предков в торговле, и в государственной и военной организации и строительстве, и в управлении государством. Все перечисленные свои навыки и свойства этнос сохранит, и они получат дальнейшее развитие, но никак не исчезнут, а если и исчезнут, то, скорее всего, только вместе с самим этносом (народом).
Эти навыки и свойства этноса монголо-татар, то есть, средневековых татар сохранились, естественно, в народе, носящем до сих пор подобное же название и самоназвание – «татар». Никто, надеюсь, не возразит этому. И не только сохранились, но и получили развитие перечисленные способности у данного этноса – и к тому же народ этот весьма щедро «поделился кадрами» со своими соседями по «месторазвитию» – Евразии, и кадрами весьма качественными и немалочисленными, сыграв значительную роль в формировании великорусского и ряда тюркских народов (наций).
Рассмотрим вкратце и другой аспект: согласно «общепризнанному» мнению официальной истории, «все как один обладающие свойствами прирожденных грабителей полудикие монголо-татары», в крайнем случае, их правящий слой – прямые предки современного народа халха-монголов.
Да еще, оказывается, «воины Чингисхана и их военачальники были не «степными рыцарями», воюющими за «возвышенные цели», как их пытаются представить некоторые зарубежные историки, а соучастники обыкновенного грабежа, пусть грандиозного по своим масштабам, охватывающего целые страны, но от этого не менявшего нисколько своей сущности»[98]98
В следующей части данной работы будут приведены сведения о том, что указываемые в многочисленных исторических трудах причины войн, которые вели монголо-татары, главные из которых – «полная неспособность монголо-татар к созидательному труду, присущее им жажда наживы, презрение к земледельцу», выражаясь помягче, надуманы официальными историками разных времен и народов.
[Закрыть] (49, 79).
Монголы (в смысле политического сообщества) создали евразийскую державу, и имел место в истории данный факт, и войны, которые вели монголо-татары, тоже происходили, безусловно. И предки халха-монголов, несомненно, принимали участие в этих событиях, хотя далеко не все монголы (представители политической системы) – были этническими халха-монголами, а лишь некоторые – также как и представители других народы.
В. В. Каргалов, современный классик изложения официальной версии истории о «татаро-монгольском завоевании и иге», так описывает судьбу монголо-татарского народа, то есть предполагаемых официальной историей предков халха-монголов:
«Беспрестанные завоевательные войны, в конечном счете, губительно сказались и на судьбе самого монгольского народа. Они в итоге стали главной причиной длительного политического, экономического и культурного упадка Монголии. Сотни тысяч монгольских воинов, оказавшихся в Китае и Индии, в Иране и на Волге, в половецких степях и в Крыму, теряли связь с родиной, растворялись в массе завоеванных народов, утрачивали даже родной язык. Многие из этих воинов погибли в трудных походах и кровопролитных сражениях» (там же, 79).
На это, во-первых, замечу, что «завоевательные войны», насколько известно, не были, все-таки, настолько «беспрестанными», чтобы измотать все силы средневековго татарского народа, да и присоединялись к монголам (в смысле политического сообщества) почему-то почти все «порабощаемые» в ходе строительства монгольской державы народы – за исключением определенной части их «феодальной верхушки». Причем присоединялись добровольно, как увидим ниже в данной работе – очень много тому свидетельств, на которые не «обращают внимания» официальные историки.
И странный факт – почему-то «завоеванные народы» в своем культурном и экономическом развитии никак не отстали – по крайней мере, (что не станет отрицать и В. В. Каргалов), от самой Монголии и ее народа (имеются в виду Монгольская Народная Республика и народ халха-монголы).
Факты говорят о том, что халха-монгольские воины, бывшие в составе войск Монгольской империи (хотя их было меньше, чем «сотни тысяч» – раз в сто поменьше), родной язык не утратили. Например, хэзарейцы-халха в Афганистане (в средние века это была территория Ирана), да население современной Монголии – остался при них язык халха-монгольский. Также и другие монгольские воины сохранили в большинстве свой родной язык – и русские, и татары, и мордва, и многие другие, принимавшие участие в войнах монголов на различных этапах в период создания державы и ее существования.
«А огромные богатства, добытые ценой крови простых воинов, быстро растрачивались паразитической феодальной верхушкой. В результате Монголия на несколько веков отстала в своем развитии даже от стран, ставших жертвами опустошительных монголо-татарских погромов» (там же).
Но ведь «огромные богатства», так же как и массы пленников-рабов, как мечтал воображаемый «монгольский сотник Буга» – вымышленный герой советского писателя-историка С. И. Хмельницкого (49, 78), так и не были, если судить по фактам, привезены в Монголию.
И никак не находят следов награбленных богатств и сведения о толпах «невольников, трудившихся на монголов в их родных степях», ни в МНР, ни во Внутренней Монголии (КНР), хотя древние города, построенные татарами и уйгурами, там находят, выше приводились примеры. И самое интересное то, что эти «награбленные ценности» некуда было бы «растрачивать». Торговать-то не с кем было бы монголам-грабителям – это если продолжить мысль официальных историков до логического завершения.
Во-первых, торговля между Западной Европой (где могли тратить деньги и ценности представители «феодальной верхушки» «монголов-грабителей») и Азией со времен Римской империи и вплоть до XVIII–XIX вв. характеризовалась пассивным торговым балансом именно для Европы. В средние века практически все товары шли из Азии в Европу – и предметы роскоши, и ремесленные изделия, и шелк и ткани и т. д. и т. п. (73, 63–69). Из Европы в Азию шли именно и только деньги – золото, серебро, драгоценности и использовалось это все в обороте уже внутриазиатском. Было это – отсутствие собственного производства надлежащего уровня – огромной проблемой для Западной Европы, вызвавшей крестовые походы, например.
А во-вторых – в Азии и в Восточной Европе и так уже все практически было подвластно монгольским феодалам – им, если верить официальным историкам, все задаром отдавали «порабощенные» – мол, так их боялись. Так что «награбленные ценности» грабителям не было бы нужды никуда тратить – так бы и остались в «родных степях», если бы их навезли туда вернувшиеся домой «монголо-татарские полчища» – на радость современным халха-монгольским археологам да местным кладоискателям.
Но – как было замечено выше – никак не находятся «несметные» награбленные сокровища монголо-татар в степях Халха до сих пор. Не обнаруживаются ни драгоценности, ни следы иных богатств в Монголии Внутренней и Внешней, ни в Китае – именно в количествах, соответствующих масштабам описываемого официальными историками «мирового грабежа».
Насчет причин «отставания Монголии» В. В. Каргалов также, полагаю, не прав, все-таки эти причины другие, насколько известно халха-монгольским историкам, которым, полагаю, легче разобраться в данной части их собственной истории.
После падения монголо-татарской династии Юань в Китае и в Монголии, разгрома государства Северная Юань, «монголы оказались в значительной степени оторванными от внешнего мира – это с конца XIV – начала XV в. Их связи со странами Востока и Запада прервались почти полностью. Вследствие усиления политического и экономического давления со стороны китайской империи Мин пути международной торговли, ведущие в Монголию, были закрыты, и число иностранцев, посещавших страну, резко сократилось. Города и поселения, где некогда процветали торговля, ремесло и земледелие, получившие какое-то развитие в период Монгольской империи, пришли в упадок. Скотоводство по-прежнему оказалось единственной отраслью хозяйства страны. Кочевой быт и кочевые обычаи снова стали единственными нормами жизни монголов (выделено мной. – Г.Е.) (111, 139).
Как видим, причины отставания народа халха-монголов, начавшегося с момента окончательного падения монголо-татарского государства в данном регионе на рубеже XIV–XV вв., известны и названы конкретно. Это экономическая и политическая блокада халха-монголов от внешнего мира китайцами.
Китайцы, новые хозяева Монголии, весьма и весьма отличались от средневековых татар. Монголо-татары, чему приводились выше примеры, оказывали всемерное содействие и земледелию, и скотоводству и ремеслам, и торговле – тому виду хозяйствования, которым занимались те или иные «завоеванные и порабощенные» ими народы.
В отличие от средневековых татар китайцы (предельно мягко выражаясь языком научной интеллигенции, в данном конкретном случае халха-монгольского ученого-историка Чулууны Далая), «оказывали политическое и экономическое давление» на подвластный им народ халха-монголов, что и было основной причиной их отставания от многих народов мира.
Вот и «пришли в упадок» торговля, ремесло и земледелие – то есть, совершенно перестали заниматься подобной деятельностью, некому стало, а почему некому – об этом будет рассказано в следующей главе.
Осталось в конце XIV – начале XV в. в Монголии только одно производство – то самое малопродуктивное кочевое скотоводство, то есть основной способ производства, издревле присущий предкам халха-монголов. Но и возможности кочевого скотоводства опять-таки были резко снижены – с начала XIV в. наступает вековая засуха в степях Монголии, исчезает растительность на огромных пространствах, увеличивается пустыня Гоби, поглощая богатые травой и водоемами пастбища (34, 305, 307).
Как видим, причины «отставания халха-монголов от культурных народов», указанные официальными историками вовсе не проводимые «непрерывные завоевательные походы на тысячи километров» по просторам всей Евразии.
И главное – вряд ли виновен этот народ в организации всемирных «завоеваний, грабежей и погромов», приписанных им китайско-персидской легендой, повторенной уже в собственной интерпретации немецкими историографами, «иностранными специалистами» в петровской России, повторенной неоднократно, и повторяемой нашими доморощенными западниками до сих пор. Да и внутренних возможностей для развития не было у халха – они же были вовсе не средневековые татары, которые уже многое, как мы видели, умели, кроме кочевого скотоводства – и не «малопродуктивного», а товарного уже с X–XI вв.