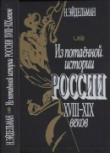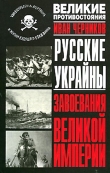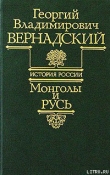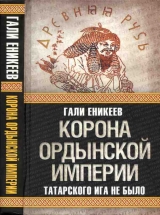
Текст книги "Корона Ордынской империи, или Татарского ига не было"
Автор книги: Гали Еникеев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Ну и, во-вторых, без своей подлинной истории, без достоверных знаний о достойных предках невозможно будет иметь взаимоприемлемую и работающую на будущее и на благо всех (всего евразийского суперэтноса) общенациональную идею России – общую для русских, татар, и прочих народов Отечества.
Позволю себе перед началом изложения основной темы своей работы несколько уточнений: под современными татарами в данной работе будут иметься в виду все татары без их искусственного разделения на «казанских», «астраханских», «сибирских» и многих других, проживающие в России и за ее ближними и дальними рубежами. Естественно кто осознает еще свою принадлежность к татарам и говорит на любом диалекте или говоре родного татарского языка.
В данной работе использованы также понятия «древние» и «средневековые татары». Первые – это прямые предки вторых. Также некоторые из древних татарских племен входили в сообщество «половцы» или, по-другому, «кыпчаки» – последние два названия – собирательные наименования различных тюркских племен, обитавших на территории под географическим названием Кыпчак (полностью Дешт-и Кыпчак, что в быту употреблялось весьма редко) – об этом ниже.
Средневековые татары – это народ (этнос), который является прямым и основным предком современной татарской нации (народа). Но также средневековые татары в довольно-таки значительной степени являются предками и современных башкир (13, 25–27, 34–35). В определенной степени – и некоторых других тюркских народов.
Наличие общих предков объясняет тот факт, что татары и башкиры, наряду с некоторыми другими тюркскими нациями – наиболее близкие родственники в тюркской семье.
Также средневековые татары сыграли значительную роль в формировании великорусского этноса (34, 10–11, 163), а также многих тюркских наций. В данной работе будут приводиться сведения в обоснование изложенного здесь, с обязательным указанием источников, заслуживающих доверия.
Глава 1
«Этнос древних монголов», первооснователей монгольской державы, кто они были? Название и самоназвание этноса «древних монголов»
«То, что патриотично настроенного автора интересует история Отечества – закономерно, равно как и то, что его отношение к традиционной историографии может быть не только критичным, но и скептичным. Каждый исследователь имеет право на оригинальные суждения, а читателя интересует лишь, насколько новая концепция убедительнее прежней».
Л. Н. Гумилев.
Первым из историков советской эпохи, кто решился подвергнуть достаточно решительной критике легенду о «монголо-татарском нашествии и иге», содержащуюся в официальной историографии, был Лев Николаевич Гумилев. Общеизвестно, какую цену пришлось заплатить великому ученому за то, что он решился отстаивать свое мнение в эпоху тоталитаризма. И при том не все свои мысли и выводы он мог излагать открытым текстом, что естественно и понятно, надеюсь, многим[4]4
Явно выраженное нежелание быть приспособленцем и подхалимом в науке и в жизни, способность иметь и высказывать свое мнение в окружении «красных профессоров» и их прихлебателей обошлись Л. Н. Гумилеву очень дорого. Со студенческой скамьи замеченный как «инакомыслящий» (34, 23), он был четырежды арестован и отбывал в лагерях два срока лишения свободы, по 5 и 10 лет, именно вследствие травли за его «инакомыслие». После первого «срока» будущий ученый участвует в Великой Отечественной Войне (полевая артиллерия), доходит до Берлина в составе действующих на переднем крае войск, но это, как видим, никак не учитывалось «правоохранительными органами» и не повлияло на суровость второго необоснованного наказания. Но учитывалось всегда диктатурой «вождей пролетариата» происхождение неугодного им человека, в данном случае то, что Л. Н. Гумилев был сыном «офицера-белогвардейца», расстрелянного «народной властью» (его отец – поэт Николай Гумилев).
Да и в период «хрущевской оттепели» и позже открытое несогласие с «общепризнанным мнением» в исторической науке грозила также и Л. Н. Гумилеву высшей мерой наказания в соответствии с УК РСФСР от 01.01.1961 г. (Новый УК РФ действует с 01.01.1997 г.). Даже не «открытое» несогласие с утвердившимися в официальной науке постулатами могло в те времена оказаться достаточным для ученого, чтобы не только быть отреченным от науки, но и вообще лишиться возможности изучать историю и хоть как-то излагать свои мысли на бумаге. Это не говоря уже о том, что его могли лишить вообще возможности создавать фундаментальные труды, которые сегодня для нас являются источниками бесценных сведений по истории Отечества.
В одном из последних интервью, незадолго до своей кончины Лев Николаевич сказал: «Простите – вот я мог бы гораздо больше сделать, если бы меня не держали 14 лет в лагерях и 14 лет под запретом в печати. То есть 28 лет у меня вылетели на ветер! Кто это сделал? Это сделали не власти. Нет, власти к этому отношения не имели. Это сделали, что называется, научные коллеги. Так вот, этих, которые сидят в университетах, в институтах научных, в издательствах – вот их как-то надо подвести к тому, чтобы делали дело» (34, 166–167).
[Закрыть]. В одном из последних изданий работ Л. Н. Гумилева, вышедших из печати уже в постсоветское время, научный редактор замечает: «автор был вынужден делать подобные вставки, чтобы статьи были допущены к печати» (34, 245). В данном конкретном случае научный редактор имел в виду «термины марксистской теории, которые Л. Н. Гумилев отрицал» (там же). Но будем помнить, что великий Евразиец отрицал также многие «клише» советской исторической науки, повторяющей догмы европоцентристской историографии, которые он тоже был вынужден излагать в своих работах во многих случаях, – для того, чтобы иметь возможность довести до нас главное, что содержится в его исследованиях. То есть бесценные материалы по разоблачению «черной легенды» о предках россиян – как предельно мягко выразился Лев Николаевич – «вымысла, далеко не безобидного как в отношении русских, так и татар» (36, 261).
Полагаю, что в своих трудах по истории Евразии относительно «нерешенных» вопросов истории Л. Н. Гумилев сделал наиболее важное для своих последователей. Как он написал в одной из своих последних работ «Из истории Евразии», которая была опубликована по рукописи, после его кончины, Л. Н. Гумилев предоставил нам обширнейший систематизированный материал и по «неясным» вопросам истории – «постановку проблемы, в котором содержится решение, пусть и в неявном виде» (34, 127).
После выхода из печати книги «В поисках вымышленного царства» в 1970 г. началась 15-летняя опала Л. Н. Гумилева. Видимо, поняли апологеты европоцентризма в исторической науке, хоть и с запозданием, что очень много противоречащего «общепризнанному мнению» сумел провести в печать великий ученый.
И увидим в данной работе, что действительно очень и очень много, но главное: он сделал в указанной своей работе «очень важный» – по его собственному выражению, негативный вывод: «Очевидно, источники не собирались сообщать правду, и историки, доверяя им, сконструировали «ложную историю монголов»[5]5
Речь идет о двух источниках, легших в основу и восточной («мусульманской» и китайской) и европоцентристской официальной ложной истории о монголах. Один источник – это персидский «Сборник летописей Рашид ад-Дина» (начало XIV в.). Другой источник – китайская «Юаньская история» и ее «приложение» в виде «халха-монгольского народного эпоса» под названием «Тайная история монголов» (или «Сокровенное сказание») – эти были написаны на китайском языке (иероглифами) и обнародованы после свержения династии монголо-татар в Китае в конце XIV в.(8, 255).
Ниже будет детально рассмотрена степень достоверности указанных двух источников относительно темы данной работы (кроме указанных и производных от них, больше нет подобных источников, содержащих присущую им определенную легенду-схему о войне «татар до Чынгыз хана» и «этнических первомонголов»). И станет более или менее ясно, кем и с какой целью была сочинена немаловажная в деле искажения истории державы монголов и татарского народа, а значит, и истории России в целом, легенда, содержащаяся в данных двух источниках.
[Закрыть] (30, 221).
Мы еще будем обращаться к оценке официальной истории о Монголах, данной Великим Евразийцем и его предшественниками, неоднократно, при рассмотрении сведений по средневековой истории татар и Монгольской Державы, как предоставленных нам Л. Н. Гумилевым, так и сопоставляя его сведения со сведениями из работ других авторов. В том числе и тех авторов, к которым Л. Н. Гумилев, не излагая в своей работе содержание их трудов, направляет нас непосредственно в каждом конкретном случае, «ставя проблему, в котором содержится решение» по тем или иным неясным вопросам истории Евразии.
Вынесенный в заголовок данной части вопрос считается одним из подобных, наиболее запутанных и до сих пор считающихся нерешенными в официальной истории (34, 128; 87, 28–29).
Сочиненная китайскими и персидскими историографами и поддерживаемая различными историками «по монголам» до настоящего времени практически в неизменном виде, официальная концепция истории «древних монголов» подвергалась ранее и подвергается, особенно в последнее время, достаточно обоснованному сомнению и критике в различных аспектах и различными авторами.
Но вразумительные и обоснованные ответы на главные вопросы: об этнической принадлежности «древних монголов», соплеменников Чынгыз хана, о том, чем объясняются их успехи в создании державы, и каковы причины последующего распада ее и необъяснимого «бесследного растворения» самого «этноса древних монголов» среди других народов, обитающих и доныне на обширнейшей территории Евразии – до сих пор не получены.
Но более всего нерешенным остается вопрос об этнической принадлежности государствообразующего народа средневековой Монгольской империи – соплеменников Чынгыз хана.
На первый взгляд, все это кажется странным, особенно если учитывать, что сведений об этносе «древних монголов», в принципе, имелось и имеется достаточно, чтобы можно было сделать довольно обоснованные выводы и дать ответы на рассматриваемые вопросы. Сохранились сведения самого разного характера, включая историографические, лингвистические, антропологические, географические и многие другие, несмотря на исчезновение массы основных документов государства «древних монголов». Несмотря на уничтожение китайскими властями множества, как дословно излагается в китайских же летописях, «книг на татарском языке и бумаг с татарскими письменами» с момента свержения монголо-татарской династии Юань в Китае, в Монголии и Восточном Туркестане, с конца XIV в. и вплоть до XIX в. включительно (111, 15–16).
Обратимся вначале к вопросу об этнической принадлежности первооснователей державы монголов и их лидера Чынгыз хана в работах Л. Н. Гумилева, затем будем дополнять и уточнять его сведения по спорным вопросам сведениями из работ других историков – как из тех, к которым отсылает нас Л. Н. Гумилев, так и из других, ссылку на работы которых он по понятным причинам не мог давать – например, таких, как Ахметзаки Вал иди Туган[6]6
Ахметзаки Валиди Туган – историк, философ, тюрколог. Профессор Венского (Австрия), Стамбульского (Турция), Боннского и Геттингенского (Германия) университетов. Почетный профессор Манчестерского университета (Великобритания) и ряда других европейских и американских университетов. Родился 10 декабря 1890 г. на территории современной Республики Башкортостан Российской Федерации (деревня Кузян Стерлитамакского района). В 1909–1917 гг. – преподавательская и научная работа в России. С самого начала 1910-х гг. Ахметзаки Валиди Туган поддерживал дружеские отношения и научное сотрудничество с русским академиком В. В. Бартольдом. Это знакомство продолжалось до самой кончины академика в 1930 г. В 1919–1923 гг. Ахметзаки Валиди Туган участвовал в Гражданской войне против большевиков – после окончательного разрыва с правительством Ульянова-Ленина, вызванного односторонним отказом последнего от достигнутых за год до того соглашений по автономии башкирского правительства, созданного после Февральской революции А. Валиди, главой которого он являлся. В 1923 г., несмотря на предложение Сталина И. В. о «прощении» и сотрудничестве, Ахметзаки Валиди Туган эмигрировал за границу. Занимался научной и преподавательской деятельностью в Турции и Германии. Автор более четырехсот работ, большая часть – по истории тюрок и Монголов. Умер 26 июля 1970 г. в Турции, похоронен на кладбище «Караджаахмет», г. Стамбул. Ахметзаки Валиди Туган до гражданской войны придерживался взглядов о единстве Российской Империи и общей исторической судьбы на общей Родине русского народа и татар-мусульман (14, 59). К татарам-мусульманам он относил, естественно, и себя (там же, 62). Работа Ахметзаки Валиди Тугана «История тюрок и татар» (13), сведения из которой приводятся ниже, впервые была написана автором на татарском языке и издана на татарском же языке в Казани в 1912 г. (переиздана в 1915 г.). Также эта работа была переведена на башкирский язык и издана г. Уфе в 1994 г., вместе с его трудом «История башкир», написанным в эмиграции. Мной в данной работе используются сведения и из других работ Ахметхзаки Валиди Тугана, написанных им как до Гражданской войны в России, так и в период его жизни в эмиграции.
[Закрыть].
Основной причиной наличия до сего времени в европоцентристской (а также в китайской) исторической науке легенды о «древнемонгольском чуде» и поддержки общепризнанной концепции истории о происхождении Чынгыз хана из рода «этнических первомонголов» – предков халха-монголов и создания ими Монгольской империи является политизация историографии, несомненно, имевшаяся и в момент создания данного мифа.
Основной целью с которой в европейской историографии был поддержан миф о древних монголах – полудиких кочевниках, каким-то чудом (то есть совершенно случайно) сумевших создать огромную и устойчивую евразийскую Державу с передовым для своего времени и «отвечающим потребностям всего сообщества народов государства монголов» законодательством и системой государственного управления[7]7
Ахмет Заки Валиди Туган на основании данных В. В. Бартольда и Говарда (13, 251–252).
[Закрыть], с передовыми для своего времени экономикой и культурой[8]8
Г. В. Вернадский (18; 19), Марко Поло (81).
[Закрыть] было заача внедрение в общественное сознание мнения о несомненно передовом характере Западной цивилизации по сравнению с остальными, то есть Восточноевропейскими и Восточными. Таким образом, отрицалась сама возможность наличия Евразийской цивилизации, сопоставимой с Западноевропейской цивилизацией по культурному и экономическому уровням развития. Этот миф был сохранен, с незначительными изменениями, и в советской историографии – сообразно с национальной политикой и с государственно-строительными потребностями большевиков.
Наиболее объективный и беспристрастный анализ истории Монголов дал, несомненно, Л. Н. Гумилев, хотя и был вынужден в определенной мере прибегнуть к иносказаниям в своих работах по причинам вполне объяснимым (см. выше).
При рассмотрении «загадки древних монголов», в данном случае вопроса об их этнической принадлежности, полагаю, необходимо руководствоваться определением этноса, данным Л. Н. Гумилевым: «этносы – естественно сложившиеся несоциальные коллективы людей – различные народы». Этносы состоят из людей, которых отличает, наряду с другими признаками (антропологическими, лингвистическими и т. д.) определенный, присущий только членам данного этноса, стереотип поведения, усваиваемый ими в раннем детстве от родителей и соплеменников и по которому они определяют (узнают) друг друга. Неотъемлемым, также приобретаемым с раннего детства объективным признаком (выражением) этого стереотипа является самоидентификация представителя этноса, выражающаяся в этническом самоназвании.
То есть этносы – это объекты (системы), созданные самой природой и развивающиеся по естественным законам. Соответственно этнос имеет «самобытную культуру», свое название, которым обозначают его члены других этносов – этноним, который в большинстве случаев совпадает с самоназванием этноса.
Нельзя искусственно, «по команде», создать тот или иной этнос – например, «советский», либо другой «народ» – это будет уже система политическая, социальная общность людей, а не этнос как таковой[9]9
Определение этноса советским обществоведением: этническая общность (этнос), исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей, представленный племенем, народностью, нацией. Термин «Э. о.» близок к понятию «народ» в этногр. смысле. Иногда им обозначают несколько народов (этнолингв. группы, например, русские, украинцы, поляки и др. – славянская Э. о.), а также обособленные части внутри народа (этногр., или субэтнические группы) (94, 1582). Также приведу определения различного уровня развития этноса, принятые в официальной исторической науке (за исключением постулата о «новой исторической общности – советском народе», от которого официальным историкам советского периода по понятным причинам пришлось отказаться).
Племя, тип этнической общности и социальной организации людей эпохи первобытнообщинного строя. Характерны: кровнородственная связь между его членами, деление на роды и фратрии, общность территории, некоторых элементов хозяйства. Самосознания и самоназвания, обычаев и культов, для позднего этапа – самоуправление, состоящее из племенного совета, военных и гражданских вождей. Образование союзов племен, завоевания и переселения вели к смешению племен и возникновению более крупных общностей – народностей. Пережитки племенной организации сохраняются у некоторых народов и в классовом обществе (там же, 1025).
Народность, исторически сложившаяся языковая, территориальная, экономическая и культурная общность людей, следующая за племенем и предшествующая нации. Народности возникают в различные исторические эпохи, начиная с рабовладельческой вплоть до современной. Многие народности, (особенно мелкие), могут постепенно сливаться с более крупными и более развитыми народностями и нациями (там же, 874).
Народ, различные формы исторических общностей – племя, народность, нация. В СССР в результате исторических преобразований сложилась новая историческая общность – советский народ (там же, 872).
Нация «(от лат. Natio – племя, народ), историческая общность людей, складывающаяся в процессе формирования общности их территории, экономических связей, литературного языка, некоторых особенностей культуры и характера» (там же, 881).
[Закрыть]. И данная общность не будет обладать теми качествами, которыми обладает этнос, даже будучи наделенным «своим языком, письменностью» и т. п. И главное – не будет обладать единством и устойчивостью как система, объединяющими качествами того или иного уровня.
Естественная продолжительность существования этноса, согласно выводам Л. Н. Гумилева – в среднем 1200–1500 лет. Необходимым условием возникновения нового этноса является взаимодействие (полное либо частичное смешение) этносов между собой – то есть у этноса могут быть два или более непосредственных «предков» (34).
Обоснования приведенного положения об этносе изложены Л. Н. Гумилевым в его работах и повторно излагать их здесь, полагаю, нет необходимости, приведем лишь то, что имеет отношение к теме данной работы в целом: этносы сосуществуют и развиваются во взаимодействии со своими соседями по его «месторазвитию»[10]10
Месторазвитие (определение ученых-евразийцев), или родина этноса – неповторимое сочетание элементов ландшафта, где этнос впервые сложился как система (31, 829). «Речь идет именно об этноландшафтных зонах, т. к. они образуются в результате взаимодействия, симбиоза человека и ландшафта, когда они начинают дополнять друг друга» (34, 175).
[Закрыть], в виде устойчивой системы – суперэтноса: «Почти все известные нам этносы сгруппированы в своеобразные конструкции – «культуры» или «суперэтнические целостности». Названия «культур» условны: Византия, Западная (романо-германская) Европа, Россия, Великая Степь, Китай, мусульманский мир, и т. п. Но каждая из них является своеобразной целостностью исторического бытия, а не случайным обобщением, принимаемым для удобства классификации» (34, 173).
«Единственно надежным критерием для отличия суперэтносов, так же как и этносов, служит не язык, не религия, а стереотип поведения (там же). Суперэтносы – долго, но не вечно живущие этнические системы. Их границы подвижны не только в пространстве, что связано с крупными вековыми вариациями климата, но и во времени. Причиной тому служат как внутренние закономерности этногенеза, так и взаимодействие соседей. Принципиальное значение для контакта имеет знак комплиментарности взаимодействующих суперэтносов. Положительная комплиментарность двух основных суперэтносов нашей страны – Российского и Степного – явилась залогом как создания Московского государства, а вслед за тем и территориального расширения Российской империи, так и нерушимости СССР в годы второй мировой войны. Комплиментарность есть неосознанная и неопределенная какими-либо видимыми причинами взаимная симпатия различных суперэтносов и даже отдельных персон.
Именно комплиментарность послужила поводом для дружбы Александра Невского и сына Батыя Сартака. Но видимо, она же имела место и на уровне этносов: русских и татар, так как политическая зависимость Руси от Сарая не помешала открыть в столице Золотой Орды еше в 1260 г. епископскую кафедру с русским епископом, а затем после «Великой замятии» принять на Русь чингисидов и рядовых монголов… Иван IV положил конец политической самостоятельнсти Орды, но это не помешало говорить в Кремле по-татарски и даже посадить на престол Касимовского хана» (там же, 177–178).
Применительно к теме данной главы в соответствии с приведенным выше, напрашивается предположение, что этнос «древних монголов» мог или должен был, несмотря на развал их Державы, «просуществовать» до настоящего времени, при этом обладая в достаточной мере признаками и свойствами, которые данный этнос имел в период становления и могущества их государства.
Представляется, что господствовавший долгое время в государстве и обществе обширной и могущественной державы этнос должен был сохранить свой язык (с учетом его изменения со временем), антропологические признаки большинства своих представителей (основные, с учетом смешанных браков в достаточном количестве с представителями других типов) и многие другие признаки. И главное, должны были представители данного этноса сохранить способность идентифицировать себя как единый народ, общность, и сохранить свой стереотип поведения и свое этническое самоназвание.
Официальная история предлагает свой вариант решения данной проблемы: этнос «древних монголов» сохранился частью в Монгольской Народной Республике и в основном – примерно 70 % от общего их количества – во Внутренней Монголии – автономном районе Китайской Народной Республики в виде народа халха-монголов. Халха-монголы (самоназвание «халха»), как утверждают официальные историки, и сохранили язык своих предков «древних монголов», антропологические признаки (монголоидная раса континентального типа), и навыки основного способа хозяйствования (кочевое скотоводство). И сохранился также склонность к соответствующему образу жизни у основной части данного народа в виде привычки жить в передвижных жилищах – юртах. В остальных же частях Евразии, где была распространена власть Державы Монголов, как утверждают официальные историки, этнос «древних монголов» не сохранился, так как «растворился» (был ассимилирован) завоеванными им же народами за очень короткое по историческим меркам время – разные авторы называют разные периоды времени – примерно от 10–20 до 100 лет. Соответственно, надо полагать, именно поэтому «древние монголы» не успели оставить нигде письменных документов, свидетельствующих об их государственной деятельности, на своем (старом халха-монгольском) языке, датируемых не позднее XVIII вв.[11]11
Данная официальная версия основана на некоторых сведениях из двух источников, уже упомянутых выше – китайской «Истории династии Юань» (конец XIV в.) и, в определенной мере, персидского «Сборника летописей Рашид ад-Дина» (начало XIV в.). Степень достоверности некоторых немаловажных, изложенных в указанных источниках сведений, о том, например, что Чынгыз хан происходил из рода «этнических первомонголов», будет рассмотрена ниже. Соавторами персидского источника были Рашид ад-Дин, придворный вельможа ханов Хулагуидов в Персии, и китаец Пулад Чинсанг, чиновник Державы Монголов из г. Ханбалык (Китай).
[Закрыть] (111).
Чтобы оценить достоверность приведенного выше варианта официальной истории о создании Монгольской Державы предками халха-монголов, постараемся установить на доступном материале, какими этническими признаками и свойствами обладал данный этнос – то есть предполагаемый официальной исторической наукой этнос «древних монголов» – «монголов до Чынгыз хана».
Так же, то есть «древними монголами», называет и Л. Н. Гумилев в своих работах этнос первооснователей Державы Монголов и соплеменников ее первого Верховного правителя Чынгыз хана. И посмотрим, соответствуют ли этнические признаки и свойства «древних монголов» признакам и свойствам этноса современных халха-монголов – в достаточной мере, чтобы первых можно было считать предками вторых, и если все же выяснится, что по всей видимости, не совсем это будет верно, то попробуем также определить, какому из современных этносов все эти признаки соответствуют более всего.
Во-первых, как было отмечено выше, имеется множество исторических сведений, вполне заслуживающих доверия, что и название, и самоназвание данного этноса обозначались одним и тем же словом – «Татар»: касаясь вопроса о происхождении Чынгыз хана, Л. Н. Гумилев указывает на точку зрения русского академика, историка-востоковеда В. П. Васильева[12]12
Васильев Василий Павлович родился 20 февраля 1818 г., в г. Нижний Новгород. Окончил Казанский университет в 1837 г. Член-корреспондент Академии наук по разряду восточной словесности Историко-филологического отделения с 9 декабря 1866 г. Академик Историко-филологического отделения Российской Императорской Академии наук (история и древности восточных народов) с 11 января 1886 г. С 1840 по 1850 гг. – научная работа в Китае. С 1851 г. профессор Казанского университета по кафедре китайской и маньчжурской словесности. Владел китайским, маньчжурским и халха-монгольским языками. Умер 27 апреля 1900 г., в г. Санкт-Петербург. Похоронен в с. Каинках Свияжского уезда Казанской губернии.
[Закрыть] (31, 412), сведения из трудов которого редко приводятся в официальной истории о Монголах, а если эти сведения и упоминаются, то не раскрывается суть их содержания – просто указывается в основном, что точка зрения академика В. П. Васильева «не обоснована», без приведения каких-либо аргументов. Л. Н. Гумилев определяет отношение официальных историков-западников к точке зрения В. П. Васильева конкретно и справедливо – она «не является общепризнанной» (там же).
Рассмотрим, какие сведения из древнекитайских исторических источников содержатся в трудах В. П. Васильева, и какие выводы, «не признанные» западниками, сделал русский академик на основе этих сведений. И главное, рассмотрим также, как согласуются данные В. П. Васильева по рассматриваемому вопросу с данными из других источников, в том числе с данными, полученными историками-ориенталистами много позже после кончины академика, в XX в.
В. П. Васильев пишет: «Мнение наше о происхождении названия Монгол разнится от толкований, принятых другими (то есть историками-западниками. – Г.Е.). Мы полагаем, что имя это не носили действительные подданные Чингиз хана до принятия им императорского титула (в 1206 г.), и что не только тот улус, в котором он родился, но и единоплеменные с ним поколения, если и имели только общее название, то оно было не иное, как Татар»[13]13
В. П. Васильевым были обнаружены и переведены многие исторические источники, до которых после свержения в Китае власти монголо-татар в конце XIV в. не добрались китайские историки Минской династии, сочинившие новую «историю монголов» на китайском языке в течение одного года. При этом предварительно уничтожив все обнаруженные ими «книги на татарском языке и бумаги с татарскими письменами» (111, 15–16). И удивляло русского академика то, что многие документы, содержащие совершенно отличающиеся от общепринятой версии сведения о татарах Чынгыз хана, не были занесены в официальные каталоги китайских исторических источников (17, 170). Объяснение здесь простое – эти документы не были обнаружены китайцами при «чистке» историографии в XIV в. и позже (о чем еще будет рассказано). Ниже мной будут изложены сведения о событиях в Китае, о действительном уничтожении (геноциде) татар, совершенном китайцами в конце XIV в., а не Чынгыз ханом и его монголами в начале XIII в., как гласит персо-китайская «легенда об этнических монголах».
[Закрыть] (17, 159).
При этом В. П. Васильев подчеркивает, что два наименования – «Татар» и «Татань», встречающиеся в китайских источниках, означали исключительно одно и то же племя (этническую общность) – татары. Второе наименование – «татань», появляется в связи с искажением названия «татар» специфичным китайским языком[14]14
В китайском языке в слове «татар» звук «р» меняется, как видим, в данном случае на «нь» («татань»). Но бывает так, что «р» просто опускается или меняется на другой звук (букву): вот еще примеры о данном своеобразии китайского языка – название «персы» на китайском языке будет звучать так: «по-сы» (73, 110). Другой пример: «название Каракорума в китайских источниках передается как «Хэ-ла хэ-линь» (111, 40).
[Закрыть], а так оба слова означали одну и ту же этническую общность (народность либо народ) (17, 135).
В. П. Васильев избавляет нас от путаницы, внесенной историками-западниками благодаря «помощи», оказанной европейцам со стороны китайцев и персов в виде предоставления им легенды «об этнических первомонголах, соплеменниках Чынгыз хана» (о которой ниже будут более обстоятельные пояснения): «Нет необходимости думать, что имя Татар или Татань было прежде Чингиз хана общим для всех племен, которые после прозвали монголами» (выделено мной. – Г.Е.). «Европейским ориенталистам, давно знакомым с этим именем, не знаю почему-то захотелось отделить слово Татар от Татань. Первое, говорят они, было название одного только поколения (племени, народа. – Г.Е.), которое было покорено Чингиз ханом, второе общее всем народам Монголии. Но Мэн-хунъ пишет[15]15
Учтем, пишет Мэнъ-хун свои «Записки о монголо-татарах» в 1219 г., и это сведения очень хорошо знавшего Чынгыз хана и его соратников человека, представителя императорской ставки – военного командования Южного Китая у средневековых татар. Мэн-хун участвовал в разработке межгосударственных соглашений и принимал участие в боевых действиях войск Сунской династии (Южный Китай) против империи Цзинь (Маньчжурия и восточная часть Китая), совместно с войсками молодой державы Чынгыз хана. То есть, сведения Мэн-хуна – это сведения военного дипломата и разведчика. И главное – сведения Мэн-хуна дошли до нас в первозданном виде, уцелев при чистке китайской историографии (см. выше).
[Закрыть] Татар также и Татань, потому что китайский язык всегда искажает иностранные названия. Китайское слово Татань никогда не было исключительно общим названием всех племен, живших в Монголии. Это было название только одного племени, которое было занесено к горам Инынань из внутренностей Маньчжурии», вероятно, в VI–VII вв. н. э. Это племя (народность) было «потом, может быть, оттеснено далее на север…», и «…во время владычества киданей (X–XI вв.) история застает их на северо-западе от Дансянов» (направление на Алтай и Джунгарию. – Г.Е.). Татары позже упоминаются в летописях также как группа племен (народ), «окружавшие Шато»[16]16
Другое историческое название этих местностей (Северо-запад современного Китая) – «Татарская степь» Махмуда Кашгари (53, 133). Шато – район Татарской степи. В. П. Васильев пишет Шато (иногда Шамо) относительно одной и той же местности – это степь между Монгольским Алтаем и Тянь-Шанью (17, 136).
[Закрыть] и оттуда, с запада, по данным китайца Мэн-хуна, они приходят снова на восток Евразии. И именно тогда «поколение Татар при Чингиз хане стало царственным» (выделено мной. – Г.Е.) (17, 136–137), а вовсе не было им «уничтожено», как видим, вопреки утверждениям официальных историков.
Напротив, этническим названием родного племени (народа) Чынгыз хана было наименование «Татар», и оно не было до эпохи монголов, до конца XII – начала XIII в., вопреки «общепризнанному мнению» историков-европоцентристов, исключительно «собирательным наименованием разных племен», а было прежде всего названием и самоназванием конкретного этноса (народа).
Указанием одной только общепризнанной точки зрения о «собирательном значении названия татар» был вынужден ограничиться в своих работах и Л. Н. Гумилев (например, 31, 413). Но при том он замечает, что этническое наименование может быть (смотря по ситуации) и названием конкретного этноса, и собирательным наименованием «различных племен» (народов) (там же) – например, как с названием «русские» – так собирательно, например, называют всех россиян западноевропейцы, как ранее называли они всех граждан СССР. Но применение этнонима в некоторых случаях в собирательном смысле «никоим образом» не означает, что это исключает то, что данное наименование является также и названием и самоназванием конкретного этноса (народа).
В. В. Бартольд[17]17
Бартольд Василий Владимирович (1869–1930), академик Петербургской Академии наук с 1913 г., позже был также академиком АН СССР. Труды по истории Средней Азии, Ирана, Арабского халифата, ислама и истории востоковедения (94, 11).
[Закрыть] также о названии и самоназвании «древних монголов», первооснователей державы Чынгыз хана и его соплеменников высказывался вполне конкретно: «В рассказах о монгольских завоеваниях VII–XIII вв. завоеватели всюду, (как в Китае, так и в мусульманском мире, на Руси и в Западной Европе) именуются татарами» (8, 559). По мнению этого русского академика, так же как и по мнению В. П. Васильева, соплеменники Чынгыз хана «называли себя татары, татарский народ» (там же, 255).
Рассмотрим вопросы о соотношении в истории названий «татары» и «монголы», о происхождении «имени монголов», которые также считаются «доныне не решенными исследователями» (87, 28) и более того – «далекими от удовлетворительного разрешения» (3, 185). Как мы увидим, эти вопросы также были достаточно четко и обоснованно прояснены в трудах академика В. П. Васильева:
«Мэн-хун ясно говорит, что татары даже не знали, откуда взялось название Монголов. Мухури, (ближайший соратник и соплеменник Чынгыз хана. – Г.Е.) при свидании с китайскими чиновниками, постоянно называл себя татарским человеком. Следовательно, название Монгол было, на первых порах, чисто ученое и официальное, и таким образом, эти два названия (из которых последнее пересилило в силу той же официальности) ввели в недоумение не только европейских ученых, но и Рашид-Эддина и, может быть, его современников, которым показалось, что название Монгол должно или нужно было существовать с давнего времени» (17, 137).
Как видим, «название «монгол» было чисто официальное», означало династию и подданных Державы Чынгыз хана (там же, 137), поэтому к татарам как к этносу привилось слабо (т. к. было уже имя сложившейся народности – Татар). Также примерно, в бывшем СССР в составе советского народа, кроме русских – преобладающей нации, по имени которой называли иностранцы всех советских людей русскими, было много других национальностей, так и среди подданных Монгольской империи – «монголов», кроме татар впоследствии было множество других этнических групп (племен, народов). Были, естественно, в том числе и предки современной нации халха-монголов.
Остановимся чуть подробнее на сведениях В. П. Васильева о происхождении названия «Монгол».
Как пишет Мэн-хун, «…прежде был народ Мэнгу, который был страшен Чжурчженям[18]18
Чжурчжени, предки маньчжуров, основатели империи Цзинь (другая транскрипция Кинь) на северо-востоке Китая. Чынгыз хан «был избран татарами своим царем» (81) в тяжелое для них время, когда «глава Цзиньской империи, Юнь… отдал приказание немедленно выступить в поход против их (татар. – Г.Е.) отдаленной и пустынной страны. И через каждые три года отправлялись войска на север для истребления и грабежа: это называлось набором (рабов) и истреблением людей. Поныне еще в Китае все помнят, что за двадцать лет перед этим (около 1200 г. – Г.Е.), не было дома, где не было куплено в рабство татарских девочек и мальчиков: это были все захваченные в плен войсками». «Татары убежали в Шамо, и «мщение проникло в их кости и кровь»» (17, 227).
[Закрыть], и старшина которых провозгласил себя императором. После они были истреблены; однакож, когда Чингиз хан основывал империю, перебежавшие к нему Цзиньские подданные научили его принять название этого народа, чтобы навести страх на Цзиньцев» (17, 80), тогда и появилось слово «монголо-татары» – по-китайски звучит «мэн-да» (там же, 216).
«Название, принятое Чингисханом, имело двоякий смысл: иероглифы имели значение, а звук напоминал народ, некогда враждебный Цзиньцам» (там же, 161).
С момента провозглашения Империи в 1206 г. «Тэмучэнь принимает титул Чингисхана… и дает своей державе имя Монголов» (там же, 134). Имя державы дословно звучало, как передает китайский автор, «Мэнъ-гу», в значении «получивший древнее» в соответствии с иероглифами, которыми писалось на китайском языке, в письмах к ним и к цзиньцам, название державы монголов (там же, 161). Другой вариант перевода данного иероглифа В. П. Васильевым – «сохранить древнее» (1890 г.).
Заметим, что слово «Мэнгу»[19]19
Отмечу, что слово «Мэнгу» («мэнге») не «общетюркское», во многих тюркских языках данного слова нет. На современном татарском языке слово «мэнге» означает «вечно» («Manga» – можно воспроизвести по английским правилам чтения).
Хотя в современном татарском официальном литературном языке данное прилагательное почему-то заменено существительным – «Мэнгелек» («Вечность»), соответствующее природе языка прилагательное «вечный» («вечная») по-татарски будет – «Мэнгел» («Mangol»). Но еще в конце XIX – начале XX вв. подобной замены в татарском языке – прилагательной существительным – не наблюдается (98, 157).
Но, как видим, получилось почему-то в современном официальном татарском языке именно так, что и прилагательное, и существительное – в случае с этим словом только – обозначается одним и тем же словом «Мэнгелек». Хотя с другими словами-наречиями и образованными от них прилагательными татарского языка подобного не произошло. Например прилагательное «тогэл» («точный», «точное»), а существительное – «тогэллек» – «точность» и т. п. Ударение на последнем слоге.
Приведем для примера еще одно из образованных аналогично со словом «мэнге» прилагательных: «Jingu» («джингу») – «победа, побеждать, преодоление», от данного слова прилагательное – Jingel («джингел») – «легкий», или «легко преодолеваемый». Существительное будет – «джингеллек» (Jingellek) – «легкость». И никто из татар никогда не скажет «Jingellek» вместо «Jingel».
И если сказать по-татарски – «вечные», будет: «Мэнгеллэр», или, даже если совсем уж по современному литературному, то слово «вечные» будет: «Мэнгелэр». На официальном, литературном татарском сказать «монголы» – будет «монголлар».
[Закрыть] на «древнетюркском» означало «вечно» (63, 17), (87, 113).
Подчеркивая, что «прежние Мэнгу», истребленные чжурчженями задолго до основания Державы Монголов, были совершенно другим, отличным от этноса Чынгыз хана и его «монголов» народом, В. П. Васильев объясняет, что Чынгыз хан и его соратники подбирали вначале название державы, и затем иероглифы, именно подходящие по смыслу этого названия (для переписки с Цзиньцами).
И прежде, скорее всего, было подобрано название державы и династии – «мэнгу» (смысл – «вечно», а прилагательное от него «мэнгел» – «вечный», «вечная»). И это слово, многократно транскрибированное разными авторами, и превратившись в слова «монгал» (68), «магул» (13, 234–235), «моал» (88), «монгол» дошло до нас[20]20
Пожалуй, в истории самое распространенное название-определение любой державы, которое давали своему государству его основатели – «вечное». Например – «Москва, третий Рим, будет стоять вечно», или – «Вечный город» (the Eternal City) – Рим.
[Закрыть].
Наиболее подходящие по смыслу китайские иероглифы (для озвучивания Цзиныдам) означали (либо означали во время перевода В. П. Васильевым), скорее всего – «получить древнее» (другой вариант перевода – «сохранить древнее»). Тут совпадало и звучание иероглифов с названием народа «мэн-ву» (менгу, мингу), который был до того «страшен чжурчженям», врагам татар Чынгыз хана. Так название, а затем уже иероглифы и были, как видим, подобраны: «в этом имени («мэнгу». – Г.Е.) другие совсем иероглифы, а не те, которыми писали имя прежних мин-гу, и название, принятое Чингиз ханом, имело двойной смысл: иероглифы имели значение, а звук напоминал народ, некогда враждебный Цзиньцам» (17, 161).
Ниже мы увидим, как было использовано создателями легенды об «этнических монголах – соплеменниках Чынгыз хана, врагах татар» это созвучие имени древнего народа, когда-то «страшного чжурчженям» и уничтоженного ими задолго до рассматриваемых событий, с названием Державы Чынгыз хана, перешедшим на ее подданных – «Монголы». Данное слово-наименование «никоим образом» не означало в то время этническую принадлежность, хотя поначалу относилось в основном именно к средневековым татарам, первым основателям и идеологам Державы Чынгыз хана и его соплеменникам.
Вот еще некоторые сведения по истории родного этноса Чынгыз хана из китайских источников, переведенных В. П. Васильевым: «Вышедшее из Маньчжурии под давлением Киданей[21]21
Империя Киданей образовывается на восточной территории нынешнего Китая к началу XI в. От названия народа, создавшего эту империю – кидани («катай») и произошло современное название Китая (17, 18). Кидане периодически наступали на запад, на территории древних уйгуров и татар, но, несмотря на свою 100 000 армию, «ничего не могли с ними поделать» (IX–XI в.) (там же, 23, 25–27). В 1115 г. империя Киданей была разгромлена совместными ударами татар, уйгуров и чжурчженей, на ее территории чжурчженями создается империя Кинь (Цзинь). Ахметзаки Валиди Туган относит киданей, бывших в тот период «императорами над Китаем и руководителями управлений», к тюркской народности (Хытай, Катай) (13, 232).
[Закрыть] – воинственных полукочевников – одно отдельное поколение (племя, народность), поселившееся у Иньшаня, прозвалось Датанями (Татарами); это имя сделалось известной в Китае при Танской династии» (начало VII в). Во время владычества Киданей история застает их на северо-запад от Дансянов, Тугухунцев и Тукюэ» (17, 136) – это от гор Иньшань в сторону Алтая и Джунгарии (Шато).
В 870 г. летописцами отмечаются совместные с тюрками-шато боевые действия древних татар против «китайского бунтовщика Пансюня». Имеются сведения о том, что татары предоставляли убежище лидерам тюрок-шато – последние «убегали к Датаням». Отмечается, что древние татары были искусны в конной езде и стрельбе, имели множество верблюдов и лошадей. «Названия их поколений и старшин остались неизвестными для истории; известны только имена Чжаваньцу, Цзэгэ» (17, 165–166) – несомненно, имена до неузнаваемости искажены китайской транскрипцией.
В. П. Васильев поясняет также, что тюркские племена, обитавшие в степи Шато, – Тукюэсцы или Шатосцы, «прозванные так от степи Шато, находящейся на запад от Баркюля» (озеро в Джунгарии. – Г.Е.), в VIII–IX вв. мигрировали на восток, «на северную сторону хребта Иньшань» (там же, 136).
Те же племена описываются и у Л. Н. Гумилева, он называет Шатосцев «тюрками-шато, потомками среднеазиатских хуннов» (32, 354, 483).
«К этому же времени история относит и появление в этой местности Татаней маньчжурских… В IX в. история не упоминает уже о Шатосцах в этих местах; напротив, при Киданьской династии являются здесь Дадане (Татары). Следовательно… оба рода смешались друг с другом, и были оттеснены натиском Киданей и Тангутов царства Ся, далее на север» и на запад, и уже при Чынгыз хане, совершив, по выражению В. П. Васильева, «круговое вращение» своей миграции, татары Чынгыз хана пришли с запада (со стороны Шато – Джунгарии) снова на восток Евразии, где «поколение Татар при Чингисхане стало царственным» (17, 136–137).
Как отмечает также В. П. Васильев, в китайских хрониках сообщается о некоторых характерных чертах данного этноса – одновременно с тем, что были они «все мужественны и искусны в сражении», древние татары – соплеменники Чынгыз хана также «занимались хлебопашеством». Кроме этого также они умели изготавливать оружие и прочие изделия из железа и меди уже в IX–X вв. (17, 165). «Киданьцы, хотя и торговали с Датанями (Татарами), но не пропускали к ним железа. Когда же Цзиньцы завладели землями на юго-восток от Хуанхэ, железо и медь перешли к Датаням и они наделали себе оружия» (там же). Поскольку в 1115 г. на месте разгромленной чжурчженями (с помощью татар) империи Киданей возникает империя Кинь (Цзинь).
Далее летописи свидетельствуют: «Когда Цзиньское государство было сильно, то Датане (Татары) ежегодно приносили дань, когда же на (Цзиньский) престол вступил Вэй-ван, то Датаньский государь Тэмучэнь провозгласил себя императором Чингисом» (там же, 165).
Таким образом, примерно с VII–VIII вв. на пространствах Центральной Евразии от Иньшаня до Джунгарии, и как ниже увидим, далее до Алтая, Урала и Волги и далее, шло «смешение» и расселение, по меньшей мере, двух-трех племен и множества отдельных «тюркских родов»[22]22
«Род – коллектив кровных родственников, ведущих происхождение от общего предка, носящих общее родовое имя. Счет родства ведется по материнской (материнский род) или по отцовской (отцовский род) линии. Возник на рубеже верхнего и нижнего палеолита. Роды объединялись в племена. Распался с возникновением классового общества. Пережитки родо-племенного деления сохранились у многих народов» (94, 1142).
[Закрыть]. Главную роль, чему подтверждения будут приведены ниже, в образовании нового этноса играли древние татары, вышедшие ранее из Маньчжурии, тюрки-шато и частично уйгуры (17, 136–137). Включал в свой состав этнос татар в ходе расселения на Запад и «другие тюркские роды», обитавшие в Великой Степи (87, 102). И, как выразился Л. Н. Гумилев, «в XI в. новый взрыв этногенеза создал этнос – монгол» (34, 59). Но соплеменники Чынгыз хана, как мы знаем уже из работ В. П. Васильева, и, впрочем, также как поясняет и Л. Н. Гумилев в своих работах, «монголы до Чынгыз хана», например, еще «в XI–XII вв. назывались татары» (34, 41; 30, 270).