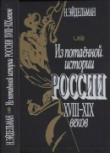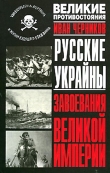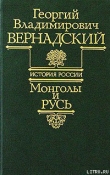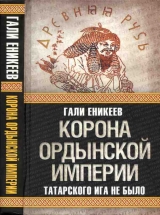
Текст книги "Корона Ордынской империи, или Татарского ига не было"
Автор книги: Гали Еникеев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Как пишет В. В. Бартольд, персидский географ Гардизи (IX в.) называет татар также и частью кимаков, обитавших на Иртыше (8, 559).
И Махмуд Кашгари, применительно к данному случаю, указывает места обитания татар вместе с кимаками (йемеками) на реках Иртыш – Тобол (район примерно треугольника – Курган – Омск – место слияния Тобола и Иртыша; район Ишимской равнины и Зауралье).
Заметим также, что М. Кашгари, также как и авторы китайских источников, переведенных В. П. Васильевым, указывает именно на конкретное племя (этнос) «татар», на одно из мест их обитания среди других тюркоязычных племен (народов). А также добавим, что Махмуд Кашгари дает характеристику языку татар, называя его одним из тюркских с «особенным диалектом» (53, 119; 63, 97).
Рассмотрим подробнее сведения о возникновении народа кимаков и их государства в данном районе, основателями которых названы татары.
Л. Н. Гумилев приводит переведенные В. В. Бартольдом в 1887 г. и не издававшиеся в советское время (35, 370) сведения упомянутого персидского историка Гардизи, составленные в 1049–1058 гг. и описывающие события примерно VIII–IX вв.
Умер «…начальник татар и оставил двух сыновей; старший брат овладел царством, младший стал завидовать брату; имя младшего было Шад. Он сделал покушение на жизнь старшего брата, но неудачно; боясь за себя, он взял с собой рабыню-любовницу, убежал от брата и прибыл в такое место, где была большая река, много деревьев и обилие дичи: там он поставил шатер и расположился. …После этого к ним пришло 7 человек из родственников татар… Эти люди пасли табуны своих господ, в тех местах, где прежде были табуны, не осталось пастбищ, ища травы, они пришли в ту сторону, где находился Шад. Увидев их, рабыня вышла и сказала: «Иртыш», то есть «остановитесь». (Примечание Л. Н. Гумилева – «…ердаш» часть композитума: «адаш, колдаш, ердаш» – друзья (древнетюрск.)). Значит, приехавшие были ей знакомы, и она поздоровалась. Отсюда река получила название Иртыш. Узнав ту рабыню, все остановились и разбили шатры. Шад, вернувшись, принес с собою большую добычу с охоты и угостил их; они остались там до зимы. Когда выпал снег; они не могли вернуться назад; травы там было много, и всю зиму они провели там. Когда земля разукрасилась, они послали одного человека в татарский лагерь, чтобы он принес известие о том племени. Тот, когда пришел туда, увидел, что вся местность опустошена и лишена населения: пришел враг, ограбил и перебил весь народ. Остатки племени спустились к этому человеку с гор, он рассказал своим друзьям о положении Шада; все они отправились к Иртышу. Прибыв туда, все приветствовали Шада как своего начальника и стали оказывать ему почет. Другие люди, услышав эту весть, тоже стали приходить (сюда); собралось 700 человек. Долгое время они оставались на службе у Шада; потом, когда они размножились, рассеялись по горам и образовали семь племен…» (35, 225–227).
Л. Н. Гумилев полагает, что описываемая река «Иртыш» – это «один из притоков Оби, может быть Катунь или Урсул на Горном Алтае. А под «врагом, ограбившим и перебившим весь народ», по мнению Л. Н. Гумилева, подразумеваются именно кидани, которые, как мы видели из приведенных выше сведений из работ В. П. Васильева и С. Г. Кляшторного, воевали с татарами и уйгурами в IX и в X в.
«Несмотря на аморфность и даже путаницу приведенного текста (сочинения Гардизи. – Г.Е.), из него можно извлечь крайне ценное указание на переход небольшой группы дальневосточных пассионариев в богатую страну, населенную этническими осколками Западного Тюркского каганата» (выделено мной. – Г.Е.) (там же, 227).
То есть, как следует из приведенного замечания Л. Н. Гумилева, в сведениях Гардизи отражена миграция с востока группы татар. Также мы видим, что эти татары были именно тюркоязычными – и оставленные на Алтае сыновья «начальника татар», и их родственники и соплеменники – все говорят на одном из тюркских языков. И правили Кимакским государством «хакан из татар и 11 управителей уделов» (там же, 228).
Естественно, «территория кимакского государства была заселена не только самими кимаками, но и угро-самодийцами, динлинами, и возможно, реликтами древних саков» (там же, 224).
С изложенным согласуется и высказывание С. Г. Кляшторного о том, что в формировании кимакского (йемекского) племенного союза и позднее – государства, участвовали тюркские племена и «появившиеся в Прииртышье в VIII–IX вв. татары» (тоже, согласно данным М. Кашгари, тюркоязычные). «Этот процесс завершился не ранее середины IX в., когда после падения Уйгурского каганата в центре кимакских земель на Иртыше появились осколки токуз-огузских (уйгурских. – Г.Е.) племен, бежавших сюда после разгрома» (53, 119).
Как было уже отмечено выше, перс «Гардизи называет татар частью кимаков, обитавших на Иртыше» (8, 559).
Л. Н. Гумилев замечает: «Странный был этот этнос – кимаки. Существовало их государство более трех веков: с IX по XI в. («хотя хронология кимакской державы приблизительна» (35, 229)), занимало огромную территорию: от верхней Оби до нижней Волги и от низовий Сыр-Дарьи до сибирской тайги, но ни предки, ни потомки их неизвестны» (35, 223) (выделено мной. – Г.Е.).
Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью заявить, что не «татары» – «собирательное наименование», а, скорее всего, название «кимаки» означает подданных государства кимаков, возникшего, как предполагается, в IX в., тем более что известно, что у «происходивших от татар» кимаков главой государства был «хакан из татар и 11 наследственных управителей уделов»[78]78
«Кимаки», другое их известное название «йемеки» (53, 118–119). Скорей всего, это искаженные транскрипцией тюркские слова. Кимак: «кёмэк», что значит «множество, масса» (народу). Йемек: «йыймак» («жыймак») – сообщество, совокупность (народов, племен, людей).
[Закрыть] (32, 227–228). Л. Н. Гумилев приводит сведения из упомянутого выше «Худуд-ал алам» о том, что столицей государства кимаков был город Камания (30, 82–83).
В дополнение к приведенному вспомним сведения В. В. Бартольда о совместном упоминании «татар до Чынгыз хана» с «татарами Чынгыз хана» под предводительством Джучи, когда знаменитый полководец вступил в бой с войском «султана Мухаммеда б. Текеша», пришедшего истреблять «кипчаков, племена Кадыр хана, сына татарина Юсуфа» в 1218–1219 г. (8, 559). Персидский автор Джузджани называет «сына татарина Юсуфа» также «Кадыр ханом Туркестанским, Иакафтаном йемекским» (102, 14), то есть, кимакским – эти два названия (кимаки и йемеки) означали один и тот же народ у разных авторов (53, 118–119).
Как видим, «хронология Кимакского государства» отнюдь не ограничена XI в., а продолжалась вплоть до установления Державы Монголов в данном регионе. В приведенном случае описываются события в Тургайской степи, то есть, на территории современного Северного Казахстана, километров 150–200 восточнее Актюбинска.
Араб Ибн-аль-Асир, повествуя о татарах Чынгыз хана как о «большом тюркском племени», пишет, что часть этих татар «в старину успела пробраться в Туркестан и в те земли, которые лежат за ним (то есть, речь идет о «землях, лежащих» северо-западнее Туркестана. – Г.Е.).
«И эти татары завладели Туркестаном, Кашгаром, Белясангуном и др. и стали ходить войной на войска Хорезмшаха» (101, 4–5). Не забудем, араб написавший это в начале XIII в., жил в г. Мосуле (Ирак) (там же, 1). «В старину» для Ибн-аль-Асира – это как раз X–XI вв., или даже ранее, что соответствует также приведенным выше сведениям из других источников о расселении татар на запад Евразии в указанное время, то есть, задолго до «монголо-татарского нашествия».
Теперь посмотрим, кем были кыпчаки (половцы или куманы): «В конце X в. от массы кимаков отделились кыпчаки и двинулись на запад, в роскошные степи Причерноморья, где стали известны под именем куманов и русским названием половцев»[79]79
Ясно, что половцы-кыпчаки, до того как «отделились от массы кимаков», были подданными государства кимаков (татарского, т. е. созданного и руководимого татарами). Но связи с ними (и зависимости) не потеряли вплоть до начала XIII в. И вполне понятно, что имели в виду татары, описываемые в Лаврентьевской летописи: «Татары, узнавши о походе русских князей, прислали сказать им: «Слышали мы, вы идете против нас, послушавшись половцев… пришли мы попущением Божиим на холопей своих и конюхов, на поганых половцев, а с вами нам нет войны…» – описание событий, предшествующих битве при Калке в 1223 г. (38, 101).
[Закрыть] (35, 227).
«Некоторые подразделения татар оказались связаны с тюркским миром и передвинулись далее на запад» – пишет также В. В. Бартольд (8, 559).
Но вот что примечательно: «под именем куманов» переселенцы из Кимакского государства стали известны уже спустя значительное время после их расселения по «роскошным степям Причерноморья»:
Выше приводились сведения из отчета о поездке миссионера-католика Юлиана, проехавшего в начале XIII в. от Черного моря до Южного Урала. Юлиан свидетельствует, что «татары живут рядом с венграми» (Южный Урал. – Г.Е.) (2, 81), притом он выражается конкретно: «живут», а не «пришли неведомо откуда, завоевали их в XIII в.», более того, эти татары, действуя сообща с теми же венграми, «разорили 15 царств» (там же).
И главное, Юлиан сообщает данные о том, что «татары прежде (т. е. задолго до XIII в. – Г.Е.) населяли страну, населяемую ныне куманами» (там же, 83), то есть, половцами-кыпчаками.
Как видим, сведения венгерского монаха полностью согласуются с приведенными выше сведениями из работ различных авторов разных времен о расселении татар по Евразии и дополняют их.
Еще интересный факт отметим: миссионер влиятельнейшей в мире уже в то время не только церкви, а также и международной организации, располагавший, естественно, обширной демографической информацией, уверенно утверждает также, что «страна, откуда они (татары) первоначально вышли, называется Гота…». В сноске-комментарии указано, что в других рукописях Гота указывается также как «Готия» (там же). А Готта (Готия), как общеизвестно, это было древнее название именно Северного Причерноморья. То есть татары, вернее, часть татар, о которых знает и о каковых пишет Юлиан (пишет именно о «монголо-татарах»), «первоначально вышли» (то есть происходят) также из «страны», которую ранее (задолго до XIII в.), «населяли куманы» – половцы. В том числе, как мы видели, и из Северного Причерноморья.
Подтверждающих сведения Юлиана фактов, «не замечаемых» официальными историками, множество (65, 122–123), и они, и сведения Юлиана еще будут более подробно рассмотрены в последующих частях данной работы. Пока отметим лишь достойный внимания и доверия факт, что «в русских летописях половцами часто называли татар» (там же, 122).
Еще обратим внимание, что кыпчаки-половцы, вышедшие из страны кимаков, были светлоглазы и желтоволосы (35, 227). То есть обладали аналогичными древним татарам («древним монголам»), соплеменникам Чынгыз хана, антропологическими признаками (см. выше).
Напомню, что «Дашт-и Кыпчак», что на персидском значит «Кыпчакская степь», примерно с X–XI вв. известно именно как географическое название, под которым «подразумевались степи от Иртыша до Дуная», и применялось это географическое название именно в сокращенном варианте – «Кыпчак» (3, 194–199).
И кыпчаки вовсе не представляли собой однородную этническую общность, а были именно «собирательным наименованием» обитателей территории под названием Кыпчак, или «Дешт-и Кыпчак»:
«В восточных источниках кыпчаки впервые упоминаются у Ибн Хордадбеха (IX в.) в списке тюркских народов, затем известия о них и кимаках становятся уже обычными. По данным большинства источников, кимако-кыпчакские племена до конца X в. были расселены в границах среднего течения Иртыша и смежных с ним южных областей…
В VII–XI вв. между этими двумя группами существовала определенная политическая связь, причем, как считают, кыпчаки были в вассальной завимости от кимаков, хотя эта зависимость не была стабильной. По сведениям «Худуд ал-алам», кыпчаки были народом, отделившимся от кимаков. Заняв территорию западнее кимаков, кыпчаки все же сохраняли политическую зависимость от них, по крайней мере, «царь кыпчаков» назначался кимаками» (3, 193; 57, 42–44) (выделено мной. – Г.Е.).
«Как отмечает Б. Е. Кумеков, племенной состав кыпчакского объединения был сложным и состоял из девяти племен» (3, 193).
«С начала XI в. начинается продвижение кыпчаков в западном и южном направлениях. При этом кыпчакский союз распался на несколько крупных объединений. В результате они оказались разобщенными и разбросанными на значительных расстояниях друг от друга. …В русских летописях они известны как «половцы», в сочинениях арабо-персидских авторов – «кыпчаки». Таким образом, термины «половцы» (для территории Восточной Европы) и «кыпчаки» (в основном для Восточного Дашт-и Кыпчака) выступают как собирательные, представляя собой политические наименования племенных объединений кыпчаков» (3, 193–194).
«Помимо кыпчаков, в восточной части Дешт-и Кыпчака жили также печенеги, аргыны, карлуки и др. …кроме самих кыпчаков, в их конфедерацию входили часть кимаков, канглы, а также части племенных союзов огузов, хазар, печенегов, узов и других» (там же, 195).
Добавим, что все эти «объединения» племен и родов, чьи представители имели, как мы видели, именно собирательное название «кыпчак», были разбросаны на огромном пространстве от Иртыша до Черного моря. И в них входило не менее 27 различных, в основном, тюркоязычных племен, которые кочевали по обильным травой и водоемами степям (53, 203). Среди них немалая часть, по всей видимости, помимо упомянутых выше пришлых кимаков-кыпчаков и ранее проживавала здесь – это потомки печенегов и формирующийся племенной союз гузов (31, 305). Но эти «тюркские этносы отнюдь не ладили друг с другом. Степная вендетта уносила богатырей, не принося победы, ибо вместо убитых вставали повзрослевшие юноши…» (там же, 318).
Причем кыпчаков и их соседей было не очень много числом: «эти благостные места от Алтая до Карпат (где жили кыпчаки – Г.Е.) потому и были так прекрасны, что население в них было очень редким» (там же, 411).
К тому же гузы например, в XI в. «господствуют между Каспием и Аралом» (35, 229), и как видим, ареал их основного расселения находился намного южнее от районов расселения племен под собирательным наименованием «кыпчаки».
По последним данным этнической истории Евразии получается все же, «кыпчаки» («половцы») – это все-таки название именно собирательное – примерно такое же, как мы видели выше, как и «кимаки». Отличие лишь в том, что «кимаки» – это было название политического объединения – подданных кимакского государства, а «кыпчаки» – собирательное наименование жителей Кыпчака – территории степей от Иртыша до Черного моря.
То есть этноса такового – «кыпчаки» – не было, соответственно, ни языка кыпчакского, ни письменности, ни государства как такового с общей подвластной территорией, и были кыпчаки совокупностью разных тюркоязычных племен – «языки, внешность и обычаи которых были близки друг к другу» (87, 103). И были они к тому же подданными государства кимаков, переселившимися западнее от территорий этого государства, вероятно, с целью выйти из-под его юрисдикции.
И название «Кыпчак» не означало в рассматриваемые времена (XI–XIV вв.) конкретный этнос (народ).
Было наименование «Кыпчак»:
во-первых, географическим названием определенного региона;
во-вторых, в то же время это название означало, применительно к представителям населявших его различных тюркских племен и народов, также и жителя (жителей) данного региона, и именно в собирательном смысле, например, как ныне «австралиец», «европеец», «сибиряк»;
в-третьих, примерно с XIV в. известно отдельное «тюркское» племя Кыпчак, названное так по имени родоначальника, которого звали «Кыпчак-бий». Племя это входило в состав субэтнической группы «Карачу», которая была в свою очередь составной частью средневекового татарского народа, как мы и видели выше (13, 34).
И еще отметим интересный в данном отношении факт из сведений арабского историка Ибн Халдуна, который пишет о «тесной связи и родстве кыпчаков (именно в смысле отдельных представителей населения территории под названием «Кыпчак». – Г.Е.) издревле с народом татар Чынгыз хана и его домочадцами», и родственные связи эти начались ни много, ни мало с VIII в. Поэтому Чынгыз хан считал кыпчаков своими родственниками (58, 39–40).
О связях татар с кыпчаками также можно привести обращение сына Чынгыз хана Джучи к кыпчакам перед столкновением с ними в предгорьях Кавказа, еще задолго до битвы на Калке (1223 г.): «вы наши родственники, мы идем не на вас» (13, 249). И как мы видели из приведенного выше, получается, что в тот момент знаменитый полководец говорил известную всем тогда правду, чтобы избежать лишнего кровопролития и сберечь как своих бойцов, так и неразумных родственников. И обходился без переводчика – нет никаких сведений о языковом барьере, так как «внешность, языки и обычаи тюркских племен были близки друг к другу и имели лишь в прошлом небольшие различия по различным районам» (87, 75, 77, 103).
Стоит привести здесь также сведения В. Г. Тизенгаузена из арабских средневековых источников, о том, что среди кыпчакских племен (арабы перечисляют, известных им, около десятка) находилось «племя токсоба, …ход рассказа… указывает на то, что племя токсоба из татар, что все перечисленные племена не от одного рода» (101, 542). Причем «ход рассказа», то есть контекст повествования арабских источников «указывает» также на то, что это племя токсоба из татар проживало в описываемых местах – причерноморских степях Дешт-и Кыпчака, задолго до «монголо-татарского нашествия» (там же, 540–542).
Считаю также необходимым привести сведения Ахметзаки Валиди Тугана о роли этих самых кыпчаков, а также кимаков и монголо-татар Чынгыз хана в этнической истории современных татар, а также и башкир – самого близкого к современным татарам по языку и культуре народа: «Абуль-Гази пишет, что вследствие того, что потерпевшие поражение от сына Чынгыз хана Джучи кыпчаки отступили в поисках убежища на башкирские земли, большинство иштяков, или, по-другому, башкир составили кыпчаки. Этот источник важен тем, что свидетельствует о большом количестве кыпчаков в областях башкир.
Арабские авторы пишут, что башкиры – близкое к кимакам тюркское племя, даже упоминают их как одно из ответвлений кимаков. Махмуд Кашгари в своей работе, составленной в 1075 г., считает, что язык башкир относится к языку (говору) йемеков (то есть кимаков-кыпчаков)» (13, 17).
Вспомним, что Махмуд Кашгари указывает, что татары обитают также и среди башкир и йемеков (кимаков) в районе Урала и Зауралья (Южная Сибирь).
Также «весьма вероятны контакты мадьяр (венгров. – Г.Е.), обитавших на западе Волги, с башкирами и их частичное взаимное смешение между собой» (там же, 17–18).
Ахметзаки Валиди Туган также указывает на необоснованность точки зрения некоторых историков о том, что предками башкир являются проживавшие в то время на Урале венгры, описываемые Юлианом в XIII в. По мнению данного историка-тюрколога, предками современных башкир являются именно тюркоязычные племена, принадлежавшие к племенному союзу Тиелле-Телес, мигрировавшие на Урал и Приуралье с востока Евразии, известные примерно с VII в.(13, 17).
Так что, как видим, есть все основания полагать, что и с родственными по языку, и вероятно, не только по языку, татарами башкиры уже в X–XI вв. и, главное и ранее вступали в контакты и «взаимно смешивались», вместе мигрируя на запад Евразии.
Позже, как утверждает Ахметзаки Валиди Туган, «уральские башкиры подчинились Чингиз хану – его сыну Джучи в период движения в 1207 г., это упоминается как присоединение (к нему) племени «Телес», соседей-алтайцев. Поэтому сведений о том, что башкиры воевали против монгольских ханов, не имеется. Есть все основания считать, что они подчинились добровольно. Следует полагать, что сведения о покорении башкир с боями при Бату хане относятся к дунайским мадьярам» (13, 21–22).
То есть предки современных башкир – средневековые башкиры – поддержали движение первых монголов (политического сообщества под предводительством Чынгыз хана), состоявших поначалу в основном из средневековых татар, и примкнули к ним добровольно (так же как и их соседи – уральские венгры и йемекские (кимакские) татары[80]80
См. выше (Глава 1) о походе Хорезмшаха Мухаммеда против племен Юсуфа Татарского и вступлении в эту войну Джучи хана – сына Чынгыз хана и сражении монголо-татар с войском Хорезмшаха, или (102, 13–14).
[Закрыть]), а не были «завоеваны татаро-монголами», как нас убеждают историки-европоцентристы и их последователи.
Приведем еще раз, в другом аспекте, сведения Ахметзаки Валиди Тугана, о том, какую роль сыграли монголо-татары Чынгыз хана в формировании современных народов татар и башкир: Нам уже известно, что «бывшие опорой (монгольских. – Г.Е.) ханов племена, общее название которых было «Карачы» – (это) Кунграт, Найман, Кошсо, Уйгур, Салжавут, Кыпчак, Мангыт, Мен… Они формировали отдельные «тумены».
Языком этих племен, также как и оставшихся в Башкирии, был известный говор Кыпчака, называемый «татарским», и, будучи названными «Уфимскими татарами» («став Уфимскими татарами»), все эти племена сохранили наименование «тумен». А большинство (народа) из племен, оставшихся в Башкирии – под названием Катай, Салжавут, Табын, Барын, Мен, Меркит, Дурман[81]81
Другой вариант написания названия этого племени – Дурбан.
[Закрыть], Кыпчак, Сураш и Нугай – они стали башкирскими племенами…» (там же, 34–35).
Например, в шежере (родословная) башкирского племени Кыпчак говорится: «наши деды получили эти земли с разрешения Чынгыз хана» (22, 16).
«С третьей четверти XIV в. управление в Туре и башкирских областях переходит к туменским биям, они происходят, кроме биев башкирских племен, из биев туменов, организованных монгольскими племенами, прибывшими с монгольскими ханами.
…Самыми сильными (влиятельными) были тумены племени мангыт (там же, 25). Из мангытов был, например, Нуретдин бий (Нурадын) – среди башкир он известен как Мурадым. Он вместе со своим отцом Мангыт Абуга бием (родственник Тухтамыш хана) вместе с главой дивана (что значит великий визирь) Катай Гали бием, после поражения на реке Илек прибывает в Башкирию и тут умирает. До сих пор среди башкир известны стихи и песни, посвященные ему» (там же, 25).
«В те времена на Туре[82]82
Территории, также называвшиеся в средние века «Ибирь-Сибирь», включали в себя территории современной Башкирии, Юго-западной Сибири и др. «По определению Утемиша Хаджи, Тура – это аулы и владения оседлых мангытов на территориях современной Башкирии и Западной Сибири. Хотя и в Сибири были расположены города туранских ханов, но в основном их местопребывание было в Башкирии, особенно в районах современных г. Уфы, п. Чишмы и г. Стерлитамака (13, 23).
[Закрыть] и областях башкир было много аулов мангытов (нугаев). Упоминемые в башкирских дастанах и находящиеся в восточных и средних районах Башкирии (Байык, Мача, Иглин, Буздяк и др.) и говорящие по-татарски, а в башкирских улусах (например, Бурзян, Усерген, Юрматлы) говорящие по-башкирски нугайские и туменские деревни (аулы) и есть эти мангыты. Эти оседлые нугайские племена были опорой нугайско-мангытских мурз. Нугайские бии широко правили при последних ханах Шейбанидах» (там же, 26–27).
В упомянутом шежере племени Кыпчак о нугаях изложено следующее: «некоторые кыпчаки присоединились к орде татарского хана, и они стали называться нугайским племенем по имени мурзы Ну гая» (22, 18).
В историческом памятнике, составленном на татарском языке в XVII в., «Дафтар-и Чынгыз наме» («Чынгыз хан Дафтере»), изложен древний татарский народный дастан (предание) «Чынгыз наме». В дастане перечисляются беки (бийи) – родоначальники племен, среди которых названы Уйшин Майкы-бий, Кыпчак-бий, Тамйан-бий, Кунгырат-бий, Катай-бий, Кыйат-бий, Салчут-бий и др. – имена соратников Чынгыз хана, избравших его ханом.
«В этих личных именах нетрудно угадать этнонимы отдельных племен, родов, входивших в состав ряда тюркских народов: казахов, башкир, туркмен (выделено мной. – Г.Е.) и др., однако, преобладают башкирские родоплеменные названия. Мало того, в трактовке некоторых сюжетов, например, в рассказе о взаимоотношениях Майкы-бека с Чынгыз ханом имеется много общего с данными башкирских шаджара, в которых Майкы-бек представлен самым близким человеком Чынгыз хана и праотцом одного башкирского рода. Любопытен вышеизложенный рассказ и в другом отношении. Автор приписывает Чынгызу роль легендарного Огуз хана, дарившего своим сыновьям «тамги» и «онгоны». Но в «Дафтар» места сыновей Огуза заняли предводители родов и племен. Привлекает внимание поразительное сходство тамг (гербов-знаков) в списках «Дафтар» и «Сборнике Рашид ад-Дина». Следовательно, анонимный автор был знаком с каким-то источником, содержащим эти древние предания» (105, 109).
Заметим, что в дастане «Дафтар-и Чынгыз наме», несомненно, составленном на основе более ранних татарских исторических источников, вряд ли могут перечисляться «этнонимы отдельных племен, родов», «входивших в состав ряда тюркских народов» (казахов, туркмен и др.). Поскольку в те времена, о которых повествует дастан, и даже во времена его составления, и даже изготовления известных списков (XVI–XVII вв.) таковые народы вряд ли еще существовали – хотя бы как более или менее известные и устойчивые этнические общности.
Полагаю, называются в дастане главы родов и племен именно средневекового татарского народа – то есть, соплеменников Чынгыз хана. Некоторые представители этих родов и племен, много позже, действительно вошли в состав перечисленных народов – таких как туркмены или казахи, сложившихся примерно к XVIII в., так именно и возникли в указанных народах роды и племена с соответствующими названиями.
Как отмечает академик М. А. Усманов, в книге которого приводятся данные из «Чынгыз наме», есть заметная разница между «объектами и субъектами» в повествовании Рашид ад-Дина и татарского автора. И «похоже на то, что он когда-то видел летопись Рашид ад-Дина и передал ее версии по памяти, подвергнув своей редакции» (там же, 110).
Вне всякого сомнения «есть разница», и очень даже существенная. И о том, почему отличаются друг от друга данные Рашид ад-Дина и татарского источника, и кто, и чью «летопись подвергнул своей редакции», у меня есть свое мнение, отличное от предположения академика М. А. Усманова.
Как видно из приведенных выше сведений, а также из сведений древнего татарского исторического источника, многие и многие современные татары и башкиры, а также немало представителей и других тюркских народов, да и не только тюркских, имеют непосредственных общих предков – из племен (народа) средневековых татар. И эти племена, как можно уже понять, вовсе не «завоеватели халха-монголы, появившиеся в западе Евразии только в начале XIII в качестве кровожадных, полудиких кочевников».
Напомню, что, подвергая обоснованному, как видим, сомнению данные, содержащиеся в летописи Рашид ад-Дина, и данные Юаньской истории, сочиненной китайцами после свержения Монгольской династии, В. П. Васильев подчеркивает, что вторжение татар под руководством Чынгыз хана в империю Цзинь началась с северо-западной части Монголии, со стороны Восточного Туркестана (17, 127–128, 136). Указанный факт – то, что именно с запада пришло «поколение» татар Чынгыз хана в восточную часть Центральной Азии, противоречит также и всему содержанию официальной «истории о монголо-татарах, предках халха-монголов, уроженцев Забайкалья».
Приведу интересные сведения В. П. Васильева, полученные им из записок древнего китайского путешественника Ху-цяо (945–953 гг.) (17, 37):
Китаец пишет, что «Кидане некогда отправили 10 человек с 20 лошадьми (пробегавшими сто миль в день), с дорожным запасом, на север. Эти люди, в продолжении года идя на север, проехали через 43 города.
Там жители делают жилища из древесной коры; языка их никто не понимал, и поэтому не могли знать названия гор, рек и племен; в этих местах на равнинах тепло, а в горах и лесах холодно.
Прибывши в 33-й город, они достали одного человека, который знал те-дяньский (татарский? – В. П. Васильев) язык, и тот сказал, что название земли есть Цзе-ли-у-юй (или гань) – сеянь» (там же, 40).
Следует полагать, что верно предположение В. П. Васильева в его объяснениях, сопровождающих перевод текста Ху-цяо, о том, что под «те-дяньским» языком Ху-цяо имеет в виду именно татаньский (татарский) язык. Так как это свое предположение русский академик сделал после долгих десяти лет изучения и сопоставления древнекитайских исторических источников, и что примечательно, он в совершенстве смог овладеть китайским языком, включая многие старокитайские диалекты. И главное – сведения В. П. Васильева, в данном конкретном случае – сведения Ху-цяо, согласуются с данными других исследователей, приведенными выше, о том, что татары расселились задолго до «эпохи монголов» далеко от восточной части Евразии – вплоть до ее западных областей в Восточной Европе.
В записках Ху-цяо, несомненно, говорится о северо-западном направлении – это следует, например, из того, что кидане к началу X в. успели продвинуться значительно южнее от мест расположения своих исконных земель. К тому же, если воспринимать записки Ху-цяо буквально и считать, что кидане продвигались в течение года строго на север, то получится, что они бы достигли полярных районов, а то и Северного Ледовитого океана – а в записках Ху-цяо нет подобных сведений. Напротив, он отмечает, что там, где побывали кидане, «в долинах тепло, а в горах холодно».
При том китайская транскрипция, естественно, исказила до неузнаваемости подлинное звучание названия местности, до которой добралась экспедиция киданей. Но время указанной экспедиции можно определить примерно как конец IX в. – начало X в. Как следует из приведенных сведений, в X в. владеющие татарским языком могли встретиться весьма и весьма далеко от восточной окраины Евразии – и что примечательно, кидане-путешественники владели татарским языком также хорошо, как и тот человек, которого они встретили вдали от своей родины.
Также В. П. Васильев, анализируя записи Ху-цяо в сопоставлении с другими источниками, отмечает, что первоначальная родина предков современных халха-монголов – нижнее течение реки Амур, «от киданей до моря». И академик, поясняя, что древние Татары, соплеменники Чынгыз хана, вряд ли были предками народа халха-монголов, замечает – «и не к чему искать их (нынешних монголов) имени в татанях, выходцах из Маньчжурии и поселившихся у Инь-Шаня» (17, 38).
Также В. П. Васильев подчеркивает, что «огромные пространства Средней Азии издревле говорили языками близкими нынешним, т. е. на востоке маньчжурским, в центре – халха-монгольским и на западе турецким (тюркским. – Г.Е.)» (там же, 129). И факт появления татар Чынгыз хана именно из западной части Центральной Азии также свидетельствует об их принадлежности к носителям именно одного из тюркских языков. И еще – нам уже известно, что именно в западной части Центральной Азии и в Южной Сибири, а также, по некоторым данным – ив Восточной Европе, и еще задолго до «монголо-татарского нашествия» были места расселения «татар до эпохи Чынгыз хана».
И нет, повторю, никаких оснований считать, что «татары до Чынгыз хана» и «татары Чынгыз хана» – какие-то «два разных народа, жившие примерно в одно время и носившие одинаковые названия», как полагают официальные историки. Или название одного народа распространяли на «всех кочевников», невзирая на их различия в языке, во внешности и т. п. – но В. П. Васильев конкретно указывает, как мы видели выше, что относительно названия «татар» – явно ошибочно полагать его «общим названием всех племен, которых позже прозвали монголами».
Приведем сведения человека, бывшего почти в продолжении 17 лет должностным лицом высшей Юаньской администрации монголо-татар в Китае – итальянца Марко Поло, и как следует полагать, много узнавшего непосредственно от самих монголо-татар о начальном этапе истории их Державы (111, 32).