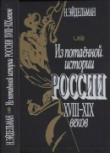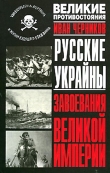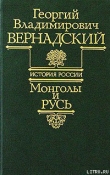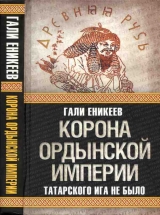
Текст книги "Корона Ордынской империи, или Татарского ига не было"
Автор книги: Гали Еникеев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава 2
Сведения о языке «древних монголов» – соплеменников Чынгыз хана
Имена
Обратим внимание, что В. П. Васильев, не соглашаясь с имевшим уже в его время достаточное распространение в научных кругах утверждением западников о том, что языком этноса первооснователей Державы Монголов был язык халха-монголов, пишет: «Скорее всего, мы можем допустить, что Чингиз хан не говорил языком, который мы ныне называем монгольским» (17, 129), имея в виду также, что вряд ли говорили на этом языке и единоплеменные с Чынгыз ханом «древние монголы».
Хотя, как замечает В. П. Васильев, «язык монгольский (халха-монгольский. – Г.Е.) существовал с давнего времени, только не назывался этим именем» (там же, 131). Но и татарским он тогда никоим образом не назывался, и ныне не называется – халха-монголы, повторю, так и продолжают жить в Китае и Монголии, и ни на своей родине, и нигде в мире ни сами они себя и никто их в настоящее время «татарами» не называет.
Оценивая доступные нам сведения о родном языке Чынгыз хана и его татар, необходимо учитывать следующее замечание В. П. Васильева: «не забудем, что все три языка – турецкий (тюркский. – Г.Е.), монгольский (халха-монгольский. – Г.Е.) и маньчжурский – имеют одно общее грамматическое устройство, следовательно, разность произошла в словах (которых однакож очень много общих) (выделено мной. – Г.Е.)» (17, 36).
Л. Н. Гумилев, который также очень хорошо разбирался в указанных языках, приводит для наглядности слова «древних монголов», как он называет этнос древних и средневековых татар: «К именам тех или иных монголов присоединяются своеобразные эпитеты: багадур (батур); сэчэн (сэцэн) – мудрый; мэргэн – меткий, бильге – умный, тегин (тюркск.) – царевич; буюрук (тюркск) – приказывающий… а жены их величаются – хатун и беги» (31, 419).
Как следует из приведенного в предыдущей главе, названием и самоназванием этноса «древних монголов» Чынгыз хана был этноним «татар». Поэтому поинтересуемся наличием приведенных Л. Н. Гумилевым слов в современном татарском языке, и убедимся, что все эти слова в нем имеются, и несмотря на незначительное искажение некоторых слов транскрипцией и вследствие изменения языка со временем, их узнает любой хорошо знающий татарский язык: например, слово «батур» (современное – «батыр») – означает «герой», «богатырь». Сэчэн – современное литературное официальное написание «чичен»[33]33
«Чичен» (у татар-мещеряков и сибиряков часто «цэцэн», у башкир «сэсэн», у казахов «шешен») – «это название присуще только природе тюркского народа. Оно означает человека мудрого, находчивого в словах и в поступках, смелого и энергичного» (13, 237).
[Закрыть]. Мэргэн – эпитет «меткий стрелок» и в современном значении (в русском языке имеется аналогичного значения слово «снайпер»), билге – современное звучание будет «билгеле» – известный, знаменитый, слово «бильге» – тоже есть в татарском языке и означает оно ныне «знак», «отметка», «оценка», «отличие».
И жены у татар и поныне величаются «хатун» (современное литературное написание «хатын») и «беги» (соответственно «бике» или «бичэ»).
Теперь сравним, насколько приведенные Л. Н. Гумилевым слова (кроме слов определенно из тюркского языка, к которым относится и современный татарский язык) соответствуют языку, «который мы ныне называем монгольским».
На халха-монгольском языке жена будет величаться так – гэргий, или эхнэр, или авгай. Умный – ухаантай, или авьяастай, еще варианты: овсгоотой, сэргэлэн.
Далее: герой – баатар, меткий стрелок – мэргэн буудагч, мудрый – сэцэн.
При этом учтем, что приведенные слова – это эпитеты «древнемонгольского» – средневекового татарского языка, и именно такой смысл и значение они сохранили и в современном татарском языке. А в халха-монгольском языке они превратились в прилагательные.
Как видим, наглядное сравнение не в пользу халха-монгольского языка – все слова, приведенные Л. Н. Гумилевым из языка соплеменников Чынгыз хана, сохранились в современном татарском языке, и лишь три слова, смысл и значение которых достаточно изменился, имеются в современном халха-монгольском языке. И при том это слова, которые легко могли быть приобретены из другого языка: «герой», «мудрый», «меткий».
Интересно проследить за ходом мыслей В. П. Васильева в отдельных местах перевода текстов средневековых китайских авторов. В. П. Васильев, подобно многим переводчикам, постоянно «примеряет» «древнемонгольские» слова, встречающиеся в тексте, к современному ему халха-монгольскому языку[34]34
Многие переводчики поступали проще – подбиралось любое «подходящее» слово на современном для переводчика халха-монгольском языке и перевод его вставлялся в текст перевода, а оригинал «непонятного» слова в тексте, в отличие от В. П. Васильева, уже не оставляли (87, 106–107, 163). Особенно в этом преуспел русский ориенталист XIX в. И. Н. Березин, современник В. П. Васильева. Доходило до курьезов – получалось, в текстах его «переводов», что в степях Монголии водились дикобразы и кабаны (?), из коих «монголы варили себе похлебку» (там же, 179).
[Закрыть], так как, как было замечено выше, в его время тоже существовало уже довольно распространенное мнение о том, что татары Чынгыз хана были халха-монголоязычными:
Мэн-хун пишет в своих «Записках о монголо-татарах» (1219 г.): «их посланники (т. е. командируемые куда-нибудь) называются сюань-чай (т. е. отряжаемые для разглашения)» (17, 231). И вот В. П. Васильев пробует подобрать аналогичное слово на современном ему халха-монгольском языке, находит слово «эльчи» – «посланец», то есть посол. Есть также слово на халха – «цзам» – «дорога», В. П. Васильев пробует сравнить сюань-чай с «цзамчи» – не подходит. Ученый замечает – «невозможно, чтобы Монголы не имели своего названия в то время для посланцев» (там же, 231–232).
Рассмотрим ситуацию со словами «сюан-чай» (в значении «посланник», «отряжаемый для разглашения»), и «эльчи» применительно к татарскому языку: посол на татарском языке будет «ильче», от слова «иль» – страна. «Ильче» (посол) – слово официальное, применялось в официальных письмах, и можно предположить, что могли усвоить слово из чужого языка как татары, так и халха – те или другие. Но при этом необходимо учитывать, что слово «ильче» образовано из татарского слова «иль» – «страна», а на халха «страна» будет совершенно по-другому.
Но в современном татарском языке есть и слово «сюнче» – буквально означает «тот, кого направляют, или кто приходит с доброй вестью».
Таким образом, и слово «сюаньчай», означающее посланника, с учетом незначительного изменения, как видим – вследствие транскрипции или за давностью – мы можем найти в современном татарском языке: у татар доныне существуют выражения «сюнче жибэр» («направь человека для оглашения, сообщения»), и еще «сюнче килде», что значит: «пришел человек с доброй (радостной) вестью». Выражения эти применяются в повседневности, и маловероятно, что могут (могли) усвоить это носители другого языка – поэтому в язык халха и не перешло это слово «сюнче», в отличие от слова «эльчи – ильче» (посол), и некоторых других татарских (и общетюркских) слов, имеющихся в их языке и ныне. А у татар это слово – сюнче, как видим, довольно древнее, и сохранилось в языке, также как и язык в целом – татарский.
Вот еще пример того, что слово, похожее на халха-монгольское (В. П. Васильев записал его русскими буквами как «би»), было переведено им именно как халха-монгольское, в качестве местоимения «я», что и означает на языке халха данное слово (би). Посмотрим, какое в результате подобного перевода получилось словосочетание.
Перевод текста Мэн-хуна В. П. Васильевым: «Я сам, при свидании с их регентом, императорским наместником, великим князем Мухури, слышал, как он называл себя всякий раз татарским человеком; да и все их вельможи и главнокомандующие называли себя «я» (би) (выделено мной. – Г.Е.), они вовсе не знали, откуда взялось название Монголов…» (17, 220). Как видим, из текста перевода, если его воспринимать буквально, однозначно следует, что представители правящего слоя у татар Чынгыз хана для обозначения своего социального статуса применяли почему-то местоимение «я» – то есть, представители знати (именно социальная группа) называются у монголо-татар местоимением «я», именно в качестве социального термина. Но, судя по смыслу приведенной фразы Мэн-хуна, правильнее было бы предположение, что слово «би» означало вовсе не местоимение «я» на языке татар Чынгыз хана, а являлось именно социальным термином, присущим «вельможам и главнокомандующим», которым они называли себя и соответственно, так называли их и другие, определяя их статус.
И В. П. Васильев указал в скобках оригинал слова из текста Мэн-хуна (би), очевидно, потому, что вовсе не был уверен в переводе этого слова на русский язык именно в качестве местоимения «я».
И ученый был прав – сохранив это слово в тексте перевода в оригинале, он оставил нам ценный факт – есть подобное слово (би, бий) в татарском языке – историческое слово, хорошо известное в татарских исторических источниках и литературном языке. Переводится как «достойный, знатный и благородный человек», примерно соответствует слову «князь» либо «рыцарь»[35]35
Известны и другие варианты – «бек» (бег) (некоторые авторы считают это слово еще более ранним, от которого произошло слово «бий»), в некоторых регионах слово «бий» сменилось позднее другими словами – заимствованиями из персидского языка с аналогичным смыслом – «эмир», «мурза» (41). «В литературе эти два термина «бег» («бий») и «мирза (мурза)» очень часто применяются как равнозначные, чуть ли не синонимы. Термин этот в разное время применялся с различными смысловыми оттенками – от должностного звания до наследственного титула» (105, 92).
[Закрыть] (42, 14; 105, 92).
Теперь прочитаем текст перевода, оставив слово «би» в тексте – не заменяя его местоимением «я», то есть, не «переводя» это слово на русский язык. Получится связное словосочетание, по смыслу соответствующее всему тексту: «…да и все их вельможи и главнокомандующие называли себя «би»…». Как видим из текста Мэн-хуна, представляясь кому-либо и обозначая свое высокое положение в обществе, называли себя вельможи и главнокомандующие татар Чынгыз хана именно словом «би» («бий»). Чуть ниже увидим, что самого старшего сына Чынгыз хана (первенца) тоже звали Би[36]36
Араб Ибн-Батута, начало XIV в.: «татары называют родившегося своего ребенка по случаю, как и арабы…» (101, 295). И представляется более вероятным, что назвали сына Чынгыз хана словом, обозначающим «должностное звание или титул», а не местоимением «я». Ниже увидим, что одного из сыновей Чынгыз хана назвали словом, означающим в переводе на русский язык «Ратник» или «Воин».
[Закрыть], как и передает это имя Мэн-хун в другом месте этих же своих «Записок о монголо-татарах» (17, 221).
Приведем примечательный факт из одного письменного источника по истории Улуса Джучи, под названием «Шаджарат ал-атрак» («Родословие тюрков»), который был составлен при жизни и правлении чингизида из сибирских татар – хана Шейбани примерно в середине XV в., после занятия им Средней Азии в ходе войны с детьми Хромого Тимура – Тамерлана (33, 253). Данный документ был составлен на основе гораздо более ранних, «справедливых, правильных и достоверных историй» (102, 202–203).
В «Шаджарат ал-атрак» описывается случай, как именно отреагировал Чынгыз хан на неожиданное для него известие о смерти своего сына Джучи, которого он «утвердил на престоле ханства», поручив ему в управление «Хорезм и Дешт-и-Кыпчак от границ Каялыка до отдаленнейших мест… вплоть до тех мест, куда достигнет копыто татарской лошади». При том отмечается, что этого своего сына Джучи Чынгыз хан «любил больше всех остальных своих детей…» (там же, 203–204):
«В момент получения известия о смерти сына Джучи (февраль-март 1227 г.), Чынгыз хан произносит по-тюркски:
Кулун алган куландай кулунумдан айрылдым
Айырылшкан анкудай эр улумдан айрылдым
То есть:
Подобно кулану, лишившемуся своего детеныша,
Я разлучен со своим детенышем
Подобно разлетевшейся в разные стороны стае уток
Я разлучен со своим героем – сыном
Когда от Чингиз хана изошли такие слова, все находившиеся в ставке эмиры и нойоны[37]37
Нойон – должность в государстве монголо-татар, войсковой командир – по положению ниже эмира (бия). В современном татарском языке сохранилось в виде слова-эпитета «наян» – шустрый, смышленый, сообразительный, не унывающий человек.
[Закрыть] встали, выполнили обряд соболезнования и стали причитать» (СМИЗО, т. 2, с. 203–204; «Шажарат ал-атрак, с. 222–224)» (52, 184; также см. 102, 203–204). (Здесь мной приведен перевод с «тюркского» языка на русский язык, изложенный С. Г. Кляшторным, который более точен, в отличие от перевода, данного в сборнике материалов Тизенгаузена В. Г. издания 1941 г.).
Можно сделать вывод, что летописец, зафиксировавший это событие, был объективен и точен относительно того, что потрясенный горем Чынгыз хан выразил свои чувства именно на тюркском языке (точнее, на одном из тюркских языков), и, соответственно, народном ему языке. И после пережитого горя, вызванного потерей уже второго сына[38]38
Как упоминалось, вопреки общепринятому мнению, есть достоверные сведения о том, что Джучи был вторым сыном Чынгыз хана: «У Чингиса весьма много дбтей: старший сын, Би, убит при осаде западной Цзиньской столицы Юнь чжунь… Нынешний старший императорский сын, Ю-чжи (Чу-чи), есть уже второй сын…» (17, 221). Мэн-хун писал свои «Записки…» в 1219 г.
[Закрыть], Чынгыз хан прожил всего шесть месяцев.
Отметим, что основной текст «Шаджарат ал-атрак», сведения из которого приведены выше, составлен на персидском языке, который был одним из языков международного общения средневекового мира наряду со средневековым татарским.[39]39
Татарский язык оставался языком дипломатических отношений России с восточными странами до проведения реформ Петра I по «европеизации» России (например, в отношениях между Россией и Персией вплоть до конца XVII – начала XVIII вв.) (38, 43).
[Закрыть] Видимо, также и автор более ранних записок, на основе которых и был составлен «Шаджарат ал-атрак», был послом или просто носителем другого языка, чем тот, на котором говорили большинство из присутствующих в ставке Верховного хана.
И поэтому также оправдано вполне уточнение автором языка, на котором говорили Чынгыз хан и его приближенные: для более «правильного и достоверного» информирования своих читателей автор подчеркивает, что это был именно тюркский язык и приводит дословно высказывание Чынгыз хана в ответ на известие о гибели сына Джучи. И произнесенные Чынгыз ханом слова, приведенные в оригинале автором «Шаджарат ал-атрак», понятны, полагаю, в достаточной степени даже тому, кто знает современный татарский язык, на соответствующем уровне.
Сведения о том, что у монголо-татар Чынгыз хана был свой, то есть татарский язык, уже приводились. И был этот язык знаком и европейцам, именно как татарский. Более того, язык этот был довольно известен в Европе в средние века – например, некоторые (скорей всего, многие) купцы им владели в совершенстве. В подтверждение приведу сведения Марко Поло[40]40
«Марко Поло – (около 1254–1324 гг.) итальянский путешественник. В 1271–1275 гг. совершил путешествие в Китай, где прожил около 17 лет. В 1292–1295 гг. морем вернулся в Италию. Написанная с его слов «Книга» (1298 г.) – один из первых источников знаний европейцев о странах Центральной, Восточной и Южной Азии» (94, 1043).
Необходимо отметить, что историки всего мира очень высоко оценивают сведения Марко Поло: «Книга Марко Поло» – один из самых важных источников по истории монголов времен династии Юань. Марко Поло, прослуживший в династии Юань в течение 17 лет правления Кубилая, увидел очень многое. Его книга переведена на халха-монгольский, русский, английский, китайский, японский, французский, немецкий и другие языки. …Марко Поло за время длительного пребывания на службе династии Юань часто разъезжал на почтовых по различным районам империи, наблюдал образ жизни монголов, научился языку и накопил немало сведений» (111, 32).
[Закрыть], который описывает встречу его отца и дяди с Верховным ханом Державы Монголов Кубилаем (вторая половина XIII в.):
«ГЛАВА VII. Как великий хан спрашивает братьев о делах христиан.
Спрашивал он их еще об апостоле, о всех делах Римской Церкви и об обычаях латинян. Говорили ему Николай и Матвей обо всем правду, по порядку и умно; люди они были разумные и по-татарски знали» (81) (выделено мной. – Г.Е.).
Также и в записках венгерского монаха Юлиана имеются сведения о том, что язык татарский стал известным не только в Восточной, но и в Западной Европе задолго до поездки купцов Николая и Матвея к хану Кубилаю.
В приведенных ниже цитатах из записок Юлиана описываются путешествия монахов в Волго-Уральский регион в их отчете своему руководству – это тридцатые годы XIII в.
Во-первых, для полноты и ясности вначале необходимо привести следующие сведения Юлиана:
«Сообщалось мне некоторыми, что татары прежде населяли страну, населяемую ныне куманами»[41]41
Куманы: другие варианты названия «половцы» в русских и «кыпчаки» в восточных источниках, собирательное наименование различных тюркоязычных племен, обитавших в степях и лесостепных зонах от Алтая до Черного моря. Кумания в Европейских источниках – степи и лесостепи примерно от Яика (р. Урал) до Северного Причерноморья, восточнее и южнее Русских земель.
[Закрыть] (2, 83). То есть, мы можем смело предположить, что язык татар многие куманы должны были знать, соответственно, как и самих татар. Как увидим из следующей цитаты, данное предположение верное:
«Письмо же (татарского хана. – Г.Е.) написано языческими буквами на татарском языке. Поэтому король нашел многих, кто мог бы прочитать его, но понимающих не нашел никого. Мы же, проезжая через Куманию, нашли некоего язычника, который нам его перевел» (там же, 88).
Во-вторых, мы узнаем, что также и среди татар имелись люди, знавшие языки своих европейских и азиатских соседей – близких и дальних:
«В стране венгров[42]42
Территория современной Башкирии, Урал и Предуралье. Так же и «Великая Венгрия, откуда происходят наши венгры» (2, 85) т. е. венгры, проживавшие при Юлиане и проживающие и ныне на территории современной Венгрии.
[Закрыть] сказанный брат нашел татар и посла татарского вождя, который знал венгерский, куманский, тевтонский, сарацинский и татарский (языки) и сказал, что татарское войско, находившееся тогда там же по соседству, в пяти дневках оттуда, хочет идти против Алемании (Германия. – Г.Е.) (там же, 81). Мы видим, что Юлиан указывает татарский язык как отдельный от куманского, но из этого вовсе не следует, что татарским называли халха-монгольский язык, как утверждают современные официальные историки. Татарский язык, будучи тюркским, все же мог довольно отличаться от языков куманских (кыпчакских или половецких) племен. Например, так же, как современный татарский язык отличается от других тюркских языков – узбекского, азербайджанского, турецкого, якутского. И «письмо, написанное на татарском языке» – современном литературном – представители этих наций тоже, вероятно, смогли бы прочитать, но понимающие среди них вряд ли бы нашлись.
И, в-третьих, уральские венгры не могли не знать татарский язык, и вот почему: «татарский народ живет по соседству с ними. Но те же татары, столкнувшись с ними, не смогли победить их и избрали их себе в друзья и союзники. И таким образом, соединившись вместе, они совершеннейшим образом опустошили 15 царств» (2, 81) – то есть, татары с венграми Урало-Волжского региона. И следует полагать, «совершеннейшим образом опустошили 15 царств» они за довольно продолжительный срок, и соответственно, венгры имели достаточно времени изучить и усвоить татарский язык своих соратников.
Также интерес представляют следующие сведения Юлиана: «хан татарский Гургута» в начале «первой татарской войны», «подступив к стране куманов, одолел их и подчинил себе их страну. Оттуда они воротились в Великую Венгрию, откуда происходят наши венгры» (2, 85) (выделено мной. – Г.Е.).
Как видим, сведения из донесения Юлиана опровергают утверждение о том, что татары «прибыли неведомо откуда» в Восточную Европу только в двадцатые-тридцатые годы XIII в., и до этого времени совершенно не были известны европейцам, в том числе и восточным, как гласит официальная история, излагающая версию о «халха-монгольском нашествии». И ниже будут приведены факты, подтверждающие высказанное здесь предположение, и опровергающее общепринятое среди официальных историков мнение.
Приведем также мнение Ахметзаки Валиди Тугана о том, какой, и, главное, чей язык в Восточной Европе в средние века называли татарским:
«Основу могущества монгольских ханов составляли господствующие (в стране) племена, общее название которых было «Карачы»[43]43
В татарском народе была субэтническая группа в народе – «карачы» (карачын), «карача», «карачу» («караца» – у северных мишар и у многих сибиряков), некоторые и сейчас помнят свою принадлежность к ней.
В. П. Васильев также, несомненно, знал об этом и обоснованно полагал, что Чынгыз хан и большинство его соратников происходили именно из этой субэтнической группы татар – «черных Татар», «харачин» (17, 135, 217).
«Составлявшие сообщество «Карачы» тумены и их комсостав известны также наряду с этим (названием) под сословным определением «ясачный», то есть, у монголов это слово означало «полноправное, правящее». И в Чагатайском улусе, и в улусе Джучи они считались состоящими на регулярной войсковой службе. Из них – Уфимские татары, которые испокон веков всем семейством несли войсковую службу» (13, 35–36).
В. В. Бартольд: «один из военных отрядов монгол в период завоевания был переселен в Малую Азию, их потомки назывались черными татарами (кара татар)». Аксак-Тимур в XIV в. переселил их после завоевания Малой Азии на остров озера Иссык-куль и в Хорезм, оттуда они бежали в Золотую Орду. И не в Монголию – странно, если сопоставить с мнением официальных историков о происхождении Монголов и их названия.
Некоторые высказывают мнение, в принципе не противоречащее изложенному, что слово «карачи» – «является термином-титулом» (105, 41–42). Поскольку «Карачы» – это было также и название представителей от народа – именно в начальный период Державы Монголов они выбирались изданного субэтноса татар – скорее всего, «из улуса, в котором родился Чынгыз хан и единоплеменных с ним поколений» (17, 169). И А. З. Валиди, несомненно, прав в том, что «карачу» – это сообщество (субэтнос) в этногруппе средневековых татар.
[Закрыть] – (это) Кунграт, Найман, Когисо, Уйгур, Салжавут, Кыпчак, Мангыт, Мен… Они формировали отдельные «тумены». Позже племена Кунграт и Уйгур ушли с перебиравшимися на Сырдарью, затем на Мавреннахр ханами Узбековичами (потомками хана Узбека). Выражаясь точнее, из них ни одно (племя) не осталось в стране башкир. Языком этих племен, также как и оставшихся в Башкирии, был известнейший говор Кыпчака[44]44
То же самое, что и «страна Кумания», но дополнительно включала в себя степи и лесостепи от Волги на восток до Иртыша. Полное название «Дашт-и-Кыпчак», что на персидском значит «Кыпчакская степь», примерно с X–XI вв. известно именно как географическое название, под которым «подразумевались степи от Иртыша до Дуная», часто применялось это географическое название именно в сокращенном варианте – «Кыпчак» (3, 194–199).
[Закрыть], называемый «татарским», и, будучи названными «Уфимскими татарами» («став Уфимскими татарами»), эти племена сохранили наименование «тумен». Множество (народа) из племен, оставшихся в Башкирии – под названием Катай, Салжавут, Табын, Барын, Мен, Меркит, Дурман, Кыпчак, Сурат и Нугай – они стали башкирскими племенами и приняли башкирский говор. Они в настоящее время считаются существенной составляющей башкирского народа (то есть «савыры, эшрэфе»)» (13, 34–35) (выделено мной. – Г.Е.).
«С третьей четверти XIV в. управление в Туре и башкирских областях переходит к туменским биям, они происходят, кроме биев башкирских племен, из биев туменов, организованных монгольскими племенами, прибывшими с монгольскими ханами… Самыми сильными (влиятельными) были ту мены племени мангыт (там же, 25).
Выше приводились сведения, кого татары Чынгыз хана называли словом «би», «бий».
А «название «монгол» было чисто официальным», то есть для делового использования (17, 137) – что мы и наблюдаем также в государственных документах Державы Монголов, относящихся к рассматриваемому периоду, включая документы как ханской, так и уровнем ниже канцелярий. Также видим это в фактическом отсутствии государственных документов тех времен на каком-то особенном «монгольском» языке – все документы «монголо-татары» писали почему-то на тюркском[45]45
Здесь и далее слово – «тюркский» имеет лингвистическое значение и имеет в виду определенную близость языков и психологического склада, формировавшихся веками в сообществе тюркских племен и народов Великой Степи (36, 444–459).
[Закрыть], точнее, на одном из тюркских языков – старотатарском языке (64, 223; 65, 94–97; 105, 23; 106, 94–95).
Следует пояснить еще вот что: западные историки вслед за «мусульманскими» историками, не умеющими читать уйгурское письмо, называли «написанными по-монгольски» документы, которые были составлены уйгурским письмом на тюркском, точнее, на старотатарском языке.
Эти документы и называли «написанными по-монгольски», точнее – «написанные монгольским письмом», восточно-мусульманские историки, и это их выражение было постепенно превращено в западной историографии в ложное определение-аксиому: «написанные на монгольском языке» (106, 94–95).
Известны случаи, что писали монголо-татары свои документы также и на каком-либо из «международных» для того времени языков, но с «заглавием на тюркском» и «со словами и выражениями в письме» исключительно на «тюркском языке» – как мы видели выше. То же можно увидеть на примере письма верховного хана Монгольской Державы Гуюка Папе Римскому, которое датировано 1246 годом (8, 158–1549). Составитель данного письма, следовательно, был носителем одного из тюркских языков, вернее, этот язык был родным для написавшего письмо человека, либо наиболее употребительным в повседневности.
Приведу выдержку из записок Плано Карпини, посла Папы Римского, при котором было составлено упомянутое письмо. В этих записках содержится достаточно сведений о языках, которые были у монголо-татар средством повседневного и делового общения:
«Толмачом же нашим был как этот раз, так и другой Темер, воин Ярослава (Великого князя Руси. – Г.Е.) в присутствии клирика, бывшего с ним, а также другого клирика, бывшего с императором. И он спросил нас, есть ли у Господина Папы лица, понимавшие грамоту Русских или Сарацинов (письменность на основе арабского алфавита. – Г.Е.), или также Татар[46]46
И «письма у татар не было» не при начале жизни и деятельности Чынгыз хана, как нас уверяет официальная историография, а, скорее всего, задолго до установления Монгольской империи, «при начале возвышения татар, у них вовсе не было письмен» – пишет Мэн-хун, но конкретное время не указывает. Он лишь фиксирует, что задолго до него татары уже употребляли уйгурское письмо и «поныне еще употребляют» (17, 219). А «начало возвышения татар», скорее всего, относится к более раннему периоду, к VIII–IX вв., как мы видели выше и еще будут приведены об этом ниже более подробные и обстоятельные сведения.
[Закрыть] (уйгурское письмо. – Г.Е.). Мы ответили, что не знаем ни русской, ни татарской, ни сарацинской грамоты, но Сарацины все же есть в стране, хотя и живут далеко от Господина Папы. Все же мы высказали то, что нам казалось полезным, а именно, чтобы они написали по-татарски и перевели нам, а мы напишем это тщательно на своем языке и отвезем как грамоту, так и перевод Господину Папе. И тогда они удалились от нас к императору.
(Глава X). В день же блаженного Мартина нас позвали вторично, и к нам пришли Кадак, Хингай, Бала[47]47
Приведу переводы имен перечисленных лиц – аналогичных слов в современном татарском языке: Темер (Тимер) – «железный, стальной», Кадак – «гвоздь», Бала – «ребенок, малец, малой». Смысл слова «Хингай», уверен, также можно установить человеку, обладающему более глубокими знаниями в лингвистике старотатарского языка (в любом случае, окончание данного имени говорит о том, что данное имя старотатарское, ср.: Юзекей (Езукэй, «Есугей»), Кутай, Камай, Еникей, Тукай, Уктей (ср.: «Угедей») и т. п.).
[Закрыть] и многие вышеупомянутые писцы и истолковали нам грамоту от слова до слова. А когда мы написали ее по-латыни, они заставляли переводить себе отдельными речениями (orationes), желая знать, не ошибаемся ли мы в каком-нибудь слове. Когда же обе грамоты были написаны, они заставили нас читать раз и два, чтобы у нас случайно не было чего-нибудь меньше, и сказали нам: «Смотрите, чтобы все хорошенько понять, так как нет пользы от того, что вы не поймете всего, если должны поехать в такие отдаленные области». И когда мы ответили: «Понимаем все хорошо», они переписали грамоту по-сарацински, чтобы можно было найти кого-нибудь в тех странах, кто прочитал бы ее, если пожелает Господин Папа» (68, Глава последняя, § II., IX).
Заметим, что в приведенной выдержке у Карпини спрашивают именно о том, есть ли у Папы понимающие русскую, либо сарацинскую либо татарскую письменность, а не о том, есть ли у Папы люди, владеющие перечисленными языками – скорее всего, владеющие перечисленными языками к тому времени имелись и в Западной Европе, что подтверждается приведенными выше сведениями Марко Поло – его дядя и отец, итальянские купцы, знали татарский язык очень хорошо.
Стоит отметить здесь, хотя во второй части данной работы мы еще вернемся к теме пребывания Плано Карпини во Дворе Верховного хана Монголов, в Центре Державы, к его запискам о Монголах и узнаем кое-что еще, весьма интересное из его отчетов, не приводимое в трудах официальных историков-европоцентристов, рассчитанных для широкого круга читателей.
Здесь уместно напомнить, что автор XI в. Махмуд Кашгари[48]48
Махмуд Кашгари – ученый-филолог и географ, высокопоставленный чиновник государства Караханидов, составитель первого известного труда по изучению тюркских языков (наречий) «Диване лугатет тюрк» (53, 119; 63, 7). Государство уйгуров-караханидов занимало в XI в. обширные пространства в Западном и Восточном Туркестане, Семиречье, Южном Тянь-Шане. Жители этой страны – тюрки-уйгуры, ныне там Уйгурский автономный район КНР.
[Закрыть] также определяет современных ему татар именно как тюркское племя и говорящих на одном из тюркских наречий, то есть, вовсе не как «монголоязычных». То есть, данный автор относит к тюркскому языку и язык (наречие) татар, отмечая, что у них также имеется и особенный диалект (53, 119).
Применительно к рассматриваемому вопросу о языке древних татар приведу сведения В. В. Бартольда: «В анонимном Худуд ал-алам (см. Туманский, Новооткрытый персидский географ, стр. 121 и сл.) татары названы частью тугузугузов, а у Гардизи – частью кимаков, обитавших на Иртыше» (8, 559).
Тугузугузы – это уйгуры, тюркоязычный народ (32, 550), соотечественники М. Кашгари, который и язык кимаков, частью которых раннесредневековые персы считали татар, также отнес к тюркским языкам.
Заметим здесь, что «близость культуры и языка» татар Чынгыз хана с уйгурами отразилась также «в сохранившихся документах Улуса Джучи, включая XIV–XVI вв.» (106, 97). И не только в документах, но и в самом литературном и деловом языке, складывавшемся, например, в Улусе Джучи, отмечают именно караханидско-уйгурское, и именно «домонгольское» влияние: «Как утверждают тюркологи, специально занимавшиеся вопросами средневековых литературных языков, в Джучиевом Улусе почти с самого начала оформился относительно самостоятельный тюркский литературный язык. Базой для нового письменного языка послужили, с одной стороны, более ранние литературные традиции, в лице уйгурско-караханидской, с другой, местные диалекты, то есть, кыпчакские и огузские наречия» (там же, 101). «…Как показал анализ лингво-графической ситуации в Джучиевом Улусе, делопроизводственная культура Джучидов образовалась под непосредственным влиянием и участием представителей домонгольской уйгурской письменной традиции» (там же, 259).
То есть язык у средневековых татар Чынгыз хана был именно одним из тюркских и мало чем отличался от уйгуро-караханидского, так как следов влияния языка «татар Чынгыз хана», как предполагают сторонники общепризнанного мнения – «древнего халха – монгольского» языка, как видим из вышеприведенного, тюркологами не обнаружено.
Известно, что документы, и другие исторические источники времен Улуса Джучи остались в основном только на старотатарском и еще на русском языках. Составлялись еще документы, как мы видели выше, на персидском языке – в силу распространенности данного языка в международном общении, как языка особо высокой культуры своего времени.
Следы халха-монгольского языка в Улусе Джучи (как и по всей территории, подвластной Державе Монголов)[49]49
Имеется еще текст на камне, обнаруженном в лесах под Нерчинском (Бурятия) в XIX в. Надпись выполнена уйгурскими буквами, и, как полагают официальные историки, на «старом халха-монгольском языке». Но однозначного перевода данного текста так и не смогли сделать – разные «переводчики» толкуют этот текст по-разному – то есть, если выразиться точнее, текст этот до сих пор не переведен.
[Закрыть] отразились лишь в одном источнике XIV в. – нашли берестяную «тетрадку» в две странички, на которой были записи «по-тюркски» с их переводом на старый халха-монгольский язык (104, 18). Похоже, что воин или погонщик каравана учили «государственный язык», то есть «тюркский» (старотатарский) – так как государственные документы и деловая переписка велись в Монгольской империи, с момента ее основания, на отличной бумаге, очень дорогой по тем временам и недоступной простолюдину (105, 15; 106, 86–87).
Также необходимо упомянуть здесь вот о чем – сохранился язык у группы предков халха-монголов вдали от их Родины, служивших, как и представители многих народов[50]50
На службу в другие регионы Державы монголы-воины (военнослужащие любого ранга и любой этнической принадлежности) направлялись только вместе с семьями (24, 124; 87, 30) – как, например, военнослужащие сверхсрочной службы Вооруженных Сил в бывшем СССР. И каждое воинское формирование комплектовалось из представителей соответственно отдельных племен или народов и были эти формирования этнически однородными.
Издревле «в тюркских племенах деление на роды существовало параллельно с делением на военные единицы (десятка, сотня, тысяча, тумен – десять тысяч, правая и левая рука – фланг) и только в зависимости от нее. Эта мысль была принята и в новейших публикациях, посвященным исследованиям общественных отношений тюркских народов» (6, 203).
Монголо-татарские войсковые соединения из «завоеванных народов» также формировались по этническому принципу (24). Поэтому «смешиваться с тюрками» или пуштунами или таджиками или другими народами монгольским воинам – любой этнической принадлежности, никакой особой необходимости не было. И все они имели возможность сохранить свой язык, не ассимилируясь среди «завоеванных ими народов» – что мы и видим на наглядном примере с хэзарейцами.
[Закрыть], в Монголо-татарской армии и направленных из Монголии в распоряжение ханов-чингизидов Хулагуидов (Иран) в составе отдельной тысячи: «Для занятия ключевой позиции между Балхом и Гератом (современная афгано-иранская граница) было поселено 1000 воинов, потомки которых до сих пор носят название «хэзарейцы» – от персидского слова «хэзар», что значит тысяча (34, 304–305).
Потомки этой тысячи сохранили, до наших дней проживая в Афганистане, свой язык – язык халха, правда, несколько измененный ввиду продолжительного раздельного проживания от своих соплеменников (8, 211), но не ассимилировались среди пуштунов, таджиков, тюрок-узбеков, которые являются основными нациями Афганистана, среди которых жила означенная группа халха-монголов более восьмисот лет.
Сопоставим с приведенным фактом точку зрения официальных историков, изложенную также Л. Н. Гумилевым в своих работах, о том, что было всего «4000 халха-монголов в войсках Бату хана в Улусе Джучи (34, 304)». При этом утверждается, что в Улусе Джучи, в отличие от приведенного случая с группой халха в Иране (ныне территория Афганистана), эти «представители халха-монголов», равно как и ханы-чингизиды и другие монголо-татары в Иране, «отюречились за десяток-другой лет, не успев оставить документов на своем языке» – кроме берестяной «тетрадки», упомянутой выше.
Приведем снова сведения Марко Поло:
«ГЛАВА XVI. Как великий хан посылает Марко своим послом.
Марко, сын Николая, как-то очень скоро присмотрелся к татарским обычаям и научился их языку и письменам. Скажу вам по истинной правде, научился он их языку, и четырем азбукам и письму в очень короткое время, вскоре по приходе ко двору великого хана. Был он умен и сметлив. За все хорошее в нем да за способность великий хан был к нему милостив» (81).
Комментатор предполагает, что это были китайские (для общения с китайцами, подданными Монгольской державы), арабские и уйгурские и четвертыми могли быть тибетские письмена (там же).
То есть это как раз те виды письменности, которыми и составлены в основном дошедшие до нас средневековые документы, и многие именно на старотатарском языке, (105; 106) и надписи на монетах Монгольской Державы (43, 33; 104, 28–31; 108, 6).
Также известно, что составлялись документы и чеканились монеты еще и на русском языке, или двуязычные – на русском и татарском языках – на Руси и в Улусе Джучи – Золотой Орде (43, 33; 104, 28–31; 108, 6).
И вся деловая переписка в Монгольском государстве велась, если судить по дошедшим до нас многочисленным письменным источникам, на тюркском, точнее, на одном из тюркских – на старотатарском языке. И документы составлялись либо уйгурским, либо арабским письмом (105, 7–9; 97, 95)[51]51
Выше отмечалось, что академик М. А. Усманов приводит в своей работе наглядный пример, как появляются в историографии сведения о «письмах, написанных на монгольском языке», в переводах арабских источников (например, 101, 362) – на самом деле арабы писали – «…написанное монгольским письмом…» (106, 95). То есть писали Монголы уйгурским письмом (буквами), и на старотатарском языке (там же, 111–114).
[Закрыть]. Известен случай, что в XV в. написали монголо-татары однажды арабам письмо, используя уйгурский алфавит, но так и не нашлось кого-либо, владеющего уйгурской грамотой в достаточной степени, чтобы прочитать это письмо (101, 534).
Единство Монгольской державы сохранялось вплоть до второй половины XIV в., до самого падения в Китае династии Юань (18, 68).
С момента возникновения государства монголов в деловом обороте, в том числе и в денежном, не применялся халха-монгольский язык, об этом говорят многочисленные монеты, дошедшие до нас.
Все надписи на монетах Монголов выполнены на, как выражаются официальные историки, «тюркском» языке – хотя, как такового конкретно «тюркского» языка не имелось и не имеется ныне, это именно общее название для схожих языков. Так что выполнены все надписи на монетах, о которых идет речь – именно на одном из тюркских языков средневековья – на старотатарском.
Есть надписи на монетах Монгольской державы также и на арабском (религиозные изречения), китайском, персидском, русском языках – в зависимости от местности, где чеканились монеты и где они в основном и были предназначены для применения.
Монеты эти чеканились с именами Верховных ханов державы Монголов, выполненными в основном уйгурским шрифтом, и с тамгой (гербовым знаком) верховного хана, соответственно находившегося на престоле в период чеканки монеты (75; 92).
Например, на монетах XIII в. выбивалась надпись уйгурским письмом «Кутлуг болсун yanga пул», что на старотатарском языке означает – «Пусть будет удачлива новая деньга» (104, 29; 92). Такая же надпись встречается и написанная арабским письмом. Буквы «К» или «Г» в конце слова были присущи старому татарскому языку, ныне во многих словах отпали. Например, современное слово «кутлу» произносилось и писалось как «кутлуг» – что значит «здравствующий», «процветающий», «удачливый». Эта надпись, выполненная уйгурским письмом, помещена на серебряных и медных монетах одного вида (104, 28–31; 75; 92).
На многих монетах «эпохи монголов» имеются надписи и символы, происхождение которых имеет самую широкую географию – от Китая и Восточного Туркестана до Ирана, включая и Поволжье (104, 28–33; 75). По тематике символы и надписи также охватывают всю территорию державы монголов – встречаются и буддийские, и мусульманские, и христианские.