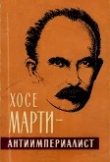Текст книги "Сборник рассказов"
Автор книги: Габриэль Гарсиа Маркес
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
– Черт побери! – проговорил он. – Только господь бог мог додуматься до такой дьявольской красоты!
Той же ночью Нельсон Фарино как мог нарядил свою дочь и отправил ее к сенатору. Охранники с карабинами, клевавшие носами от жары, усадили ее дожидаться на единственный стул в приемной сенаторского дома.
Сенатор находился в соседней комнате, в обществе отцов Виррейского Розария, которых созвал, чтобы высказаться без обиняков, чего не мог позволить себе на выступлении перед толпой. Отцы Виррейского Розария были в точности такими же, как отцы всех прочих деревень пустыни, сенатор смотрел на них с отвращением и заученно произносил слова, которые ему приходилось повторять на подобных собраниях каждый раз. Рубашку его насквозь пропитал пот, и он пытался сушить ее прямо на теле горячей струёй от электрического вентилятора.
– Нас с вами не осчастливишь видом бумажных птичек, – говорил он. Вы, так же как и я, прекрасно понимаете, что день, когда в этом зловонном козлятнике появятся цветы и деревья, а в водоемах вместо козявок начнут плавать золотые рыбки, станет последним нашим днем здесь. Не так ли?
Ему никто не возражал. Произнося слова, сенатор выдернул из календаря картинку и сложил ее в виде большой бумажной бабочки. Он бездумно пустил бабочку в струю бегущего воздуха, и та, покружившись по комнате, вылетела в приотворенную дверь. Сенатор говорил властно и с раздражением, каждую минуту ощущая живущую внутри смерть.
– А раз так, – продолжал он, – нет необходимости повторять вам очевидную истину: мое переизбрание выгоднее вам, чем мне самому, потому что я готов еще терпеть протухшую воду в колодцах и пот индейцев, а в придачу и всех вас.
Лаура Фарино увидела бумажную бабочку, вылетевшую из дверей. Она оглянулась вокруг – охранники спали, обхватив руками оружие. Описав несколько кругов, картинка развернулась и, распластавшись, прилипла к стене. Лаура попыталась отковырнуть ее ногтем, но охранник, потревоженный раздавшимися в соседней комнате аплодисментами, остановил ее.
– Не оторвешь, – сказал он сквозь сон. – Она нарисована на стене.
Лаура села на свое место, и как раз в это время все собравшиеся стали расходиться. Сенатор провожал гостей с порога своей комнаты, положив руку на дверной запор, и, когда передняя опустела, заметил Лауру Фарино.
– А ты зачем здесь?
– C'est de la part de mon pйre (Я насчет своего отца), – робко проговорила она.
Сенатор понял. Он с сомнением оглядел дремлющую охрану, а затем испытующе – Лауру Фарино, чья неправдоподобная красота, казалось, была более могущественной, чем притаившаяся в нем боль. И понял, что близкая смерть готова списать любой его грех.
– Входи, – сказал он.
В дверях комнаты Лаура застыла, очарованная: тысячи банковских билетов плавали в воздухе, порхая, как мотыльки. Сенатор выключил вентилятор, и банкноты, лишившись поддержки потока, опустились на пол.
– Вот видишь, – улыбнулся он. – Даже дерьмо может летать.
Лаура, как школьница, опустилась на табурет. У нее была упругая гладкая кожа, того густого солнечного цвета, какой имеет сырая нефть, волосы, напоминающие гриву молодой кобылицы, и огромные глаза, свечение которых было более загадочным, чем свет луны. Сенатор проследил за ее взглядом и увидел цветок, уже заметно пожухший от содержащейся в воде селитры.
– Это роза, – сказал он.
– Да, – отозвалась Лаура, и лицо ее стало растерянным. – Я видела такие в Риоаче.
Говоря о розах, сенатор опустился на походную кровать и принялся расстегивать пуговицы рубашки. Пиратская татуировка – пронзенное стрелой сердце – обнажилась слева на груди. Он бросил промокшую рубашку на пол и попросил Лауру помочь ему с ботинками.
Лаура опустилась на колени перед кроватью. Пока она возилась со шнурками, сенатор разглядывал ее с пристальной задумчивостью, размышляя о том, кому из них двоих эта встреча принесет несчастье.
– Ты еще ребенок, – сказал он.
– Вовсе нет, – возразила она. – В апреле мне исполнится девятнадцать. Сенатор пошевелился.
– Какого числа?
– Одиннадцатого, – сказала она. Сенатор почувствовал себя свободнее.
– Мы оба Овны, – сказал он и добавил, улыбаясь: – Это знак одиночества.
Лаура не отреагировала на его слова, потому что никак не могла решить, что следует делать с ботинками. В свою очередь, и сенатор находился в нерешительности, потому что, как это ни странно, не имел опыта в случайно возникающих связях и смутно сознавал, что эта его любовь замешана на чьих-то гнусных намерениях. Чтобы выиграть время и еще раз обо всем подумать, он сжал Лауру коленями, обнял ее за талию и откинулся на спинку кровати. Тут он понял: она совершенно голая под платьем, уловил неясный запах горного животного, испускаемый ее телом, и почувствовал трепещущее от испуга сердце и выступивший на ее коже прохладный пот.
– Нас никто не любит, – вздрогнув, сказал он. Лаура хотела что-то ответить, но воздуха ей хватило только на пугливый вздох. Сенатор потянул ее к себе и уложил рядом. Погасил свет, и в наступившей темноте тревожнее запахло розой. Отдавая себя на его милость, Лаура покорно закрыла глаза. Сенатор начал осторожно, едва касаясь, ласкать ее, постепенно распаляясь и скользя рукой все дальше и дальше, но там, где он ожидал найти то, что искал, рука его внезапно наткнулась на препятствие из железа.
– Что это у тебя?
– Замок, – испуганно прошептала Лаура.
– Какая глупость! – воскликнул сенатор, раздосадованный, и устало спросил о том, о чем уже и сам смутно догадался: – А где ключ?
Лаура почувствовала, что самое трудное осталось позади.
– Ключ у моего отца. Он сказал, что сразу передаст его вам, если только вы за ним кого-нибудь пришлете, и еще пришлете письменное обещание, что устроите его дело.
Сенатора передернуло.
– Французская сволочь! – прошептал он и прикрыл глаза, чтобы на минуту остаться одному и взять себя в руки.
"ПОМНИ, – всплыла в его голове цитата, – БУДЬ ЭТО ТЫ ИЛИ КТО ДРУГОЙ, КАЖДОГО ОЖИДАЕТ СМЕРТЬ, И ДАЖЕ ИМЕНИ ВАШЕГО СКОРО НЕ ОСТАНЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ".
Сенатор дождался, пока уймется дрожь в пальцах.
– Скажи мне вот что, – попросил он. – Что говорят обо мне люди?
– Правду?
– Правду.
– Ладно, – Лаура осмелела. – Люди говорят, что вы хуже других, потому что вы не такой, как все.
Сенатор не удивился. Он долго молчал, смежив веки, а когда разлепил их, у него был вид человека, долго блуждавшего в глубинах подсознания.
– Какого черта, – сказал он. – Передай своему скотине отцу, что я улажу его дело.
– Я могу сама сходить за ключом, если хотите, – предложила Лаура.
Сенатор остановил ее.
– Бог с ним, с ключом, – сказал он. – Полежи немного со мной. Так хочется, чтобы кто-то был рядом, когда ты одинок.
И она устроила его голову у себя на плече и замерла, глядя на благоухающую розу. Сенатор обхватил ее за талию, зарылся лицом в ее подмышку, в запах горного животного, и отдался наконец страху. Через шесть месяцев и одиннадцать дней ему предстояло умереть, в такой же точно позе, но опозоренному и отвергнутому всеми после скандала, разразившегося из-за Лауры Фарино, умереть одинокому и плачущему от ярости потому, что он умирал вдали от нее.
Грустный рассказик
Он так скучал, так маялся воскресными вечерами, что наконец решил познакомиться с какой-нибудь девушкой. Пришел в газету и отдал в отдел объявлений такой текст: «Молодой человек 23 лет, 1,72, желает встречаться с девушкой своего возраста. Единственный недостаток: не знаю, что делать по воскресеньям».
Ждал три дня. В один из этих дней, именно в воскресенье, три часа подряд стоял на углу улицы, тупо глядя на прохожих, и был, в сущности, на грани самоубийства. Однако во вторник получил письмо. От девушки, которая писала, что у нее мягкий душевный характер, что она считает себя идеальной для такого человека, как он, поскольку и ей ужасно тоскливо воскресными вечерами. Он сразу решил, что эта девушка подходит ему как нельзя лучше.
И тотчас ответил ей. Она тоже написала ему, вложив в конверт свою фотографию. В пятницу, когда приближалось злосчастное воскресенье, которого он уже стал бояться, как грозного призрака, они условились встретиться в кафе именно в это воскресенье. Он явился на первое свидание ровно в час старательно причесанный, в лучшем своем костюме и с журналом в руках, который купил еще в субботу. Она уже ждала его, заметно волнуясь, за дальним столиком. Он узнал ее по фотографии и по тому, с каким жадным вниманием она смотрела на входную дверь.
– Ола! – сказал.
Она улыбнулась. Протянула руку и сказала протяжно: "Ну во-от..." пока он усаживался рядом. Он попросил лимонаду. Она сказала, что хочет доесть мороженое. Когда официант отошел от столика, он спросил: "Ты здесь давно?" Она сказала: "Не очень... минут пять, не больше". Он улыбнулся чуть виновато в тот самый момент, когда официант принес бутылку лимонада. И стал разглядывать девушку, не спеша потягивая лимонад. Она снова улыбнулась и тихо хихикнула: "Хи-хи-хи". Ему показалось, что у нее странная манера смеяться. "Я вот принес тебе журнал", – сказал задумчиво. Она взяла его и принялась листать. Все листала и листала, хотя он уже покончил с яичницей в этом провальном, похоже, затвердевшем молчании, которое удалось нарушить лишь тогда, когда он взглянул на стенные часы и удивленно сказал: "Ух ты! Уже два часа!!" И добавил: "Ну, пошли?" На что она согласно кивнула.
На улице, после того как они довольно долго шли в полном молчании, спросила: "А ты всегда скучаешь по воскресеньям?" Он сказал: "Да-да..." А она на это: "Надо же, какое совпадение! Я – тоже". Он улыбнулся. А потом сказал: "Да ладно, сегодня хоть погода хорошая". Она снова странно засмеялась: "Хи-хи-хи" – и под конец сказала: "Скоро уже декабрь".
В половине четвертого они, сказав друг другу за все это время не более двадцати слов, очутились возле кинотеатра. "Зайдем?" – предложил он. И она: "Дава-ай". Вошли в зал. Она стояла молча, пока он брал билеты, а потом спросила: "Тебе нравится сидеть в последнем ряду?" Он сказал, что да. Но фильм был скучный, и он, уткнувшись коленями в кресло переднего ряда, уснул. А она крепилась минут десять-пятнадцать, но потом, зевнув раз десять, устроилась в кресле поудобнее и тоже задремала.
День после субботы
Привычное течение жизни нарушилось в июле, когда сеньора Ребека, печальная вдова, жившая в огромном доме с двумя галереями и девятью спальнями, обнаружила, что проволочные сетки на окнах погнуты так, словно в них швыряли камнями с улицы. Сначала она увидела погнутые сетки на окнах в спальне и подумала, что об этом надо будет потолковать с Архенидой, служанкой, которая с тех пор, как умер ее муж, стала ее доверенным лицом. Потом, перебирая старые вещи (сеньора Ребека давно уже ничем другим не занималась), увидела, что оконные проволочные сетки повреждены не только в спальне, но и во всем доме. Вдова обладала традиционным чувством собственной значительности, быть может, унаследованным ею от прадеда с отцовской стороны, креола, который во время войны за независимость сражался на стороне роялистов, а затем совершил весьма нелегкое путешествие в Испанию с единственной целью посетить дворец Сан-Ильдефонсо, построенный Карлом III. Одним словом, когда сеньора Ребека обнаружила, в каком состоянии находятся проволочные сетки на окнах всех комнат ее дома, она уже и не подумала толковать об этом с Архенидой; она надела соломенную шляпу с бархатными цветочками и отправилась в муниципалитет с тем, чтобы заявить о нападении на ее дом. Но, подойдя к дому власти, увидела, что сам алькальд, без рубашки, волосатый, крепкого сложения (это казалось ей проявлением животного начала), занят починкой проволочных сеток муниципалитета, поврежденных так же как и ее собственные.
Сеньора Ребека направилась в грязное помещение, где все было перевернуто вверх дном, и первое, что бросилось ей в глаза, – это множество мертвых птиц, лежавших на письменном столе. И она совсем ошалела – отчасти от жары, отчасти от возмущения, которое вызвали у нее поврежденные проволочные сетки. Она даже не испугалась, хотя мертвые птицы, лежащие на письменном столе, – зрелище, которое не каждый день увидишь. Ее не шокировало даже явное унижение представителя власти, забравшегося на лестницу и чинившего металлические сетки на окнах с помощью мотка проволоки и отвертки. Сейчас сеньора Ребека думала только о сохранении своего собственного достоинства, которое было оскорблено нападением на ее проволочные сетки, и в своем ослеплении она даже не связала факт нападения на ее окна с фактом нападения на окна муниципалитета. Сохраняя скромное величие, она остановилась в двух шагах от двери и, опершись на длинную, изукрашенную ручку зонтика, сказала:
– Мне необходимо подать жалобу.
Стоя на верхней ступеньке лестницы, алькальд повернул к ней лицо, налитое от жары кровью. На его лице ничего не отразилось, хотя появление вдовы в его кабинете было делом необычным. С мрачной небрежностью он продолжал отцеплять поврежденную сетку и задал вопрос:
– В чем дело?
– Дело к том, что мальчишки повредили проволочные сетки на моих окнах.
Тут алькальд снопа устремил на нее взор. Он внимательно разглядывал ее всю – от искусно сделанных бархатных цветочков на шляпе до туфель цвета старого серебра, – так разглядывал, словно видел ее впервые в жизни. Не отводя от нее глаз, он осторожно спустился с лестницы и, когда ноги коснулись твердой земли, уперся рукой в бок и бросил отвертку на стол.
– Это не мальчишки, сеньора, – сказал он. – Это птицы.
И тут она связала все воедино – мертвых птиц на письменном столе, человека на лестнице и поврежденные сетки в ее спальне. Она вздрогнула, представив, что весь ее дом полон мертвых птиц.
– Птицы! – воскликнула она.
– Да, птицы, – подтвердил алькальд. – Странно, что вы не поняли этого: ведь уже три дня перед нами стоит эта проблема – проблема птиц, которые разбивают окна, чтобы умереть в доме.
Когда сеньора Ребека покинула муниципалитет, ей стало стыдно. И немного досадно оттого, что Архенида, приносившая ей все уличные слухи, не заговорила, однако, с ней о птицах. Она раскрыла зонтик – ее слепило сияние неизбежно наступающего августа – и, когда шла по раскаленной, пустынной улице, у нее возникло впечатление, что из спален всех домов исходит сильный, пронизывающий, резкий запах мертвых птиц.
То был один из последних июльских дней, и никогда еще в городке не было так жарко. Но жители не обращали на жару внимание: им не давала покоя повальная гибель птиц. Несмотря на то что это поразительное явление не оказало серьезного влияния на жизнь городка, тем не менее большинство жителей с начала августа пребывало в ожидании, во что все это выльется. Но к этому большинству не принадлежал его преподобие Антонио Исабель из церкви Сантисимо Сакраменто дель Алтар Кастаньеда и Монтеро – кроткий приходской священник, который в свои девяносто четыре года трижды видел дьявола и который, однако, был единственным человеком, кто увидел двух мертвых птиц и не придал этому никакого значения. В первый раз он обнаружил мертвую птицу в ризнице – это было во вторник, после обедни – и подумал, что даже сюда ее ухитрился затащить какой-то уличный кот. Второй раз он увидел мертвую птицу в среду – на сей раз у себя дома, в коридоре – и носком ботинка отбросил ее на улицу, подумав при этом: "Лучше бы этих котов вовсе не было".
Но в пятницу он пришел на железнодорожную станцию и увидел третью мертвую птицу на той самой скамейке, на которую собирался сесть. Словно молния пронзила его мозг; он схватил птицу за лапки и поднес ее к глазам; он вертел ее, разглядывал, затем с волнением подумал: "Черт возьми, а ведь это третья за неделю". С этих пор он начал отдавать себе отчет, что происходит в городке; впрочем, весьма неопределенно – частично благодаря столь почтенному возрасту, а частично потому, что уверял, будто трижды видел дьявола (в городке это считалось событием маловероятным, поскольку отец Антонио Исабель пользовался у прихожан репутацией человека доброго, миролюбивого и услужливого, но вечно витающего в облаках).
Итак, Антонио Исабель понял, что с птицами что-то происходит, но даже и тут ему не пришло в голову, что это было чрезвычайно серьезно и потому требовало специальной проповеди, посвященной такому событию. Он был первым, кто почувствовал запах. Он почувствовал его в ночь на пятницу – он проснулся в тревоге, его легкий сон был прерван резким, тошнотворным запахом, но он не знал, чему приписать это: ночному кошмару или же новому и оригинальному средству, к которому прибегнул сатана, дабы смутить его сон. Он начал принюхиваться, повернулся на другой бок и подумал, что это происшествие может послужить ему темой проповеди. "Это может быть волнующая проповедь о той ловкости, с какой сатана проникает в человеческую душу, используя одно из пяти чувств", – подумал священник.
На следующее утро, проходя по паперти перед началом обедни, он впервые услышал разговор о мертвых птицах. Он думал в это время о своей проповеди, сатане и о том, что человек может согрешить и обонянием, как вдруг услышал, что дурной ночной запах исходил от умерших за эту неделю птиц, и тут в голове у него все перемешалось – евангельские изречения, дурной запах и мертвые птицы. Таким образом, в воскресенье ему пришлось сочинить речь о милосердии – речь, которую он и сам хорошенько не понял, – и затем он забыл о связи, существующей между дьяволом и пятью чувствами.
Однако где-то в глубине сознания все эти события не могли не остаться. Так бывало с ним всегда, не только в семинарии, где он учился семьдесят с лишним лет тому назад, но и – в весьма своеобразной форме – теперь, когда ему было уже за девяносто. Однажды – это было еще в семинарские годы ранним вечером (шел дождь, но ветра не было) он читал Софокла в подлиннике. Когда дождь перестал, он посмотрел в окно на унылые поля, на омытый и обновленный вечер и начисто забыл о греческом театре и о классиках, которых он путал и которым дал общее название: "Старички былых времен". Лет тридцать-сорок спустя – это было тоже вечером, только не было дождя, – он заехал в одну деревню; шел по мощеной деревенской площади и вдруг неожиданно для самого себя продекламировал отрывок из трагедии Софокла, которую читал тогда в семинарии. На той же неделе у него состоялась долгая беседа о "Старичках былых времен" с папским викарием, говорливым и впечатлительным стариком, любителем сложных загадок, предназначенных для эрудитов; должно быть, когда-то он их сам придумал, а годы спустя они обрели популярность под названием кроссвордов.
Благодаря встрече с папским викарием в душе у нашего священника вновь вспыхнула его давняя глубокая любовь к древнегреческим классикам. В том же году, на рождество, он получил официальное письмо. И если бы к тому времени, о котором идет речь, за ним уже не установилась репутация человека с чересчур богатым воображением, человека неустрашимого в толковании текстов и несколько нелогичного в проповедях, его бы произвели в епископы.
Но он похоронил себя в городке задолго до войны 85-го года, и к тому времени, когда птицы стали умирать, залетая в дома, прихожане уже несколько лет обращались в епархию с просьбой, чтобы отца Антонио Исабель заменили другим священником, помоложе; просьбы участились в то время, когда наш священник заговорил о том, что видел дьявола. С тех пор его перестали принимать всерьез, но он почти не видел такого отношения прихожан к нему, несмотря на то что и теперь еще без помощи очков читал молитвенник, напечатанный мелким шрифтом.
Привычки его были неизменны. На вид он был маленький, невзрачный, ширококостный, со спокойными движениями; звук его голоса умиротворял в разговоре, но наводил сон, когда он говорил с амвона. До обеда он обыкновенно сидел у себя в спальне и пускал пузыри слюны, откинувшись на складном парусиновом стуле, в одних широких саржевых панталонах, подвязанных у щиколоток.
Он служил обедни – в этом и заключалась почти вся его работа. Два раза в неделю бывал в исповедальне, но уже много лет к нему на исповедь не приходил никто. Он простодушно думал, что его прихожане утратили веру в соответствии с современными обычаями, и, таким образом, мог бы расценивать как явление весьма своевременное тот факт, что он трижды видел дьявола, но он знал, что люди мало верили его рассказам, да и сам понимал, что его слова о дьяволе звучат не слишком убедительно. Он сам не удивился бы, обнаружив, что уже умер, не удивился бы не только в последние пять лет, но даже в те необычайные моменты, когда он увидел двух первых мертвых птиц. Однако, когда он обнаружил третью мертвую птицу, он стал чуть ближе к реальной жизни; во всяком случае, он стал думать о мертвой птице, которую нашел на станционной скамейке.
Он жил в двух шагах от церкви, в маленьком домике без проволочных сеток на окнах; в домике была галерея, идущая вдоль стен, и две комнаты, одна из которых служила ему кабинетом, а другая спальней. Пожалуй, в минуты, когда ясность ума покидала его, он полагал, что счастье на земле достижимо лишь тогда, когда не очень жарко, и эта мысль вносила некоторое смятение в его душу. Он любил блуждать по опасным путям метафизики. Этим он занимался по утрам, сидя в галерее с полураскрытой дверью, закрыв глаза и расслабившись. Однако сам не замечал того, что уже по меньшей мере три года в минуты размышлений он не думал ни о чем.
Ровно в двенадцать в галерее появлялся мальчик с подносом, на котором всегда были одни и те же блюда: бульон с горсткой маниоки, рис, тушеное мясо без лука, жареная баранина или маисовая булочка и немного чечевицы, к которой отец Антонио Исабель никогда не притрагивался.
Мальчик ставил поднос рядом со стулом, на котором, откинувшись, сидел священник, но тот не открывал глаза до тех пор, пока не затихали шаги уходящего мальчика. Поэтому в городке считали, что у отца Антонио Исабель сиеста была перед обедом (это тоже казалось странностью); истина же заключалась в том, что даже по ночам он не спал нормальным сном.
Ко времени, о котором идет речь, его жизнь состояла из самых простых действий. Он обедал, не поднимаясь со своего парусинового стула, не снимая блюд с подноса, не пользуясь ни тарелками, ни ножом, ни вилкой, а только той ложкой, которой ел суп. После еды вставал, слегка смачивал голову водой, надевал белую сутану, испещренную большими квадратными заплатами, и отправлялся на станцию, как раз в часы сиесты, когда весь городок ложился спать. Уже несколько месяцев он ходил по этому маршруту, шепча молитву, которую сложил сам, когда дьявол явился ему в последний раз. Однажды в субботу – спустя девять дней после того, как птицы начали умирать, – отец Антонио Исабель отправился на станцию, и вдруг к его ногам упала умирающая птица – это было как раз напротив дома сеньоры Ребеки. От птичьей головки исходило яркое сияние, и священник понял, что эту птицу, в отличие от других птиц, еще можно спасти. Он взял ее в руки к постучался в дверь к сеньоре Ребеке в ту минуту, когда она расстегивала корсаж, намереваясь отойти к послеобеденному сну.
Сидя у себя в спальне, вдова услышала стук и инстинктивно перевела взгляд на проволочную сетку. Уже два дня в спальню не попадала ни одна птица. Однако сетка была раздергана. Сеньора Ребека сочла починку сетки лишним расходом и решила подождать, пока не кончится это птичье нашествие, действовавшее ей на нервы. Сквозь гудение электрического вентилятора она различила стук в дверь и с раздражением пспомнила, что Архенида спит во время сиесты в самой дальней спальне, выходящей в коридор. Ей даже не пришло в голову спросить себя, кто может побеспокоить ее в эту пору. Она застегнула корсаж, толкнула дверь с проволочной сеткой, торжественно прошла по коридору направо, миновала зал, набитый мебелью и разными безделушками, и, прежде чем открыть дверь, увидела сквозь металлическую сетку печального отца Антонио Исабель с грустными глазами и птицей в руках; вдова еще не успела открыть дверь, как он сказал:
– Я не сомневаюсь, что, если мы смочим ей голову водой и накроем тотумой, она оживет.
И, открывая дверь, сеньора Ребека почувствовала, что слабеет от ужаса.
Священник не пробыл в ее доме и пяти минут. Сеньора Ребека полагала, что краткость визита – это ее заслуга, но в действительности так сделал сам священник. Если бы вдова могла о чем-либо подумать в тот момент, они вспомнила бы, что за тридцать лет жизни в городке священник ни разу не пробыл у нее больше пяти минут. Ему казалось, что в нагромождении вещей в зале явственно виден алчный дух хозяйки, а ведь она была в родстве с епископом – родстве отдаленном, но общепризнанном. Кроме того, существовала легенда (или подлинный рассказ) о семье сеньоры Ребеки, которую – в этом священник был уверен – не желали знать в резиденции епископа; и потому полковник Аурелиано Буэндиа, двоюродный брат вдовы, как-то заметил, что в этом веке епископ ни разу не посетил городок, дабы избежать встречи со своей родственницей. Правдив ли, нет ли был этот рассказ или это была просто легенда – неизвестно; истина же заключалась в том, что отец Антонио Исабель дель Сантисимо Сакраменто дель Алтар неуютно чувствовал себя в доме у сеньоры Ребеки, единственная обитательница коего отнюдь не проявляла милосердия и исповедовалась только раз в году, причем, когда священник пытался узнать что-то конкретное о загадочных обстоятельствах смерти ее супруга, давала весьма уклончивые ответы. И если сейчас отец Антонио Исабель находился в этом доме, поджидая, когда вдова принесет стакан воды, чтобы смочить головку умирающей птицы, то лишь потому, что ситуация, в которую он попал, требовала решительных действий.
Пока вдова ходила за водой, священник, сидя в роскошном кресле-качалке, изукрашенном деревянной резьбой, почувствовал в доме какую-то странную влажность – влажность, которая не исчезла с тех самых пор, когда раздался пистолетный выстрел – это было сорок с лишним лет тому назад – и Хосе Аркадио Буэндиа, брат вышеупомянутого полковника, повалился ничком, шурша пряжками и шпорами о гетры, которые он только что снял и которые еще хранили тепло его кожи.
Когда сеньора Ребека вернулась в гостиную, она увидела, что Антонио Исабель сидит в кресле-качалке все с тем же мрачным видом, который так ее пугал.
– Господь дает жизнь любой твари точно так же, как и человеку, произнес священник.
При этом он не вспомнил о Хосе Аркадио Буэндиа. Не вспомнила о нем и вдова. С тех пор как падре с амвона объявил, что ему троекратно являлся дьявол, она привыкла не верить словам священника. Не обращая на него внимания, она взяла птицу, окунула ее в воду, а затем встряхнула. Священник заметил, что все это она проделала безжалостно и небрежно, с абсолютным равнодушием к птице.
– Вы не любите птиц, – сказал он мягко, но убежденно.
Вдова бросила на него нетерпеливый и враждебный взгляд.
– Если бы я и любила их прежде, – сказала она, – я возненавидела бы их теперь, когда им приспичило помирать в домах!
– Да, много их погибло, – подтвердил он. Могло показаться, что его соглашательский тон – лишь видимость согласия.
– А хоть бы и все! – отвечала вдова. И, с отвращением сжимая птицу в руке и сажая ее под тотуму, прибавила: – Мне вообще было бы плевать на них, если бы они не рвали мои сетки.
И он подумал, что никогда еще не видел человека с таким очерствевшим сердцем. Минуту спустя, взяв птицу в руки, священник понял, что крошечное, беззащитное тельце мертво. Тогда он забыл обо всем – о сырости в доме, о царившей в нем алчности, о тошнотворном запахе пороха, исходившем от трупа Хосе Аркадио Буэндиа, – и понял божественную истину, с которой жил с начала этой недели. И вот, когда вдова смотрела ему вслед, – он шел с мертвой птицей в руках, и у него было грозное выражение лица, – он стал свидетелем чуда, свидетелем откровения: над городом лил дождь мертвых птиц, а он, служитель алтаря, он, избранник господень, мог быть счастлив только, когда не было жарко, он совершенно забыл Апокалепсис.
В этот день он, как всегда, отправился на станцию, хотя и не отдавая себе отчета в своих действиях. Он смутно понимал, что в мире что-то происходит, но чуиствовал, что отупел, поглупел, что не в состоянии понять происходящее. Сидя на станционной скамейке, он пытался припомнить, говорится ли в Апокалипсисе о дожде из мертвых птиц, но оказалось, что он начисто забыл его. Внезапно он понял, что задержался у сеньоры Ребеки и потому пропустил поезд; он вытянул шею и сквозь пыльные треснувшие оконные стекла вокзала увидел, что на часах в кабинете начальника станции было без двенадцати минут час. Вернувшись к своей скамейке, он почувствовал, что задыхается. В эту минуту он вспомнил: сегодня суббота. Блуждая в темном тумане своей души, он обмахивался веером, сплетенным из пальмовых листьев. А затем посмотрел на пуговицы сутаны, пуговицы своих ботинок, а также на длинные, облегающие саржевые брюки, и его охватила тревога, когда он понял, что никогда в жизни ему еще не было так жарко.
Не вставая со скамейки, он расстегнул ворот сутаны, вытащил из рукава платок и отер налившееся кровью лицо; тут, в момент озарения, у него мелькнула мысль о том, что, быть может, все, что он сейчас видит, – это предвестник землетрясения. Когда-то он читал об этом в какой-то книге. Однако небо было безоблачным; с этого прозрачного голубого неба загадочным образом исчезли все птицы. Он ощущал и жару, и прозрачность, но мгновенно позабыл о мертвых птицах. Сейчас он думал о другом – о том, что может вызвать грозу. Однако небо было чистым и ясным, словно это небо – над другим городком, далеким и не таким, как этот, над городком, где никогда не бывает жары, и словно не его, а другие глаза глядели на это небо. Потом он посмотрел поверх пальмовых и ржавых цинковых крыш на север и увидел медленную, молчаливую, спокойную стаю грифов над мусорной кучей.
В силу какой-то странной ассоциации в нем ожили в эту минуту чувства, которые однажды в воскресенье он испытал в семинарии незадолго до получения первых наград. Ректор разрешил ему пользоваться своей личной библиотекой, и он целые часы (особенно по воскресеньям) проводил, погрузившись в чтение пожелтевших книг, пахнущих старой древесиной, с пометками по латыни, сделанными мелкими и острыми каракулями ректора. В одно из воскресений он читал целый день, неожиданно в комнату вошел ректор и, смутившись, поспешно поднял почтовую открытку, явно выпавшую из книги, которую читал отец Антонио Исабель. К волнению вышестоящего лица он отнесся с вежливым равнодушием, но успел прочитать то, что было на открытке. Там была только одна фраза, написанная фиолетовыми чернилами, четким и прямым почерком: "Madame Ivette est morte cette nuit" /прим. – Мадам Иветта умерла сегодня ночью/. Теперь, более чем полвека спустя, он увидел грифов над заброшенным городком и вспомнил грустное впечатление, которое производил ректор, молчаливо сидевший напротив него в сумерках, взволнованно переводя дыхание.