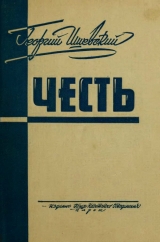
Текст книги "Честь"
Автор книги: Г. Ишевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
ПОЛИВНА
Тихо спустилася ночь над Поливной,
Лагерь кадетский окутался мглой,
Громко доносится трель соловьиная
Светится где-то огонь за рекой.
Тишь и безмолвие…
Лист не шевелится,
Тени сползают с горы,
Только на западе слабо алеется
Отблеск вечерней зари.
Лентой широкой внизу расстилается
Матушка Волга река,
Легким туманом она одевается
Быстрые воды неся.
Ночь ароматная, ночь безмятежная,
Долго-ли мне любоваться тобой?
Может быть скоро судьба неизбежная
Даст насладиться мне ночью родной.
Вспомню тогда я и склоны лесистые,
Вспомню и лагерь кадет,
И издалека вам, рощи тенистые
Сердцем пошлю свой привет.
(Автор не известен)
Поливна – было дачное место в 7-и верстах северу от Симбирска, расположенное в смешенном лесу на нагорном берегу Волги. Река, окаймленная на нагорном берегу лесом Поливны и на противоположном заливными лугами и песчаными отмелями, несла свои воды далеко внизу. Дачи состоятельных горожан были непроизвольно разбросаны в густой зелени леса и словно по уговору были выкрашены в белый цвет, издали напоминая дружную семью белых грибов. Тут же, несколько на отлете, приютился лагерь корпуса. Лагерь состоял из трех чистеньких бараков для кадет и нескольких маленьких дач для воспитателей и служб. Летние каникулы корпуса длились с 15-го мая по 15-ое августа. Подавляющая масса кадет разъезжалась по всей России к своим родителям и родственникам. Немногочисленными обитателями лагеря являлись или круглые сироты, или те из кадет, родители которых по тем или иным причинам не могли предоставить домашнего отдыха своим возлюбленным чадам. Лето 1907 года 13-и летнему Жоржику и его младшему брату Евгению по причине печальных обстоятельств пришлось провести в лагере. Старший брат Брагиных, Митя, вице-унтер-офицер выпускного класса, зимой, оступившись, упал с ледяной горы. Падение оказалось роковым. Через пять месяцев, несмотря на принятые меры, у Мити начался туберкулез реберных костей. В апреле мама уехала с ним в Алупку, а в августе тихо угас цветущий юноша, необыкновенно трогательный сын и брат, а для корпуса безупречный – «воспитанник чести». Весь класс был удручен несуразной, глупой потерей Мити, но особенно переживал утрату первый друг, одноротник Сережа, барон Цеге фон Мантэйфель. Он, как будто сам, взглянул смерти в глаза и понял, что для каждого есть жизнь и есть смерть.
25-го мая 17 кадет разных классов, возрастов, мышлений, желаний и вкусов, но представляющих одну дружную семью симбирцев, выступили в лагерь. Первый месяц лагеря с кадетами проводил подполковник В. Ф. Соловьев, смененный в конце июня полковником Д. В. Гусевым. Администрация корпуса всячески старалась скрасить обездоленную жизнь кадет и на летние месяца заменить им семью. Улучшенный стол, купанье, пикники, экскурсии, рыбалки, сенокосы были той вольностью, которая украшала каникулы кадет, и все же их жизнь была заключена в рамки известного режима и дисциплины. Для острастки шалунов при лагере даже был карцер, который, однако, редко кем-нибудь навещался и назывался кадетами – «круглая сирота». Жизнь лагеря начиналась в 7 часов утра, когда по трубе или барабану все кадеты должны были вставать и итти на Волгу купаться, и заканчивалась в 10 часов вечера, когда все должны были быть в кроватях. Приятными днями недели, скрашивавшими монотонную жизнь лагеря, были субботы и воскресения. В субботу вечером из города приезжал батюшка с отцом дьяконом, чтобы отслужить воскресную литургию в березовой роще, где силами самих кадет между белых берез, шуршащих своими маленькими листьями, была устроена открытая церковь.
Большой, сколоченный из досок, престол и жертвенник, покрывались белыми покрывалами и украшались зеленью и цветами шиповника, колокольчиков, анютиных глазок и полевых васильков. На аналое слева, утопая в цветах, лежала икона Рождества Пресвятой Богородицы – небесной покровительницы корпуса. Склоненная береза своими чистыми листьями чуть касалась драгоценных камней иконы и нежным колыханием словно отгоняла летний зной от лика Пречистой. Это была маленькая бедно убранная детской верой церковка, в которой незримо присутствовал Господь, к милостям Которого стекались дачники в праздничных белых одеждах, а с берега Волги, почерневшие от солнца рыбаки, в кумачевых рубахах и заплатанных штанах. Это был храм, угодный Христу, храм чистой молитвы богатого и нищего, березы и клена, василька и шиповника, случайно прилетевшей птицы. Сразу после литургии все: воспитатель, батюшка, отец дьякон, эконом и кадеты садились за общий воскресный завтрак, вкусный, уютный и семейный.
Каждый приезд в лагерь о. Михаила и о. Алексея вносил в жизнь лагеря незримое тепло, стирающие грани казенной жизни и вносящее в нее начала семейности. Батюшка, страстный охотник за карасями, часто задерживался в лагере и на понедельник, чтобы ранним утром, как он сам говорил, «побаловаться карасями». Жоржик и Коля Джавров упросили батюшку взять их с собой на рыбалку.
– Карась рыба серьезная, не любит шалунов… не будете шалить – возьму…
– Не будем, отец Михаил, – в два радостных голоса ответили кадеты.
– Ну хорошо, я вас сам разбужу… В четыре утра отплывем… Удочки вам приготовлю…
– А черви?
– Черви есть, из города привез… городские вкуснее для карася…
Весь вечер отец Михаил возился с своими удочками, поверял крючки, грузила, переставлял поплавки, смачивал студеной водой привезенных им червей. В 3. 30 утра, осторожно ступая по спящему бараку, он разбудил юных рыбаков.
Солнце еще не проснулось… кругом было серо темно, когда рыбаки достигли берега Волги. От воды тянуло утренней прохладой. Коля и Жоржик ежились на корме. Лодка шла подле берега, прибрежная трава поникла от тяжелой росы, с кустов ивняка скатывались редкие крупные слезки. Маленькие рыболовы молчали, отец Михаил греб осторожно и говорил шопотом.
– Рыба любит тишину… особливо карась, – пояснил о. Михаил, свернув в тихую заводь. Весла зашуршали о живую изгородь осоки. Вдали в разных местах возвышались бархатные банники камыша. Заводь дышала паром молочного тумана, в редких разрывах которого сталью блестела спокойная вода. Лодка пересекла поле водяных лилий и остановилась. Густая трава обняла ее.
– Отче Георгие, осторожно спусти с кормы груз, – шопотом сказал о. Михаил.
Стая крякв, испуганная непривычным шумом, выплыла из зеленой чащи, взмахнула крыльями и исчезла в тумане.
Алел восток… быстро светлело небо, уходил туман, гладь воды заиграла кружками проснувшейся рыбы… Отец Михаил насадил червей на крючки удочек, забросил одну для Жоржика, другую для Коли, и устроившись на носу лодки, закинул три своих удочки. Спокойная гладь воды в разных местах украсилась бело-красными поплавками.
– Следите за поплавком, как зашевелится, насторожитесь… значит пришел полакомиться червячком… Карась рыба хитрая… долго будет играть, обсасывать червя, а как поведет, поплавок потопит, подсекайте его… Поняли?
– Поняли, батюшка, – придушенным шопотом ответили друзья.
Дальнейшее частое вытягивание и забрасывание удочек показало, что из наставлений батюшки юные рыбаки ничего не поняли и до конца рыбалки остались без почина. Отец Михаил очень скоро поймал, или, как он говорил, «добыл» двух небольших карасей и снова закинул свои удочки.
Коля и Жоржик уже давно свернули свои удочки и впились глазами в вздрагивающие поплавки батюшкиных. Поплавок средней удочки много раз погружался в воду и снова выскакивал на поверхность. Батюшка встал во весь рост и что-то шептал словно уговаривал карася зацепиться за крючек… Вдруг резким движением он рванул удилище в сторону и вверх. В воздухе серебром сверкнул большой пузатый карась, сильно вильнул хвостом и шлепнулся в воду…
– У, своенравный какой… Все равно не уйдешь… быть тебе сегодня в сметане на сковородке… Меня не перехитришь…
Жоржик и Коля тихо шептались между собой и решили – «куда карасю с его карасиными мозгами перехитрить нашего батюшку».
Через несколько минут батюшка добыл еще двух карасей, и под конец в лодку шлепнулся огромный матерый карась, которого батюшке так хотелось видеть в сметане на сковородке.
ЛЕС
С раннего детства Жоржик как-то безотчетно любил природу, бессознательно восхищался ее красками, ее многогранным ликом, который поэты воспевают в своих стихах, писатели в прозе, а художники отображают на своих полотнах. Первые три дня в лагере, три дня привольной жизни одурманили его. Он часами смотрел на заволжские зеленые просторы заливных лугов, серебряную ленту Волги, на голубой беспредельный небосклон, багровый закат с золочеными кудрями сизых облаков, матово-розовый рассвет, постепенно окрашивающий воду реки в темно-фиолетовый, сиреневый и в блекло-розовый цвет. Здесь в лагере Жоржик впервые познал сладость первой любви. Он полюбил лес Поливны, полюбил с первого взгляда, как только вступил в зеленую сегку его беспредельного шатра. Молчаливый лес околдовал его свой загадочностью. По ночам ему снились его заросли, шопот листьев, зеленые просветы, узкие, овеянные безотчетным страхом тропинки, ведущие в глубину к незримому журчащему ручью, а утром он торопливо доедал свой завтрак, чтобы незамеченным уйти скорее в лес. Лес величаво молчал, залитый холодным утренним солнцем, напоенный смешанным ароматом земли, трав, цветов и листьев. Боясь нарушить тишину еще не проснувшегося леса, Жоржик осторожно ступал по ковру сочного зеленого моха, на который сквозь листву деревьев падали причудливые блики солнца, окрашивающие его то в серебро, то в блеклую зелень, то в нежную просинь, усыпанную мелкими алмазами росы. Какая загадочная красота покоя, думал он, продвигаясь дальше в сторону манящей розовой прогалины шиповника. Пряный сладковатый аромат цветов как наркоз туманил голову. Вправо, на опушке зеленого подлеска приютилась семья синих колокольчиков. Они повернули свои нежные головки к лучам восходящего солнца и жадно пили тепло жизни… Их синева на фоне блеклой зелени притягивала его. Он сделал несколько шагов в их сторону и пораженный остановился. Их головки, будто по команде, повернулись к нему и в своем колыхании зашептались между собой… Наверно испугались меня, подумал Жоржик, и не желая нарушать их покой, он круто повернул и стал углубляться в чащу леса, в прохладную тень густой заросли, где царила торжественная тишина. На него пахнуло горьковатой сыростью отживших листьев. Грустные пысли, однако, не надолго овладели его разумом…. У ствола огромного дерева он увидел плеяду сочных, словно покрытых зеленым лаком, листьев, а за ними, будто прячась от него, притаились маленькие, словно восковые, цветы майского ландыша. Маленький красноголовый дятел, прилепившись к стволу дерева, усиленно и часто работал длинным клювом. Насмешливо посмотрев на Жоржика черным глазком, и убедившись, что он не посягает на цветы, дятел легко развернул узор бело-черных крыльев и, искусно лавируя между ветвями деревьев, скрылся в чащу.
«Почему я не дятел?» – подумал Жоржик, грустным взглядом следя за легким полетом птицы.
«Почему у меня нет крыльев? Я бы каждый день облетал весь лес… Взлетал бы на его мохнатые верхушки и оттуда пел бы ему „песнь любви“»…
Жоржик замечтался, заслушался чириканием разноцветных птиц и опоздал к обеду. В лагере была тревога… Дядьку Щербакова послали на поиски на берег Волги, Зимин бесплодно блуждал и аукал по лесу…
– Где ты был? – подходя, строго спросил подполковник Соловьев.
– В лесу, – тихо ответил Жоржик,
– Что ты там долго делал?
– Смотрел на деревья… на дятла…
– Сам ты дятел, – гневно сказал Владимир Федорович, и вынув из кармана большие серебряные часы, добавил: – Ты опоздал на полтора часа… Иди в кухню и попроси эконома накормить тебя… Дятел!
С понурой головой Жоржик направился в сторону кухни, и до его слуха долетели последние слова разгневанного воспитателя: – Передай эконому, что твое сладкое съел дятел.
Горечь обиды овладела Жоржиком. Он не мог понять, за что он наказан без сладкого, ведь он не сделал ничего плохого, он не виноват, что любит цветы, лес, птиц, и свернув в березовую аллею, ведущую к кухне, он презрительно подумал: – Ну что может понять «петух» с его петушиными мозгами.
В кухне его встретил всегда приветливый и ласковый Федор Алексеевич Дивногорский, эконом корпуса. Худенький, с круглой седеющей по краям бородой, с лучистыми добрыми глазами, он всегда напоминал Жоржику какого-то святого, образ которого он видел в раннем детстве в маленькой церковке – в Саратове. В старших классах корпуса он много раз старался разгадать тайну его жизни. Почему он эконом, а не архиерей? Почему в жизни он избрал такой скользкий полный соблазна путь? Почему у него всегда такие виноватые глаза, когда кадеты травят его за постный гороховый суп и рыбные котлеты? Почему от выкриков – «жулик», «вор» – он делается каким-то маленьким и забитым?
Поздняя краска стыда заливает сейчас лицо Брагина, когда он вспоминает слабые, уже истлевшие в памяти контуры эконома Дивногорского, отдавшего кадетам 23 года своей жизни и умершего в крайней бедности.
– Ну, гуляка, наверно проголодался? – обняв Жоржика, спросил эконом.
– Владимир Федорович просил накормить меня, – сухо ответил Жоржик, еще не остывший от горечи обиды.
– Садись… садись сюда, – засуетился эконом, убирая с своего стола папки с бумагами. Через минуту он сам принес Жоржику тарелку супу с клецками, рагу из барашка и двойную порцию шоколадного крема. Он сел напротив Жоржика и наблюдал, как он с аппетитом съел суп и обгладывал мягкие косточки молодого барашка.
– Вкусно? – причмокнув губами, спросил эконом. Жоржик ничего не ответил. Он чувствовал во рту вкусовое ощущение любимого крема. В мозгу мелькнуло – «сказать»…. «утаить»… Эконом близко пододвинул к нему блюдце с кремом. Жоржик почувствовал чуть уловимый аромат шоколада, взял ложку, но проглотив горькую слюну, наполнившую его рот, с грустью сказал:
– Владимир Федорович просил передать вам, что мой крем съел дятел.
– Какой дятел?
– Птица дятел… с длинным клювом, с красной головкой… Я видел его в лесу…
Эконом догадавшись, что Жоржик за опоздание оставлен без сладкого, еще ближе пододвинул к нему блюдце соблазна и чуть слышным шопотом сказал:
– А ты ешь… только скорее… Я все улажу…
– Нет… пусть ест дятел, – сказал Жоржик, решительно отодвигая блюдце. Он вскочил и выбежал из кухни.
– Жоржик! Жоржик!.. Куда ты? – кричал ему в след добрый эконом.
Жоржик бежал в лес. Горькие слезы скатывались по его щекам, далеким частым стуком его встретил любимый дятел.
. . . . . . . . . . . .
С каждым новым днем детская чистая натура Жоржика все сильнее и пламеннее влюблялась в лес. Он бессознательно ощущал прелесть этой тайной любви, которую знал он и молчаливый лес. Детским пытливым умом он старался разгадать очарование его переменчивых красок, его шорохи, внезапные падения листьев. Каждый день по нескольку раз он забегал в свой лес, садился на упавшее полусгнившее дерево и в трепетных мыслях хотел обнять всю его жизнь, чтобы потом, когда он будет большой, написать о нем книгу. Ему казалось, что лес, так же как человек, ночью спит, утром просыпается, так же как он лениво потягивается в теплой кровати, что ему жарко от палящего солнца, промозгло холодно от дождя, что он, так же как человек, имеет свои радости и печали, что он болеет, и болезни бывают тяжелые и неизлечимые.
– А лес умирает? – мелькнуло в мозгу.
– Конечно, нет, – утвердительно вслух ответил Жоржик.
– А тогда откуда взялись эти истлевшие пни, на которых так приятно греться на солнышке, к которым вплотную прилипли семейства «опенок» и, так приятно пахнет лесной земляникой – «леснушкой»?
Мысли беспорядочно громоздились одна на другую, не находили разрешения, куда-то уходили, снова возвращались, временами казались ясными и прозрачными как воздух, временами туманными и черными как ночь. Жоржик с упорством продолжал добиваться познания лесной тайны. Он видел свой лес в красках ранней зари, когда его верхушки радостно дрожали от первой ласки солнца, он видел его в густых облаках молочного тумана, в полуденный час томящей жары, сквозь сетку мелкого дождя, когда тяжелые ветви, напоенные влагой жизни, отдыхали в мокрой истоме, он испуганно слушал свист и рев своего леса во время грозы… Он был далеко от своего леса, когда варвары революции у живой изгороди шиповника в ласковый майский день тайком расстреляли пятерых кадет, расстреляли за то, что они кадеты… Тела детей падали на колючий шиповник и кровью чести окрашивали нежно розовые цветы.
. . . . . . . . . . . .
С тех пор, каждый год, в один из ясных майских дней, шиповник Поливны цветет алыми, как кровь, цветами; нежные синие колокольчики, в трепетном колыхании касаясь друг друга, звенят чуть слышным погребальным звоном. Гордый лес низко склоняет свои мохнатые верхушки, красноголовый дятел не стучит по дереву длинным клювом, а неумело включается в печальный гомон птиц, в котором ясно слышится погребальный напев – «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ».
МИХЕИЧ
После ужина кадетам строго воспрещалось покидать черту лагеря, и обычно последние два часа перед сном они проводили на зеленой лужайке, неподалеку от леса, спускавшегося зелеными террасами к Волге. Тут обычно собиралась вся семья симбирцев: воспитатель, эконом, повар и дядьки Щербаков и Зимин. Дядьки заблаговременно приготовляли валежник, и по началу, когда костер горел крупными огненными языками, взметая в высь мелкие, умирающие на лету, искры, – у костра было шумно и весело. Слышались звонкие детские голоса, смех, а в нужные минуты строгие оклики воспитателя. Но как только огонь спадал, и угли, словно утомленные, подергивались тонким слоем серого пепла, у костра, как-то сама собой, наступала тишина… Иногда в полголоса пели русские песни или слушали рассказы из жизни Суворова, Нахимова, Скобелева. Подполковник Соловьев был хорошим рассказчиком, кадеты любили слушать его, а приятный тембр его голоса как-то успокаивающе действовал на уставших за день шалунов – словно пел перед сном – «колыбельную песнь».
В эти минуты маленький Жоржик любил смотреть на далекую ширь Волги, на ряд непроизвольно разбросанных по реке красных и зеленых плавучих маяков, на созвездие ярко мерцающих огоньков какой-то далекой железнодорожной станции, да на тусклый костер на другой стороне реки, как раз против лагеря.
Дядька Зимин трогательно любил Жоржика, то ли за крупную мзду, полученную, незаметно от начальства, от богатой тетки Брагина при его поступлении в корпус, то ли за то, что Брагин, хотя и был шалун, но не злостный. Вот этот самый Зимин и вложил в душу маленького Жоржика зерно любопытства, как-то сказав ему, что это костер старого рыбака Михеича, что днем он спит, а ночью ловит рыбу, и что варит такую уху, какую ни один повар в мире не сварит…
– А вы бы отпросились у воспитателя на ночевку к Михеичу… я бы с вами поехал, – таинственно закончил Зимин.
С тех пор восприимчивый Жоржик жил мечтой ночной рыбалки у Михеича и ждал только момента, когда подполковник Соловьев будет в хорошем настроении. Своим детским умом он считал, что успех или неуспех его просьбы всецело зависит от настроения воспитателя. Он пытливо следил за Владимиром Федоровичем и мучился тем, что вот уже два дня он был каким-то колючим, щетинистым. Вчера он наказал Джаврова, и даже немного кричал на него, что бывало с ним очень редко, а сегодня посадил в карцер известного шалуна Дагмарова, правда, через час он его освободил, но сегодня нельзя, разочарованно думал маленький рыбак. Наступил третий день, и Жоржику показалось, что Владимир Федорович такой же добрый, ласковый, солнечный, как сегодняшний июньский день. Он улучил минуту, и когда воспитатель сидел в плетеном кресле и читал газету, решительно подошел к нему.
– Господин подполковник, у меня к вам просьба!
– Какая? – спросил воспитатель, опуская на колени газету.
– Отпустите меня сегодня ночью на ночную рыбалку к Михеичу… Он живет за рекой… Зимин согласился ехать со мной…
– Никаких ночных рыбалок… никаких Михеичей… можешь итти, – сухо ответил воспитатель, снова уткнувшись в газету.
По твердому тону ответа Жоржик понял, что все его мечты о рыбалке лопнули, как мыльный пузырь. Нерешительно потоптавшись на месте, он уныло побрел в лес.
. . . . . . . . . . . .
Михеич… рыбалка… уха… уже представлялись Жоржику в каком-то запретном ореоле загадочности и с каждым следующим днем все больше и больше разъедали его воображение. В детском пытливом мозгу, один за другим, рождались дерзкие планы, вплоть до ночного побега из лагеря, которые безжалостно разбивались о суровую действительность. Последней надеждой Жоржика был его воспитатель полковник Гусев, через неделю сменявший подполковника Соловьева. Полковник Гусев был бездетным. Это было тяжелой драмой всей его жизни. Отличный строевой офицер, он оставил 27-ю артиллерийскую бригаду и, чтобы быть ближе к детям, выхлопотал перевод в Симбирский кадетский корпус. Он и его жена, Елена Константиновна, привязались к маленькому Жоржику, по праздникам брали его к себе в отпуск и окружили его родительской лаской, заботой и любовью. В первый же день по приезде Дмитрия Васильевича в лагерь, Жоржик обратился к нему с той же просьбой. Он не утаил от воспитателя, что подполковник Соловьев не разрешил ему ехать к Михеичу.
– Не разрешил, значит нельзя, – спокойно ответил полковник Гусев, гладя по голове своего любимца и, встретившись с его безнадежно грустными глазами, ласково прибавил: – Иди… Я подумаю… подумаю…
Не чувствуя под собой ног, счастливый Жоржик возвращался в барак. Ему неудержимо захотелось пойти к подполковнику Соловьеву и в лицо сказать ему – «петух». Он уже направился к даче Соловьева, но вдруг остановился в раздумии…
– Нет, если я это сделаю, рыбу мне придется ловить в карцере, а не у Михеича, – вслух проговорил он и пошел в сторону барака. За три года он своим детским умом хорошо изучил своего воспитателя. Ему так хорошо знакомо это слово «подумаю», после которого он много раз бывал счастлив. Жоржик не пошел в барак, а спустился в лес, сел на свое любимое полуистлевшее дерево и мысленно стал перебирать в памяти все «подумаю»…
…«Подумаю», – с улыбкой сказал Дмитрий Васильевич в одно из воскресений, когда Жоржик, будучи кадетом первого класса, застенчиво спросил его, нельзя ли ему купить маленький, совсем малюсенький аквариум… на одну… нет, на две рыбки, потому что одной будет скучно… Через неделю, когда он вошел в свою комнату, первое, что бросилось ему в глаза, был большой аквариум. Целый день просидел он около него, наблюдая сквозь мутную зелень стекла веселую игру золотых, серебряных, светящихся рыбок… Но рыбки очень скоро, если не надоели, то как-то приелись Жоржику.
Наступила зима… Жоржик открывал северный полюс… Карабкаясь по снежным сугробам, как большие сахарные головы разбросанные в разных местах огромного сада, примыкавшего к зданиям воспитательских квартир, зарываясь в снег, падая с сугробов, Жоржик решил, что не может открыть северного полюса только потому, что у него нет собаки и, вернувшись домой, разрумяненный и мокрый от талого снега, он на вопрос Дмитрия Васильевича, – где он так промок, – ответил вопросом:
– Дмитрий Васильевич, можно мне купить собаку?.. Я не могу открыть северного полюса.
– Подумаю, – ответил воспитатель.
В очередную субботу Жоржика радостным лаем встретил огромный рыжий «надворный советник» – Дагор. И сколько за три года пребывания в корпусе было этих «подумаю». Жоржик и сейчас был уверен, что на рыбалку к Михеичу он поедет, а полковник Гусев действительно думал, так как инструкция корпуса категорически запрещала отпускать кадет куда-либо ночью. Через два дня полковник Гусев вызвал к себе Зимина и, дав ему точные инструкции, отпустил Жоржика к Михеичу под видом городского отпуска с ночевой.
Тихая ночь покоем окутала уставшую за день землю. По синему небу, окруженная со всех сторон мелкими блестками мерцающих звезд, спокойно плыла луна. Волга словно дремала, когда Жоржик и Зимин на бело-синей корпусной лодке отчалили от берега. Лодка легко поплыла по спокойной глади воды. Нудный скрип правой уключины далеко разносился по воде, а от равномерного взмаха весел по обе стороны лодки образовывались маленькие водоворотики. Они весело играли серебряными складками и растворялись в течении реки. От воды пахло водяным теплом. Лодка все время держалась в створе тусклого костра на противоположном берегу – это и был костер Михеича.
Рыбаки только что вытянули бредень, в коричневых мокрых клетках сетки испуганно трепыхалась серебряная рыба. Только что вылезший из воды, молодой рыбак поддерживал верхний край бредня, а высокий жилистый старик с кривой ногой искусно и быстро выгребал рыбу; крупную бросал далеко на песок, мелкую обратно в воду.
«Михеич», – таинственно сказал Зимин, держа за руку Жоржика.
– Никит!.. Рыбу разложи по садкам, да сеть промой, – тоном приказа сказал Михеич и только тогда, сильно хромая на правую ногу, подошел к прибывшим.
– Вот гостя привез вам, Михеич, – весело проговорил Зимин, здороваясь с рыбаком.
– Гостю всегда рады, – радушно ответил Михеич, обнимая худенькие плечи Жоржика влажной, пахнувшей сырой рыбой, рукой.
– А как тебя звать сынок? – ласково спросил он, заглядывая в глаза Жоржика и касаясь путанной бородой его лица.
– Жоржик!
– Как?
– Егорий, – пояснил Зимин.
– Егорушка… Егорушка, – медленно, глядя в далекую сикь неба, тихо проговорил Михеич, и каждая нотка его голоса звучала безотчетной грустью, безнадежной тоской. Все молча подошли к тлеющему костру. На треноге висел закопченный жирной сажей чугунный котел, в котором чуть кипела какая-то коричневая жидкость.
– Садись, сынок, – указал Михеич на врытый в песок пень и, бросив в тлеющие угли четыре вяленных воблы, сам присел возле Жоржика.
Он низко опустил голову и чуть слышно сказал:
– Сын у меня был, Егорушка… последыш… весь в меня… и Волгу любил… В Японскую погиб, – грустно закончил Михеич и, вынув из углей воблу, добавил: – На-ка, сынок, побалуйся, пока уха будет готова… Вобла первая рыба для рыбака…
Жоржик полулежа ел отмякшую от огня рыбу, которая казалась ему необыкновенно вкусной. Уютно и тепло было у тлеющего костра… Никита и Зимин полулежали по другую сторону. Михеич имел какую-то особенную манеру говорить. Он был не многословен, а между фразами делал большие паузы, словно давая слушателю возможность правильно понять, оценить и ясно представить себе сказанное. Он говорил просто, без какого-нибудь нажима на слова, а они дышали то безысходной тоской, то радостью и весельем, то лаской и любовью.
– Михеич, расскажите что-нибудь про себя, – застенчиво попросил Жоржик.
– Что про себя?.. Вот когда был молод, звали Михеем, а стал старик, все зовут Михеич, – наклоняясь к лицу Жоржика с улыбкой сказал рыбак, и маленький Брагин почувствовал на себе доброту его ясных глаз.
– В лейб-гвардии Павловском служил… Туда ведь по носу принимают… Как курносый – в «Павловский Его Величества Павла 1-го полк», – закончил он, в шутку ударив себя по носу щелчком.
– За разум да беспорочную службу Царю Батюшке… до старшего унтер-офицера достиг… Царя да наследника сколько раз видел, вот так, как тебя сейчас вижу, Егорушка… Он остановился, и Жоржик ясно представил себе Михеича рядом с таким же маленьким, как он, наследником.
– Под началом белого генерала с турком-нехристем воевал… Под Плевной ногу-то ядром и перешибло, – закончил он, указывая рукой на изуродованную правую ногу. Вдруг он вскинул вверх свою лохматую голову, вслушался в тишину ночи и тоном приказа сказал: – Никит, подтяни челнок… Фельдмаршал Суворов идут!..
Никита быстро вскочил и на сильных упругих ногах побежал к воде. Его примеру последовал Зимин, и обе лодки были подтащены ими глубоко на песок. Все устремили взоры на реку и скоро из-за мыса на фарватере реки показался лучший пароход Волги – «ФЕЛЬДМАРШАЛ СУВОРОВ».
Белый красавец гордо резал спокойную гладь воды, симметрично бросая по обе стороны большие, ровные волны, увенчанные на гребнях кружевами белой шипящей пены… «СУВОРОВ», – первым нарушил тишину Михеич.
– Памятники надо ставить фельдмаршалу… да в селах, в деревнях… откуда солдат идет… чтоб каждый знал, кто такой Суворов был… Суворовым Россия побеждать будет… а они пароходы строят…
Он молча вынул из холщевого мешка каравай ржаного хлеба, кривым, сильно сточенным ножом отрезал каждому по большому ломтю, дал по деревянной ложке и, перекрестясь широким крестом, склонил голову в короткой, молчаливой молитве.
– А ну, сынок, отведай моей ухи, – с улыбкой сказал он и, стукнув ложкой по краю чугунного котла, первый зачерпнул ложку горячей наваристой ухи.
Все ели с аппетитом. Крепкая, сильно наперченная, слегка пахнущая дымком, уха обжигала непривычные губы Жоржика, а по всему телу разливалась какая-то приятная теплота, то ли от ароматной ухи, то ли от близкого соседства с таким простым и хорошим Михеичем.
. . . . . . . . . . . .
– Ну, а теперь, сынок, спи, – отечески тепло сказал Михеич, снимая с костлявых плеч коричневый короткий бушлат и укрывая им Жоржика.
– Мне не холодно, Михеич…
– Не холодно, так будет холодно… Ночи подле Волги всегда прохладные…
– А вы про Волгу расскажите? – спросил Жоржик, поудобнее завертываясь в бушлат, от которого так приятно пахло Михеичем.
– А ты слушать будешь?
– Буду… буду…
– А мы так порешим… когда я остановлюсь… ты должен сказать… «слушаю»… и я буду продолжать… а не скажешь… замолчу.
– Хорошо!.. Только про Волгу, – тихо ответил Жоржик, устремив взгляд в розовую теплоту тлеющих углей.
– Что Волга?.. Волгу надо понять… А поймешь – полюбишь, – начал Михеич, и в каждом медленно сказанном слове чувствовалась та же грусть, которую испытал Жоржик, когда Михеич говорил о сыне Егорушке.
– Слушаю…
– Полюбишь за то, что она русская… и берега моет русские… и кормит нас русских… и вода в ней русская… и рыба русская…
Он остановился, достал кисет и стал набивать табаком длинную прямую трубку.
– Слушаю, – тихо сказал Жоржик, глядя на сосредоточенное лицо Михеича, подсвеченное снизу мягким светом медленно угасавших углей. От позднего времени тяжелые веки Жоржика закрывались все чаще и чаще, но, пересиливая сон, он жадно вслушивался в басовые спокойные нотки голоса Михеича, чтобы еще раз сказать – «слушаю».
– Вот муть пошла по России, – начал Михеич, пуская изо рта сизый, евший глаза, дым.
– Нехорошо… Народ мутят против смиренного Божьего помазанника… А Бога потеряют… не хорошо кончится…
Жоржик не совсем понимал слова Михеича… Какая муть?.. Почему может кончиться плохо?
…Для кого плохо?.. Ряд непонятных вопросов роился в его детском мозгу, но сквозь сон он отлично помнил, что он что-то должен сказать, иначе Михеич остановится, и он не услышит самого главного.








