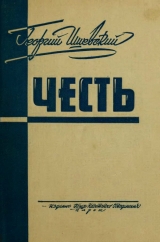
Текст книги "Честь"
Автор книги: Г. Ишевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
ЯБЛОНЯ ЦВЕТЕТ
Симбирск расположен на нагорном берегу Волги. Восточная оконечность города, начиная от огромного, белого здания дворянского собрания, до убогих лачуг пригорода обрамлена двумя общественными садами: Новый Венец и Старый Венец, открывающих красочную панораму нескончаемых фруктовых садов, знаменитой на всю Россию симбирской антоновки, и красавицы Волги, несущей свои могучие воды, где-то далеко внизу. В этих садах горожане находили отдых вдыхая пьянящий аромат весны, палящий зной лета и вкусный мороз снежной зимы. Особенно повышенной любовью горожан пользовались короткие дни цветения яблони, обычно падающие на конец апреля или первые дни мая. В эти солнечные, мягкие дни на обоих Венцах творилось что то невообразимое, и трудно сказать любовалась ли восхищенная публика молчаливой яблоней, или молчаливая яблоня восхищенной публикой. В этом году яблоня цвела особо буйно и дружно, и не мудрено, ибо все яблони сестры-близнецы, вскормленные одной землей, умытые одним дождем, пригретые одним солнцем. Было воскресение, третий, последний и самый буйный день цветения.
После обеда Маша и Брагин пошли на Венец. Они прошли квартал главной улицы и свернули на Дворцовую, где включились в разноцветный поток людей, одних уже возвращающихся домой, других торопливо стремящихся на венец.
– Это моя первая весна в Симбирске, – сказала Маша, осветив Брагина искрами лучистых глаз и делая ударение на слове – «весна».
– Значит, вы никогда не видели, как цветет яблоня?
– Видела, но не обращала внимания, как то проходила мимо…
– И сегодня пройдете мимо?
– Сегодня нет… сегодня совсем другое, – тихо ответила Маша, прищурив глаза, как бы желая скрыть от Брагина истинный смысл ее ответа.
– А вы любите природу, Маша?
– Странный вопрос…
– Почему странный? Я, например, к ней совершенно безразличен, – с лукавой улыбкой сказал Брагин.
– Неправда… неправда… Как можно не любить природу… не чувствовать синевы неба, не восторгаться богатством ее красок, не трепетать загадочностью звездной ночи… Люди не чувствующие этого плохие… не хорошие… мертвые…
– Значит я плохой… мертвый…
– Тоже неправда… Вы говорите нарочно чтобы злить меня…
– Маша, вы прекрасны в гневе, но я не виноват, что хочу быть хорошим только для Вас…
– И для природы, – с лукавой улыбкой закончила Маша.
Они вошли в сад. Впереди море колыхающихся голов, между которыми, тут и там, мелькали и снова куда-то уходили белые как снег просветы. Скоро перед глазами развернулся нескончаемый белый ковер. Куда не взглянешь, – везде снег яблони… Маша, пораженная величием красоты, стояла в каком-то восторженном оцепенении. Широко открытые глаза не могли оторваться от беспредельного белого поля, полуоткрытые губы были бессильны произнести слова восторга.
– Яблоня цветет! – тихо проговорил Брагин, чуть касаясь руки Маши. Как-то не нужно и душно стало в толпе людей, властно захотелось вырваться из круга любознательных глаз и быть только с Машей.
– Маша, пойдемте вниз…
– Пойдемте, – радостно ответила Маша.
Они молча спускались по Тихвинскому спуску.
Не было слов. Они были не нужны… Были мысли, ясные как весенний день мысли… Каждый словами боялся нарушить, спугнуть эту обоюдную ясность…
В дни цветения яблони многие владельцы фруктовых садов открывали, обычно закрытые, широкие ворота и разрешали горожанам гулять в садах. Маша и Брагин вошли в первые открытые ворота и скоро вступили на рыхлую, черную землю. Уходящие вдаль ряды яблонь обдали их нежным ароматом цветения. Отдельные лепестки падали, кружились в воздухе как крупные хлопья снега, целовали лицо Маши, и на душе было по весеннему тепло. Они шли между деревьев, и Брагин был взволнован и потрясен тем, что рядом с ним, часто касаясь его своим платьем, идет Маша, такая непонятная, неразгаданная и, вместе с тем, такая родная, близкая, и пахнет от нее цветом яблони, так приятно кружащим голову. Каштаново-бронзовая головка Маши была усыпана белыми лепестками, словно покрыта венчальным венцом. Учащенно забилось сердце, улыбка безотчетного счастья скользнула по губам… – Маша!..
Из под дерева с испуганным кудахтаньем выскочила клушка и за ней, утопая в рыхлой земле, неумело бежали маленькие желтые цыплята. Один, не успевший проснуться, отстал и тоненьким испуганно-писклявым голоском пищал… пи!.. пи!.. пи!.. Взъерошенная наседка металась из стороны в сторону, оглашая воздух истерическими выкриками. Она хорошо знала арифметику и уже подсчитала, что из 17 не хватает одного, самого маленького, хилого последыша. Куриную душу охватило беспокойство. Клушка чертила крыльями по земле, с криком носилась с одного места на другое и, спасая оставшихся детей, быстро направилась к чернеющей вблизи сторожке. Метким движением Брагин поймал цыпленка и передал его
Маше. Она приложила испуганную птаху к лицу, обдала ее теплом своего дыхания… Тоненькие, прозрачные ножки цыпленка сделали три специфических цыплячих движения, и он спокойно устроился в ладони Машиной руки… Белой пленкой подернулись коринки глаз…
– Тихо Жоржик, он заснул, – шопотом сказала Маша, чуть касаясь прядями волос щеки Брагина.
– Я хочу, чтобы в моей жизни было много цыпушек, – продолжала Маша, закрыв глаза. Брагин, до сих пор не знал, что можно быть счастливым от одного слова, взгляда, легкого случайного прикосновения. Перед глазами мелькнул разрез алых губ, закружилась голова, и через секунду тепло первого, робкого поцелуя сладостной истомой разлилось по всему телу…
– Добро пожаловать, дорогие гости… Дементий… сторож, – приветливо сказал плотный старик, снимая с седеющей головы помятый картуз. – Не побрезгуйте побаловаться чайком с яблочным вареньем… прошлогоднее… сам варил…
Все направились к сторожке.
– А я несу опечаленной клушке потерянную курочку, – тепло сказала Маша, прижимая к губам спящего цыпленка. Дементий молча два раза дернул цыпленка за клюв, покачал головой, задумался и куда-то в пространство сказал:
– Жизнь короткая… скоро съедят… потому не курочка, а петушок…
Все подошли к сторожке. Маша присела и выпустила на землю будущего петушка. На нее с криком наскочила взъерошенная клушка и вместо благодарности осыпала ее куриными ругательствами. Она быстро увлекла за собой петушка и долго поучала его куриными нотациями.
Сели пить чай. Пузатый, помятый самовар пел тихую песнь, словно сказку рассказывал про яблоню.
– Дементий, а вы круглый год живете здесь? – спросила Маша.
– Не то что круглый год, барышня, а круглые годы… Вот почитай уже пятнадцать годов…
– И вам не скучно?
– Да разве с яблоней соскучится… она мне как дети… Подойдешь к одной, поздороваешься… молчит… ровно сердится… тоже гордая… потом вдруг зашелестела листьями… заговорила… Морозы пойдут, каждую соломкой окутаешь, чтобы ножки не ознобила… смотришь, другая грустная, хохлится… лекарством поможешь… А сейчас ровно невеста в подвенечном платье… Каждый год, по сию пору, невестой наряжается… Вот и вы, барышня, скоро невестой будете – яблоней…
Чистые слова Дементия залили лицо Маши стыдливой краской румянца, а счастливый Брагин ясно представил себе ее в белом как снег венчальном платье.
Вечерело… прохладой дышал воздух… Дементий проводил гостей до ворот.
– Заходите, барышня, в августе, когда антоновка поспеет. Оно, конечно, по ту пору ворота закрыты… народ всякий бывает, а вы постучите да покличите… Дементий!.. Дементий!.. Я услышу.
Он снял картуз, приветливо посмотрел на обоих и наставительно добавил:
– Холодает, а барышня в одном платье, не ровен час простудится… захохлится как яблоня.
– Ничего, Дементий, нам не далеко… А в августе я обязательно приду. Помогать вам собирать антоновку… Хорошо? – тепло сказала Маша.
Снова шли молча, не было слов, все было ясно, и ясностью бились два молодых сердца. Вернувшись домой, Маша попросила Брагина помочь ей решить экзаменационную задачу по алгебре. Они сели за Машин стол совсем близко друг к другу. Задача была сложная, путанная, с двумя неизвестными, но знакома Брагину. За счастье быть рядом с Машей, Брагин умышленно долго решал ее. Неизвестные были давно найдены, задача была давно решена, их уже два раза звали ужинать, а они счастливые сидели в наступивших сумерках и решали другую задачу – задачу жизни. В свои семнадцать лет им казалось, что они решили ее. Они не понимали, что задача жизни вся состоит из неизвестных и чаще всего бывает решена неправильно, что сама жизнь вплетает в нее все новые и новые неизвестные и что было ясным сегодня, порождает на завтра недоверие, подозрения, отнимает уважение, без которого задача жизни остается не решенной. Прощаясь с Машей, Брагин впервые почувствовал, что он уходит не один, что, сегодня, он уносит Машу с собой, уносит в своих мыслях, мечтах.
Он умышленно медленно возвращался в корпус. Ему хотелось как можно дольше остаться одному с мыслями о Маше. Ну конечно, я ни разу до сих пор не любил, думал Брагин. Я просто поклонялся тому, что нарисовало мне мое воображение… Я говорил какие то глупые слова любви, звучащие сейчас такой ложью… Я отказываюсь от них и радостно переношусь в новый мир моей первой и последней любви… Маша!.. Чудная!.. Я люблю только тебя, – вслух закончил Брагин.
– С кем это ты разговариваешь? – весело спросил догнавший его Рудановский.
– Нет, я просто на свежем воздухе повторяю завтрашний экзамен по законоведению…
– Ой, что ты врешь… Тут пахнет не законоведением… Наверно опять не поладил с Машей…
– При чем тут Маша? – вспылил Брагин.
Друзья вошли в корпус.
К НОВОЙ ЖИЗНИ
Сдан последний экзамен… Окончен корпус… Красочно, с юношеским задором прошел, скрытый от начальства, выпускной парад вновь испеченных господ юнкеров. В фантастических самодельных формах господа юнкера выстроены в портретном зале по роду оружия и военных училищ. Парадом командует «полковник», просидевший в корпусе вместо положенных семи лет – девять. Парад принимает «генерал» с десятилетним стажем.
– Смирно, равнение направо!!!
– Здравствуйте господа юнкера!!!
– Здравия желаем Ваше Высокопревосходительство!!!
Генерал, копируя в манерах и разговоре директора корпуса, спокойно обошел фронт, поздравил юнкеров с блестящим окончанием корпуса и с торжественным пафосом прочел, звериаду, в которой беспощадно высмеивался административный, воспитательский и преподавательский персонал корпуса – высмеивались «звери».
Парад закончился церемониальным маршем военных училищ и поминутно слышался бодрый возглас генерала:
– «Молодцы Павловцы!!!»
– «Прекрасно Михайловны!!!»
– «Великолепно Тверцы!!!»
Господа юнкера строем проследовали в ротную умывалку, где, под пение новых куплетов «звериады» генерал сжигает «кадетские науки»: лекции, записки, тетради. После этого торжественного акта каждый чувствует себя уже юнкером. Группами собираются, поздравляют друг друга артиллеристы, инженеры, пехотинцы, конница, и только Брагин стоит на распутии. Он никак не представляет себе дальнейшей жизни без двух друзей: Упорникова и Лисичкина, но первый вышел в Константиновское артиллерийское в Петербурге, а второй в Александровское Военное в Москве. Пылкой и впечатлительной натуре Брагина не давал покоя так же и третий путь поступления в одну из столичных театральных школ и по примеру многочисленных родственников – служение родному искусству. Этими, волнующими его мыслями он не раз делился с воспитателем, но Дмитрий Васильевич всегда ограничивался одной фразой:
– «Я подумаю, Жоржик».
Наступил час расставания с любимым воспитателем. Прощальный ужин был овеян печальной грустью как для воспитателя так и для кадета. После ужина, Димитрий Васильевич увлек Брагина в свой кабинет.
– Садись, Жоржик… Я хочу сказать тебе прощальное слово… За последние дни ты неоднократно говорил мне о своем желании пойти на сцену… Каждый человек должен стремиться найти правильный путь своей жизни, путь своего призвания. Семь лет я подготовлял тебя к военной карьере, я старался облегчить тебе дальнейший путь твоей жизни, и я уверен, что ты будешь безупречным офицером, как был безупречным кадетом. Что касается твоего желания отдать свою жизнь искусству, реши этот сложный вопрос с своей мамой, – тихо закончил Димитрий Васильевич, крепко пожимая руку Брагина.
…Брагин мчался курьерским в Москву, покидая, может быть навсегда, родной корпус, милый Симбирск, мечты и мысли безоблачной юности. Сидя в купэ, он через окно видел, как промелькнули, вросшие в землю бедные постройки пригорода, лес Киндяксвхи, Гончаровский обрыв, уходящая в даль серебряная лента Волги, а за ней, в туманной перспективе, неясные контуры жизненного пути… Загадка… лотерея… Что дальше?.. Куда дальше?.. Он стал прислушиваться к стуку колес и скоро нашел ответ своим мыслям. Каждое колесо в своем то замедленном то в частом обороте словно говорило ему – «сцена… сцена… сцена», словно призывало его к определенному решению итти путем своих многочисленных родственников, отдавших свои жизни родному искусству. Он заснул под сладкую музыку колес, с непоколебимым решением – «на сцену».
…Москва… Казанский вокзал… перрон… множество людей с ищущими взорами…
– Мама!.. Мама!.. – кричит Брагин с подножки вагона.
– Сын! – слышит он ответные слова счастливой матери.
Объятия, поцелуи, и он чувствует, как по его щеке скатываются одна за другой теплые слезинки… Счастливые слезы матери.
Огромная столовая Брагиных залита светом двух люстр, по стенам тут и там горят причудливые бра, хрустальные подвески люстр сверкают мириадами звезд. За столом вся семья и родственники. Дед специально приехал из Саратова, сестра Маруся из Тульского имения, дядя Саша – артист большого театра, тетя Надя, Райская Доре – артистка драмы, братья и сестры. Из посторонних – артисты Николай Николаевич Васильев и кумир Москвы Миша Вавич. Жоржик, как юбиляр, сидит на почетном месте рядом с дедом. Через весь стол напротив его – мама, и он все время чувствует на себе теплоту и счастье ее лучистых глаз. Шумно, весело и как-то по семейному душевно и тепло…
– Что думаешь делать дальше, сын? – послышался ласковый голос мамы. Головы всех повернулись в его сторону, и через секунду тишину прорезал его четкий, уверенный ответ.
– Я иду на сцену, мама…
– Браво Жоржик… браво, – первой прокричала экспансивная тетя Надя. Ее поддержали дядя
Саша, Васильев, и только мама, казалось, была далека от минутных восторгов, вызванных ответом сына.
Разошлись последние гости, потушены люстры… Все, повинуясь какому-то неписанному закону, отошли ко сну. Мама ласково обняла сына за шею, и введя его в розовую гостиную, кротко сказала: – Я хочу поговорить с тобой, Жоржик.
Жоржик молча опустился в кресло подле мамы. Розовый свет, струившийся из под большого абажура, выхватил из полумрака сосредоточенное лицо мамы.
– Жоржик, я не против того, чтобы ты в своей дальнейшей жизни пошел по пути твоих многочисленных родственников, но сцена тяжелый, тернистый путь, усыпанный шипами людской зависти, интриг, тщеславия… На сцене надо быть сильным, мужественным, а ты еще ребенок… Тебе неполных семнадцать лет, к тому же по линии отца, ты происходишь из военной семьи… – Мама остановилась, но, увидев вопрошающий взгляд сына, прижала его к груди и продолжала: – Я хочу, чтобы ты пошел в Военное училище, отслужил бы родине законные три года, и тогда, уже хлебнув самостоятельной жизни, ты, если найдешь нужным, можешь сменить военную карьеру на великое служение искусству.
Жоржик, молча обнял маму, приложил к губам ее седеющие виски, – это был молчаливый ответ сына матери. Через несколько дней Брагин записался юнкером в Александровское Военное Училище, что на Знаменке. Спутником его юнкерской жизни остался Володя Лисичкин.
Через неделю семья Брагиных выехала на дачу в Петровско-Разумовское, где Жоржик быстро вошел в компанию, окончившего 3-й Московский кадетский корпус и тоже вышедшего в Александровское военное училище, кадета князя Друцкого-Соколинского. Компания была беспечная, шумная, веселая. Ежедневные встречи «кукушки», из маленьких вагонов которой высыпали на лоно природы нарядные москвичи и москвички, пикники, поездки верхом, а вечерами танцы в курзале, были той атмосферой, в которую радостно окунулся Брагин перед ожидающей его суровой и казенной жизни военного училища. Душой компании была очаровательная своим своенравием Ирина Борг, светлая блондинка с загадочно смеющимися голубыми глазами. Ее нельзя было назвать красивой, но в ней было что то притягивающее, что волновало, заставляло искать новых встреч и томительно чего-то ожидать. Она знала силу своих чар и искусно пользовалась ими. Брагина, она избрала предметом своих всегда изящных капризов, мелких непониманий, коротких ссор и радостных, снова, что то обещающих примирений. Она быстро овладела им, его мыслями, сама оставаясь в ореоле какой то загадочности. Брагин, не раз в своих мыслях, сравнивал ее с Машей, не раз давал себе слово прекратить эти ненужные встречи, и на другой день снова смотрел в прищуренные, загадочные глаза Ирины. Как то спокойным ласковым вечером вся компания шла по скошенным полям. Воздух пьянил ароматом сочной травы. Было просто и весело. Ирина шла рядом с Брагиным. Издали манили душистым обещанием стога сена.
– Убежим в стога, – закинув голову и поймавши руку Брагина сказала Ирина, и, не дожидаясь ответа, увлекла его за собой… Они с разбега бросились в первый стог… Перед глазами мелькнул изгиб стройной ноги укутанной пеной белых кружев… Брагин лицом уткнулся в мягкий ворох свежей травы и в истоме вдыхал ее пряный аромат. Чьи то нежные руки коснулись его волос… Маша! – подумал он и поднял голову. Два глаза обожгли его искрами желания… Ирина тяжело дышала… Разрез алых губ трепетно искал первого касания… Подошла компания… Все разместились у стога… Снова смеялись, снова шутили, и только Брагин в мыслях обнимал Симбирск, обнимал далекую, чудную Машу.
– Господа, завтра все у меня, – весело прощебетала Ирина, в упор глядя на Брагина.
– Извините, Ирина, но…
– Никаких извините и никаких но… Завтра день моего рождения и вы будете у меня… Я так хочу, – капризно властно закончила Ирина.
– Мне завтра обязательно надо быть в Москве…
– В день рождения Ирины, московские дела могут подождать…
– Тогда разрешите мне приехать позже…
– Нет не разрешаю…
Общий смех покрыл последние слова Ирины. Друцкой что-то сострил, а Брагин чувствовал себя немного оскорбленным тоном Ирины. Вернувшись домой, он твердо решил послать Ирине цветы и уехать с ночевкой в Москву. Ночью он писал письмо Маше.
Маша милая,
Уступая просьбам мамы, я поступил в Александровское Военное Училище. Два года училища и три обязательных года в войсках могут оказаться нашей вынужденной разлукой. В мыслях своих, как и сейчас, я всегда буду с Вами. Лето провожу в Петровско-Разумовском, под Москвой, в компании нового друга князя Друцкого. Компания дружная и веселая. Всеми, кроме меня, управляет Ирина Борг. Славная и вместе с тем какая то странная. Не могу понять ее, да откровенно говоря, и не стараюсь. Завтра день ее рождения. Я приглашен, но твердо решил не ходить. Поеду в Москву. Пишите, не забывайте.
Мечтою с Вами, Георгий.
Днем Брагин получил через посыльного записку от Ирины.
Жорж,
Вы мне нужны. Я хочу чтобы вы помогли мне украсить фонариками сад. Будьте хорошим, приходите как можно скорее.
Жду, Ирина.
Брагин в Москву не поехал.
В ПОИСКАХ МИНУВШЕГО
В сентябре 1914 года Брагин, в боях за Августовские леса, был дважды ранен, и если ранение в грудь (не навылет) можно было отнести к разряду легких, то ранение в левую руку, с раздроблением лучевой кости, считалось серьезным, во всяком случае требующим длительного лечения. С фронта он был привезен в Москву и помещен в госпиталь дворянского собрания, что на Большой Дмитриевке, где с радостью встретил тяжело раненого однополчанина и однокашника по корпусу Володю Лисичкина. В госпитале Брагин однако задержался не долго и скоро переехал домой к своей матери, а госпиталь посещал только для перевязок. Дома он был окружен заботами и лаской: мамы, старушки бабушки и сестры Гали. Огромная столовая, углом выходящая на Тверскую и Георгиевский переулок, была превращена в мастерскую, где с утра до поздней ночи шумели швейные машины. Приносились тюки кроеной материи, шилось теплое белье для солдат, упаковывались рождественские подарки на фронт, и этот муравейник с жертвенно-неутомимыми молодыми и пожилыми дамами затихал только к ночи. Все исключительно тепло относились к Брагину, но он очень не любил и даже конфузился, когда очаровательная, рыжекудрая Милочка Андреоли при его появлении отрывалась от машины и громко оповещала всех: – «А вот и наш храбрый герой!» Брагин не считал себя трусом, но не считал и храбрецом. От неправильно положенных на перевязочном пункте полка лубков у Брагина образовалась сильная отечность кисти, и качалось неправильное срощение костей. Потребовалась срочная операция. Брагин нервничал и не столько от предстоящей операции, сколько от затяжки срока выздоровления, мешающего ему вернуться в полк.
Скоро его потянуло в Симбирск, в родной корпус. Ему неудержимо хотелось еще раз, может быть последний раз в жизни, повидать полковника Гусева. Его тянул в Симбирск Михеич, такой русский и так сильно любящий Суворова и Волгу. Вскоре он получил теплое, полное волнений письмо Маши.
Жоржик!
Из газет узнала, что вы ранены и привезены в Москву. Какой ужас быть так далеко, и не иметь возможности облегчить ваши физические страдания. Решила ехать в Москву, но вспомнила, что около вас ваша чудная мама, и немного успокоилась. Папа и мама посылают вам привет и очень просят вас провести весну и отдохнуть у нас. Вы так любили Симбирскую весну, когда начинается цветение яблони… Помните, как мы гуляли с вами в фруктовом саду? Помните этого хорошего сторожа, сравнившего меня с яблоней? Забыла его имя. Помните, как нежные отжившие лепестки словно апрельский снег падали на нас? Приезжайте… пишите…
Маша.
Брагин отложил в сторону письмо и задумался. Он помнил не только фруктовый сад и падающие лепестки яблони, он помнил слова уверений в вечной любви, в безгранном счастии будущей совместной жизни… Каким-то внутренним чутьем он сознавал, что Маша осталась верна чувству своей первой любви, тогда как его юношеский роман, как-то совершенно незаметно для него самого, испарился из его души, оставив лишь чуть ощутимый след какой-то красивой чистоты и нежности. Он еще раз перечитал письмо Маши и решил поговорить с мамой. С мамой у Брагина еще с детства установились, а впоследствии остались на всю жизнь, какие-то теплые отношения, исключающие возможность какой-либо тайны.
Вот почему, когда утих муравейник, и все разошлись по домам, он подошел к маме, обнял ее и просто сказал: – Мама, мне нужен твой совет. Он увлек ее в розовую гостиную, усадил в глубокое мягкое кресло, и сам сел близко напротив ее. Ровный свет большой настольной лампы мягко освещал двух друзей, – маму и сына.
– Мама, разреши мне поехать в Симбирск, – тихо начал Брагин, и когда мама подняла на него свои кроткие глаза, он как в книге прочитал все, что она молча переживала сейчас: горечь предстоящей, даже временной, разлуки с ним, возможность его скорого отъезда на фронт и страх, безотчетный страх никогда в жизни его больше не увидеть. Ему стало жалко маму. Он привлек ее к себе и, целуя в усталые глаза, виноватым шопотом добавил: – Я не надолго, мама… Хочется в корпус… к Михеичу… и вот еще письмо Маши… Я не знаю как поступить с ней, – закончил он, передавая маме письмо. Мама внимательно прочитала письмо Маши. Она знала юношеский роман сына. Она познакомилась с Машей, когда она курьерским приехала в Москву только для того, чтобы одеть на шею Жоржика маленький золотой крестик. Она помнила, как Маша, прощаясь с ним, сказала: «Я верю, он сохранит вас… для мамы».
Мама передала письмо сыну и после долгой паузы, показавшейся Брагину неимоверно долгой, тихо сказала:
– Маша любит тебя, Жоржик… Любит жертвенной любовью, ты же мучаешься тем, что твое чувство к ней умерло… ушло… ушло, как незаметно для нас самих уходят дни недели… как уходит понедельник, среда… суббота… Ушедшим дням возврата нет так же, как ушедшему чувству… Ты мучаешься тем, что когда-то, по молодости лет, слишком много обещал Маше, и что сейчас не можешь сдержать эти обещания… Жизнь двух людей, Жоржик, балансируется законом обоюдности – обоюдности мысли, желаний, рождающих творческое начало жизни… обоюдности чувств, жертв и любви, прощающей на каждом шагу ошибки…
Мама остановилась, взяла руку сына, и нежно поглаживая ее, продолжала:
– Ты ни в чем не виновен… и ты и твои слова были искренни, но все, что ты говорил и обещал, было красивой, чистой правдой того дня, которым до сих пор живет Маша, и который ушел для тебя… Почему же ты теперь боишься сказать правду?
– Мне жаль Машу…
– Жалость хуже правды… она дает надежды… Запомни на всю жизнь, что самая горькая правда лучше неизвестности…
Мама встала, руками взяла голову сына и, близко смотря ему в глаза, с любовью сказала:
– Хороший ты у меня… Старайся всю жизнь остаться таким… Поезжай в Симбирск, повидай Машу и честно скажи ей все.
После беседы с мамой Брагин чувствовал как будто он побывал на исповеди. На душе стало как-то чисто и ясно, и сам он стал какой-то легкий и понятный самому себе. Его уже давно тяготили отношения к нему Маши. Они уже не виделись пять лет, если не считать ее внезапного приезда в Москву проститься с ним, когда он ехал на фронт, но по ее письмам он ясно чувствовал, что она осталась и хочет остаться все той же Машей, которую он случайно встретил на катке, ради которой убегал из корпуса, ревновал к уланскому корнету, гулял под яблоней. Ему было безконечно жаль Машу за незаслуженное постоянство к нему, за чистоту и верность этого постоянства, и в своих умышленно редких письмах он, сам не сознавая того, снова давал ей чуть ощутимые, построенные на жалости, новые надежды. Как хорошо сказала мама – «Жизнь двух людей держится законом обоюдности», – подумал он и вслух закончил:
– Нет обоюдности, и нет жизни…
Он ответил Маше преувеличенно теплым письмом, поблагодарил за приглашение, написал, что будет рад ее видеть, но что свой короткий отпуск уже обещал провести у полковника Гусева. На другой день Брагин в английском магазине Дукса купил для Михеича двухфунтовую банку трубочного табаку, и через три дня скорым отбыл в Симбирск.
Брагин любил ездить поездом. Ему нравился этот специфический запах вагона, отдельный мир купэ, поющий одну и ту же мелодию стук колес… Он любил смотреть через стекло широкого окна на зеленеющие пашни, голубую даль неба, перелетную птицу, мелькающие полустанки и телеграфные столбы…
Тронулся поезд, по стали рельс заскрежетали тяжелые колеса, вагон качнуло на выходной стрелке, увеличивая скорость, поезд свободно резал прозрачный весенний воздух… В полуоткрытое окно врывался теплый воздух весны. Брагин отдался своим мыслям… Смутные, отрывочные, они беспорядочно громоздились в мозгу, то возвращая его к только что оставленной маме, то переносили его в стены родного корпуса, рисовали силуэт ожидающей его Маши, неудержимо тянулись к заволжским просторам… к Михеичу. Удивительная вещь мысль, подумал Брагин. В одно мгновение она может перенести тебя на десятки, сотни, тысячи верст к лицам и местам, о которых ты думаешь. И так как последней мыслью Брагина был Михеич, ему ясно представился знакомый изгиб Волги, серебро воды, маленькая, утопающая к прибрежной зелени, рыбачья сторожка.
– Ваши билеты, господа, – издалека послышался сочный голос старшего кондуктора, и скоро в просвете полуоткрытой двери купэ показалась щуплая фигура контролера, в форменном сюртуке. Контролер как-то виновато взял из рук Брашна билет, и так же виновато спросил: – В Симбирск изволите ехать? Ранены? Простите за беспокойство…
– В Рузаевке пересадка… Не извольте беспокоиться… Я вас оповещу, – участливо проговорил упитанный кондуктор. Мысли побежали совершенно по другому направлению и сконцентрировались на том теплом, предупредительном и заботливом отношении знакомых и незнакомых людей с момента прибытия Брагина в Москву раненным. Перед глазами ясно воскресла недавняя картина. Санитарный поезд земства в клубах пара врезался в дербакадер Александровского вокзала… Толпа встречающих москвичей… На перроне в белых халатах: врачи, сестры, санитары, администрация госпиталей… Едва Брагин спустился со ступенек вагона, его обступили студенты и курсистки с опросными листами, которые здесь же передавались на регистрационно-распределительный пункт. Но что поразило Брагина – это теплота, искренность и самоотверженность их работы, работы противников самодержавия, сознательно или бессознательно включившихся в патриотический подъем страны.
Брагин отошел от регистрационного стола. К нему подошла элегантная дама и, подавая маленький букет голубых незабудок, просто сказала:
– Желудская, Нина Александровна… Разрешите на моем экипаже доставить вас в госпиталь. Вы определены в дворянский… я в нем работаю…
Брагин с радостью принял приглашение Желудской, и через минуты они сели в роскошный экипаж, запряженный сытой, холеной лошадью.
– Куда прикажете, барыня? – почтительно спросил, укутанный в вату казакина, кучер.
– По Тверской – в госпиталь, Геннадий…
– Слушаюсь…
– Теперь скажите вашу фамилию, – просто, с улыбкой, спросила Нина Александровна, повернув красивую голову в сторону Брагина.
– Простите… Брагин… Я просто был ошеломлен незаслуженным вниманием с вашей стороны, – извинительно ответил Брагин, переведя взгляд на незабудки.
– Мой любимый цветок… У вас никого нет в Москве?.. чтобы я могла…
– Как никого?.. Я коренной москвич… У меня здесь мама, сестры, очаровательная старушка бабушка, Мария Ивановна Аничкова… Я не давал телеграммы, чтобы не волновать их, ранение пустяковое…
– Вы сказали, Аничкова?
– Да…
– Совсем белая, маленькая старушка?
– Да…
– Постойте, постойте… Да ведь это же общая любимица госпиталя… Может быть мы еще застанем ее, – радостно воскликнула Нина Александровна, переведя взор на круглые часы, покоившиеся на талии кучера.
– Геннадий, поезжайте резвее… нам надо застать в госпитале Марию Ивановну… вы знаете, старушку, которую вы часто отвозите домой…
– На Георгиевский один, как не знать… барыня настоящая…
Через десять минут Брагин прижимал к себе исхудавшее тело 72-х летней бабушки. Она дрожащими костлявыми руками гладила голову любимого Жоржика и неудержимыми слезами смачивала щеки счастливого внука.
– Мария Ивановна!.. Не откажите выпить, – ласково сказал старший врач, подавая старушке мензурку с успокоительными каплями.








