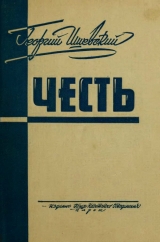
Текст книги "Честь"
Автор книги: Г. Ишевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
ЗВЕРИ
Быстро и сумбурно прошел период первых впечатлений, и Жоржика с его новыми друзьями со всех сторон обступила казенная, рассчитанная не только по часам, но и по минутам, жизнь. Утреннюю ласку мамы, ее слова, голос, заменил резкий звук трубы или треск барабана, бьющего утреннюю зорю, и почему-то обязательно в шесть часов утра, когда Жоржик досматривал сладкие сны далекого родного дома… Просторная умывалка с подвесными блестящими кранами, множество детских голых тел, неожиданные брызги со всех сторон, шум, окрики воспитателя, быстрое одевание в еще непривычную форму… Утренний осмотр воспитателей, мелкие наказания не аккуратным… Молитва перед ротным образом. Сиплым хором детских голосов поют «Отче наш» и «Тропарь».
Ежедневная, утомительная речь командира роты, полковника Евсюкова. Он говорит нудно, тягуче, как будто заикается, отчего смысл сказанных им слов, может быть очень разумных и хороших, не доходит до юных сердец кадет, лица которых отражают скуку и тоску.
Столовая… Опять молитва, а за ней кружка горячего сладкого чаю, половина французской булки, а для слабосильных холодная котлета… вкусно… аппетитно…
Утренняя прогулка строем, четыре больших квартала, окаймляющих корпус, и чехарда уроков и перемен. И так каждый день. Заманчивыми и радостными кажутся отпускные дни, возможность идти по улицам незнакомого города, а для этого надо уметь носить форму и отдавать честь офицерам, и малыши под руководством старичков старательно проходят первоначальный и обязательный курс кадетского внешнего лоска. Начались уроки, а с ними и первое знакомство с преподавателями. По кадетскому беспроволочному телеграфу малыши уже знали, что вся администрация корпуса и все преподаватели – это звери, которых надо бояться. Звери эти в зависимости от их строгости и требовательности разделялись на категории домашних и хищных. Почти все звери имели свои клички, которыми их травили в удобные моменты кадетской жизни, и с которыми они входили в корпусную поэзию нескончаемой и всегда новой «звериады».
Нельзя сказать, что эти клички всегда блистали разноцветными огнями остроумия, так подполковник Манучаров и капитан Аноев имели кличку – «армяшки», и лишь только потому, что судьбе было угодно родить их армянами. Подполковник Никольский, мягкий, болезненный, безгранно любящий кадет, имел кличку – «череп», и лишь только потому, что его маленькая голова с впалыми щеками, с глубокими глазными впадинами, действительно напоминала череп. Но были клички, которые поражали необыкновенной находчивостью и остроумием детского пытливого ума. Подполковник Владимир Федорович Соловьев – «петух». Красивый мужчина, с породистой головой, с всегда аккуратно зачесанными назад каштановыми волосами, с острым взглядом, с заостренным носом и всегда румяными щеками, действительно производил полное впечатление породистого краснорожего кахетинца, заметившего шалость кадет, или встретившего рябенькую, застенчивую курочку, вот вот зачертит по земле крылом и звонким петушиным голосом прокричит… кот… кот… кудах!!!
Командир 2-й роты полковник Горизонтов – «конь». Требовательный, строгий, одинаково справедливый ко всем, он в своей человеческой оболочке определенно носил какие-то конские задатки. Он всегда напоминал начищенного до предельного блеска эскадронного коня, с гордо поднятой головой ожидающего звука боевой трубы. Он услышал звук этой трубы с остатками корпуса сначала в снегах Уральских степей и в холодном Иркутске, куда привел поредевшие остатки Симбирского Кадетского корпуса. На руках горсточки кадет больной, постаревший, честный конь Симбирского Корпуса – полковник Горизонтов ушел из жизни.
Подполковник Евгений Евгеньевич Стеженский – «самовар». Огромного роста, болезненно располневший, флегматичный, добрый, как большинство полных людей, он, благодаря непомерного размера живота, действительно напоминал начищенный тульский пузатый самовар, который, однако, несмотря на все ухищрения кадет, никогда не был в состоянии кипения.
Командир 3-ей роты полковник Владимир Михайлович Евсюков – «тюк». Обрюзгший, отяжелевший, рыхлый полковник Евсюков доживал последние месяца в корпусе и больше интересовался Русским Инвалидом, в котором тщательно искал для себя выслугу лет на пенсию, чем воспитанием кадет. Сложное дело воспитания кадет он возложил на плечи воспитателей, а сам ограничился ежедневными, тягучими и многословными нотациями перед развернутым фронтом роты. Он любил кадет, но за 21 год службы в корпусе устал от них. Он немного заикался и, скрывая перед кадетами этот недостаток, говорил медленно и неторопливо. Он наказывал кадет только в моменты гнева или нервности, причем, отстаивая авторитет власти ротного командира, наказывал круто, лишь только для того, чтобы потом легче было простить.
…В зале 3-ей роты шум, беготня. Первоклассник Мельгунов, опустив вниз голову, размахивая руками, несется по паркету, словно на коньках… Хлоп… и головой прямо в живот вошедшего в роту полковника Евсюкова.
– Кааа… как… тво… тво… я… фа… фами… лия? – сильно заикаясь спрашивает ротный командир.
– Мель… мель… гу… нов, – тяжело дыша отвечает кадет.
– Бол… бол… ван… ка… как… ты сме… ешь пе… пере… драз… ни… вать… рот… ротного… ко… коман… дира… Ма… марш… в кар… карцер…
Раба Божьего Мельгунова запирают в карцер. Разгневанный командир роты ходит по длинному залу, ожидая полковника Гусева, воспитателя арестованного. После взаимных объяснений выясняется, что Мельгунов тоже заика.
«Паралич» – это сокращенное кадетами имя и отчество единственного в корпусе преподавателя рисования, художника академика Павла Ильича Пузыревского. Павел Ильич был незаурядной личностью, в которой мирно уживались оригинальные противоречия жизни. Физически он представлял из себя квадрат человеческого тела. Маленький, коренастый, плотный он отличался необыкновенной физической силой. Огромная голова была покрыта седеющими путанными волосами, кончик небольшого прямого носа был сильно повернут вправо, мякоть большого пальца правой руки была вырвана и когда-то зашита хирургом. Этим пальцем Павел Ильич ежеминутно поглаживал кончик носа, как бы стараясь выпрямить его. Духовно он был художник с утонченной душой, с дерзким полетом фантазии, влюбленный в свое творчество. Однако это не мешало ему быть непревзойденным вралем. Среди обывателей Симбирска ходила поговорка – «врет, как Пузыревский».
Павел Ильич врал сочно, красиво, безгранно, – врал, как большой художник слова. Почему врал, он наверное и сам не знал. Эту слабость преподавателя, конечно, учли кадеты и в широком масштабе пользовали ее. Низшим баллом, который ставил Павел Ильич за художественные произведения кадет, был 10, и не мудрено, ибо этот балл он фактически ставил самому себе, так как все работы по рисованию исполнялись им самим во время припадков очередного вранья. Сидит класс и с гипсового бюста старательно срисовывает голову Венеры Милосской. Подойдет Павел Ильич.
– Что пишете, милейший?
– Голову Венеры Милосской, Паралич…
– А где же благородство античных линий? Это не Венера, а какая-то рязанская баба… это не античный прямой нос, а картошка из Акмолинской области, – спокойно говорил Павел Ильич, собственным карандашем облагораживая черты рязанской бабы и акмолинской картошки.
– Паралич, а что это у вас с пальцем?
– Это, батенька, было давно… очень давно… Был я тогда в Петербурге слушателем академии… Надо сказать, что я отличался, да и теперь отличаюсь, необыкновенной физической силой… Со мной едва ли мог состязаться покойный Император Александр 3-ий… Иду я как-то вечером по Невскому… кругом сиреневая мгла и колыхающееся море голов нарядной столичной толпы… По торцовой мостовой в ту и другую сторону несутся нарядные экипажи, извозчики, лихачи… Вдруг, близко сзади себя я слышу конский топот… момент и тройка серых в яблоках обезумевших коней с развевающимися гривами и хвостами мчит придворную карету… Через стекло дверцы мелькнуло бледное испуганное лицо великой княгини Марии Павловны… Не размышляя ни секунды, я бросился вперед, рукой схватился за колесо и напряг все свои силы. Злобные кони остановились, как вкопанные…
– Спасибо… Как ваша фамилия? – кротко спросила пришедшая в себя великая княгиня.
– Пузыревский, Павел Ильич…
– Боже мой, вы ранены… вы весь в крови…
– Пустяки, Ваше Величество…
– Нет не пустяки… Сейчас же садитесь в карету… Я отвезу вас в морской госпиталь…
Павел Ильич последним взглядом окинул молчаливый бюст Венеры Милосской, скромно поставил в правом углу планшета цифру 10 и перешел к следующей парте. Там повторилась та же история, с той лишь разницей, что великокняжескую карету несла тройка не серых в яблоках обезумевших коней, а вороных, и в карете сидела не великая княгиня Мария Павловна, а княжна Татьяна Константиновна, которая и увезла раненого Пузыревского в госпиталь Лейб-гвардии Семеновского полка.
«Одноглазый циклоп» – преподаватель немецкого языка Адольф Карлович Зульке. Пастор лютеранской церкви, великолепный органист, хороший педагог, высоченный и не в меру располневший от пива и жирной пищи, Адольф Карлович пользовался общим уважением, как в городе, так и в корпусе. Судьбе однако было угодно обидеть добродушного Адольфа Карловича. Он был почти слепой. На маленьком немецком носу постоянно сидели огромные роговые очки, причем правое стекло было черное и, как говорили, прикрывало глазную впадину отсутствующего правого глаза, а левое, сильно увеличивающее, обыкновенное. Свою огромную фигуру даже в ротном пустом зале он нес как-то боязливо бочком, словно боялся наткнуться на что нибудь и упасть. Ни одного кадета в лицо он, конечно, не знал и в редких экстренных случаях, за вызванного отвечать урок Макаева, отвечал Прибылович, за Джаврова – Иванов. Кадеты быстро учли этот колоссальный недостаток преподавателя и все массовые, незлобные шалости проводились ими на уроках Адольфа Карловича.
Его неоднократно упрашивали сняться в группе кадет. Адольф Карлович принимал величественный вид, исполнял указания шалуна фотографа повернуть голову вправо, немного вверх, влево, но карточек никогда не получил, ибо снимали его, чаще всего, мусорным ящиком.
Конечной целью всех шалостей было желание заставить Адольфа Карловича раскрыть классный журнал и сделать в нем запись.
По положению закрытых военно-учебных заведений преподаватели иностранных языков должны были знать русский язык, и все записи о проступках на уроках должны были записываться в классный журнал на русском языке. Адольф Карлович был необыкновенным мастером этих записей, которые ставили в тупик воспитателя и всегда оставляли безнаказанными кадет.
Спокойно пройдет половина урока, и вдруг с задних парт, чуть слышно, слышится мотив Стеньки Разина. Поют без слов с закрытыми ртами. До предела музыкальный Адольф Карлович просит класс прекратить пение, на что ему со всех сторон заявляют, что это пенье в соседнем классе… батюшка болен… урока нет… и снова продолжают петь.
Финал – журнальная запись… «В классе явственно слышалось пенье про разбойника Стеньку Разина, потонувшего персидскую княжну, а по распросам оказалось, что это не у нас, а в соседнем классе, где болен батюшка Михаил.»
Май… с внутреннего плаца в открытые окна тянется теплый аромат весны… в классе тишина… все со вниманием слушают лекцию Адольфа Карловича… В окно влетает сумасшедший воробей… Шум… крики… в воздух летят тетради, книги… Испуганная птаха кружит под потолком… хэр Зульке призывает к порядку, стучит указкой… Радостный воробей вылетел на свободу через то же окно, через которое влетел в класс… Полная тишина… Расспросы… журнальная запись… «Птичка синичка влетела в окно растворившись. Со смехом летала по классу между тетрадей и книг, пока не нашла свободную жизнь на плацу корпуса. Я возмущался, несколько раз уходил из себя, и после просьбы о протесте, класс вел себя благосклонно тихо.»
ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Конец февраля… Зима идет на убыль… Чаще перепадают солнечные дни, тогда капает с крыш, с хрустальных сосулек, и конским пометом чернеют, пригретые солнцем, дороги улиц. Если день пасмурный, из серой мути неба падает спокойный, пушистый, мокрый снег… Все чаще и чаще воздух дышит ароматом приближающейся весны. Прилетели скворцы… испуганно торопливо устраивают жилища, оглашая воздух нерешительным, застенчивым чириканием. По Тихвинскому взвозу, в клубах пара, мокрые кони с трудом тянут в гору розвальни, груженые голубым, прозрачным льдом. С городских церквей утром и вечером слышится, как святая молитва, призывной колокольный звон: великопостный, грустный, словно говорящий – «покайтесь!.. покайтесь!»
Постными неделями корпуса, как и вообще всех закрытых учебных заведений, были: первая, крестопоклонная и страстная. На этих неделях кадет кормили вполне доброкачественной, вкусной, но постной пищей. Очевидно в силу какой-то давней иеписанной традиции, кадеты всех трех рот искренне ненавидели постные супы, в особенности гороховый, и рыбные котлеты, которые, почему-то назывались – «резиновыми». Эти три недели были сплошной мукой для добродушного и любящего кадет эконома корпуса Федора Алексеевича Дивногорского. Когда ослабевало воспитательское око, его безжалостно травили, награждали эпитетами: «вор», «жулик», а иногда, в виде протеста, просто отказывались есть его стряпню. В случаях массового организованного протеста, которые правда бывали редко, и чаще всего проводились кадетами строевой роты, дело доходило до командира роты и даже до директора корпуса, который ходил от стола к столу, старательно увещевал кадет, с видимым аппетитом ел резиновые котлеты, но не мог похвастаться блестящими результатами. Его авторитет разбивался об упрямый, шаловливый задор молодости.
Остается неизвестным, когда и кем была установлена эта непримиримая ненависть кадет к постному столу, принявшая впоследствии форму традиции, но так же осталось неизвестным имя того сердечного и понимавшего душу молодежи директора, установившего в корпусе другую, удивительно теплую и красивую традицию, – «Вольного чаепития».
Трудно сказать, что руководило сердцем этого доброго человека. Как администратор, которому было вверено воспитание юношества, он был, конечно, неправ, но он был прав в том, что он когда-то был сам кадетом, может быть не в этом, а каком нибудь другом кадетском корпусе, что его сердцу знакомы и близки бунтарские начала молодости.
Эти три постных недели кадетам всех трех рот разрешалось с 4 до 5 вечера пить чай в корпусной столовой, а назывался он «вольным чаем», потому что кадеты 2-ой и строевой роты могли итти на чаепитие группами или в одиночку, и только третья рота шла строем под наблюдением воспитателей. Корпус давал только кипяток и чай, все остальное, и только постное, кадеты должны были покупать на свои деньги. Для этой цели два раза в неделю, в будние дни, от каждой роты отпускали в город за покупками трех кадет, с той лишь разницей, что кадеты 2-ой и 3-ей рот обязательно сопровождались дядьками, тогда как кадеты строевой роты могли итти самостоятельно без какого либо надзора. Заблаговременно на отдельных листках писалась фамилия кадета, перечень того, что надо купить, и вместе с гривенниками, пятиалтынными и полтинниками передавалась сопровождающему дядьке. Все шли на ярмарку, которая открывалась в Симбирске в первый день великого поста и закрывалась в вербную субботу.
Огромные закрытые ряды с постными сластями горели разноцветными огнями лампочек, молодые и бородатые купцы в чистых белых фартуках и нарукавниках приветливо и гостеприимно встречали юных покупателей. Каждый уже жевал какой нибудь глазированный фрукт, сосал леденец, щелкал орехи, а приставленный к дядьке расторопный приказчик быстро отвешивал: рахат-лукум, мед сотовый, белевскую пастилу, вяземские пряники, засахаренную клюкву, рябину и постный зеленый, желтый, розовый сахар.
Все купленное раздавалось по рукам, и к четырем часам огромная столовая корпуса заполнялась кадетами. Особенностью вольного чаепития была какая-то тихая патриархальность, исключающая возможность каких-либо шалостей. Создавалось впечатление, что на эти часы молодость стала разумной, отъявленные шалуны, зачинщики всех проказ, исправились, и в столовой царила великопостная тишина. Трудно сказать, что руководило кадетами: боязнь ли потерять эту привиллегию вольного чая или уважение к этой красивой традиции, уважение к неизвестному большому человеку, введшему, в противовес их неразумной постной шалости, эту традицию, смягчившую острые грани резиновых котлет и горохового супа и поставившую саму шалость в узкие, безобидные рамки. Особенно любил посещать эти чаи директор корпуса, генерал Симашкевич.
Каждый чайный день в столовой строевой роты появлялась монументальная медлительная фигура директора. Он переходил от одного стола к другому, вел с кадетами короткие беседы, и это общение старости с молодостью, подчиненных с начальником, было основой той разумной дисциплины, которой жила строевая рота. Сумрачный с виду, нелюдимый, но умный, генерал Симашкевич не спроста посещал и поддерживал традицию «Вольного чаепития».
ИСПОВЕДЬ
Кадеты говели: строевая рота на Страстной, вторая на Крестопоклонной и третья, малыши, три последних дня первой недели поста. Маленький Жоржик впервые пошел на исповедь. Он и раньше ходил на исповедь, в Саратове, где, во время Японской войны, временно жила семья Брагиных; ходил в маленькую розовую церковь на Московской улице, настоятелем которой и духовным отцом их семьи был беленький старичек, отец Филарет. Но в детском сознании все прежние исповеди, обычно кончавшиеся тем, что отец Филарет вынимал из кармана и вкладывал в его маленькую рученку несколько карамелек, сейчас представлялись ему не настоящими, а игрушечными, и только сегодняшняя исповедь, когда его будет исповедовать чужой батюшка, который не даст ему карамелек, вызывала в его маленькой душе трепет и беспокойство. За час до исповеди он взад и вперед нервно ходил по ротному залу, много раз останавливался у ротного образа, в мыслях стараясь вспомнить все содеянные им грехи.
В церкви было тихо-темно… Так всегда бывает в церкви, когда не горят свечи, а лишь разноцветные желтые, зеленые, красные, синие огоньки лампад струят спокойный свет на спокойные лики икон. Черные с серебром великопостные аналои дышали траурной грустью.
На амвон вышел батюшка, уже не в темно малиновой, как обычно, рясе, а в черной, поверх которой была одета черного бархата с серебряным шитьем эпитрахиль. И сам он весь: его лицо, глаза, борода, безжизненно повисшие кисти рук казались траурными – великопостными.
Отец Михаил долго крестился перед Царскими вратами, изгибал свое большое тело в поклонах, правой рукой почему-то касался пола и неслышно шептал в бороду какую-то молитву. Он повернулся, окинул ряды кадет спокойным взглядом и тихо сказал: – Дети! Когда следующий раз я выйду на амвон, внимательно слушайте молитву, которую я буду читать… Нет человека, дети, который бы жил и не согрешил, и эта молитва просит милосердного Господа отпустить-простить нам наши грехи. Когда буду опускаться на колени, – опускайтесь и вы, когда буду вставать, и вы вставайте… Молитесь, дети, с закрытыми глазами…
Отец Михаил скрылся в алтаре… Началась служба… На левом клиросе торопливо и непонятно что-то читал отец дьякон.
Жоржик стоял напротив образа Серафима Саровского, написанного преподавателем корпуса художником Павлом Ильичем Пузыревским. Говорили, что Пузыревский, большой почитатель преподобного Серафима, специально ездил в Саровскую пустынь, постился, приложился к мощам преподобного, и там в лесу написал этот образ. На фоне лесной дали по узкой тропинке идет сгорбленный старец с крестом на груди, с котомкой за плечами, с самодельным посохом в правой руке и с топором в левой. Сзади старца, словно охраняя его, идет огромный бурый медведь. Большая, усыпанная разноцветными камнями, красная лампада, мягко освещала образ, и в нежно розоватом подсвете живыми казались старец, медведь, и листвой шелестела загадочная даль Саровского леса. Жоржику понравился старец, понравились его добрые глаза, смотревшие прямо в его детскую душу, в его маленькие грехи…
Отец дьякон нараспев закончил чтение. На амвон, как обещал, вышел батюшка. Он три раза перекрестился широким крестом и проникновенно, чеканя каждое слово, начал:
«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, не даждь ми.»
Церковь огласилась шумом земного поклона.
«Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу твоему.»
Новый земной поклон, новый шум и снова тишина.
«Ей Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков, аминь,»
Третий поклон… Батюшка ушел в алтарь. Волна разочарования пробежала по рядам кадет. Малыши внимательно слушали молитву, глубокий смысл которой, конечно, был ими не понят. Но молитва понравилась им, понравилась, потому что много раз им приходилось опускаться на колени и снова подыматься…
Кончилась служба… Батюшка с крестом вышел на правый клирос и приступил к исповеди. Кадет 3-ей роты, то ли следуя примеру Иоанна Кронштадского, то ли учитывая невинность и несознательность детских грехов, отец Михаил исповедывал группами в десять человек. Жоржик со своими друзьями – Лисичкиным и Упорниковым попали в третью группу. Отец Михаил расставил кадет полукругом у черного аналоя, широко развернул свои большие руки, обнял детей за шеи, так что их головы касались друг друга и, низко опустив свою голову, что то пошептал себе в бороду.
– Кому посмотрю в глаза, называй свое имя, – тихо произнес отец Михаил. – Дети, я, только что сказал вам, что нет человека, который бы жил и не согрешил, и милосердный Бог дал нам исповедь, как очищение от содеянных вольных и невольных грехов. А что такое грех?.. Это нарушение заповедей Господних… Господь сказал – «не укради… не бери чужого.»
Батюшка встретился с бегающими, явно обличающими себя, глазами известного проказника Дагмарова.
– Александр! – чуть слышно пролепетал кадет.
– А ты зачем у приятеля тайком берешь конфеты? А тебе не стыдно, что потом этот же приятель угощает тебя и жалуется тебе, что кто-то потихоньку берет у него конфеты… Ты думаешь, что обманул его? Ты нарушил заповедь Господню – «не укради.» Никогда не бери чужого, а приятелю сознайся…
Догмаров, потный от волнения, слушал обличительные слова батюшки и никак не мог уразуметь одного, – почему батюшка все знает?.. В мозгу мелькнула мысль – «наверно батюшка святой.»
– Господь сказал – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя.» Отец Михаил приблизил свое лицо к глазам известного фискала Кунина.
– Владимир! – стараясь не смотреть батюшке в глаза проронил кадет.
– Ты зачем выдал воспитателю шалость друга? Боялся быть наказанным за него? Лучше пострадать за друга, чем тайком выдать его… Он сам сознается, а тебе заплатит во много раз больше…. Ябедничество тяжелый грех… Господь сказал: – «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, якоже возлюбих вы. Больше сия любве никтоже не имать, аще кто душу свою положит за други своя.» – Отец Михаил перевел взгляд на Жоржика.
– Георгий…
– Ты маму любишь?
– Люблю…
– А почему ты огорчаешь ее?.. Плохо учишься, шалишь, редко пишешь ей… Маму в своих сердцах вы должны носить как святыню, как что то прекрасное, чисто, светлое… Кто дал вам жизнь?.. Мама… Кто отдал вам всю свою жизнь?.. Кто согревает вас теплом, заботой, лаской?.. Мама… Господь сказал: – «Чти отца и матерь свою.» А что такое чти?.. Люби, уважай, не огорчай, ничего никогда не скрывай от мамы, потому что для нее ты всегда останешься маленьким ребенком, которого она всю жизнь нянчит в своем сердце…
– Геннадий!..
– Господь сказал – «Не убий».
. . . . . . . . . . . .
…Отец Михаил укладывал свою исповедь с одной стороны в рамки детских невинных грехов, с другой в рамки заповедей Господних и простыми, доступными их разуму словами, пробуждал в детях раскаяние, понимание хорошего и дурного, добра и зла. Молодые сердца Геннадиев, Михаилов, Владимиров, Георгиев, учащенно клокотали в груди, глаза подергивались слезами содеянных грехов, и каждый в мыслях своих давал себе слово больше их не делать.
– Становитесь на колени, сделайте земной поклон и слушайте молитву: – сказал отец Михаил, сам опускаясь на колени. Он накрыл разгоряченные головы маленьких грешников эпитрахилью, от которой приятно пахло горьковатым, святым ладаном.
«Господь и Бог наш Иисус Христос благодатию и щедротами своего человеколюбия, да простит вам все согрешения ваши, и аз недостойный иерей, властию Его мне данною, прощаю и разрешаю вас от всех грехов ваших, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.»








