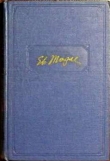Текст книги "История Французской революции (1789 по 1814 )"
Автор книги: Франсуа Минье
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 39 страниц)
В руках этих людей была сосредоточена вся революционная власть. Предлагая учредить впредь до заключения миpa власть децемвиров, Сен-Жюст не скрывал ни побуждения, ни цели этой диктатуры. „Вам нечего больше щадить врагов нового порядка, – какой бы то ни было ценой, а свобода должна остаться победительницей. Нельзя устанавливать конституции при обстоятельствах, в которых ныне находится республика, она стала бы защитой всех покушений на свободу, потому что ей недоставало бы силы, необходимой для предотвращения их. Положение нынешнего правительства также очень затруднительно, вы слишком далеки от всех покушений; нужно, чтобы меч закона действовал везде быстро, и ваша рука была бы повсюду!“ Вот как создалось это страшное могущество, поглотившее сперва врагов Горы, потом Гору и Парижскую коммуну и кончившее тем, что поглотило само себя. Комитет действовал от имени Конвента, служившего ему орудием. Он сам назначал и увольнял генералов, министров, комиссаров, судей и присяжных; он уничтожал партии и брал на себя инициативу всех мер. Он распоряжался самовластно в департаментах; при помощи комиссаров, от него в зависимости находились армии и генералы; он распоряжался личной свободой каждого, благодаря закону о подозреваемых, и с помощью Революционного трибунала – существованием всех граждан, посредством реквизиций и таксы на хлеб – состоянием каждого. При посредстве порабощенного Конвента он, в случае нужды, постановлял обвинения против своих собственных членов. Диктатура опиралась на толпу, которая разглагольствовала в клубах и главенствовала в революционных комитетах, за что получала ежедневную плату и пищу при помощи „максимума“. Она держала сторону этого страшного режима, покровительствовавшего ее страстям, дававшего ей первое место в государстве и, казалось, действовавшего исключительно в ее интересах.
Новаторы, отделенные войной и собственными законами от всех других государств и других форм правления, желали еще больше подчеркнуть свое отличие. Они создали для неслыханной революции новое летосчисление, изменили деление года, названия месяцев и дней[40]. Они заменили христианский календарь республиканским, неделю – декадой и назначили днем отдыха не воскресенье, а каждый десятый день. Новое летосчисление было введено со 2 сентября 1792 г., дня основания республики. В году было двенадцать месяцев, в каждом месяце по тридцати дней[41]. Начинались они 22 сентября в следующем порядке: вандемьер, брюмер, фример – для осени; нивоз, плювиоз, вантоз – для зимы; жерминаль, флореаль и прериаль – для весны; мессидор, термидор и фрюктидор – для лета. В каждом месяце было три декады; в каждой декаде десять дней, и каждый день назывался по своему месту в декаде. Они назывались: примиди, дуоди, триди, квартиди, квинтиди, секстиди, септиди, котиди, нониди и декади. Пять полных дней были отнесены к концу года, довершая недостающие дни месяцев. Они назывались санкюлотидами и были посвящены: первый – празднованию Гения, второй – Труда, третий – Действий, четвертый – Вознаграждений, пятый – Общественного мнения. Конституция 1793 г. привела к республиканскому календарю, а этот последний – к отмене христианских обрядов. Как мы скоро увидим, Коммуна и Комитет общественного спасения предложили, в конце концов, каждый свою религию. Первая – поклонение Разуму, а второй – поклонение Верховному Существу. Но предварительно нам нужно дать отчет о междоусобной борьбе творцов катастрофы 31 мая.
Парижская коммуна и Гора совместно произвели переворот против Жиронды, но воспользовался им только один комитет. В продолжение протекших пяти месяцев Комитет, принявший все меры к обороне государства, стал, естественно, первой силой республики. Так как борьба считалась почти законченной, то Коммуна стала стремиться к преобладанию над комитетом, а Гора к тому, чтобы комитет не господствовал над ней. Партия Коммуны соединяла в себе самых крайних революционеров. Ее цели были противоположны целям Комитета общественного спасения. Она хотела заменить диктатуру Конвента самым крайним местным народным правлением, а религию – самым грубым неверием. Политическая анархия и религиозный атеизм – вот каковы были взгляды этой партии и средства, которыми она хотела утвердить свое преобладание. Революция явилась следствием различных систем, волновавших век, ее породивший. Во все время кризиса во Франции крайний католицизм олицетворял в себе непокорное духовенство; янсенизм воплотился в присягнувшем духовенстве; философский деизм – в поклонении Высшему Существу, установленном Комитетом общественного спасения; материализм друзей Гольбаха – в поклонении Разуму и Природе, установленном Коммуной. То же было и с политическими мнениями, начиная со сторонников старого королевского режима до поклонников самого крайнего деспотизма из партии Коммуны. Эта последняя потеряла в марте главную поддержку и своего настоящего вождя, в то время, как Комитет общественного спасения сохранил своего, – и это был Робеспьер. Муниципальной партией руководили люди, пользовавшиеся большой любовью низших классов: Шометт и его помощник Эрбер были ее политическими вождями; Ронсен, командовавший революционными войсками, ее генералом, атеист Анахарсис Клоотс – ее апостолом. Она опиралась в городских секциях на революционные комитеты, где находилось много темных личностей иностранного происхождения, подозреваемых в том, что они английские агенты, посланные, чтобы погубить республику, доведя ее до крайности анархии. Клуб кордельеров был составлен исключительно из сторонников Коммуны. Старые кордельеры Дантона, так властно помогавшие перевороту 10 августа и образовавшие городское управление того времени, перешли теперь в Конвент и правительство, а в клубе их заменили члены, которых они с презрением называли „патриотами третьего призыва“.
Партия Эбера, распространявшая газету „Папаша Дюшен“ (Père Duchêne), отличавшуюся неблагопристойностью языка и проявлением низких злых чувств, – она высмеивала осужденных даже своей партии, – делала громадные успехи. Она заставила епископа Парижского и его викариев, в присутствии Конвента, отречься от христианства, а Конвент – издать указ о замене католической религии поклонением Разуму. Церкви были закрыты или обращены в храмы Разума, и во всех городах назначались празднества, бывшие соблазнительными сценами атеизма Комитет общественного спасения был встревожен этой крайней революционной партией и решился ее остановить или уничтожить. Робеспьер вскоре напал на нее с трибуны собрания (15 фримера II года – 5 декабря 1793): „Граждане, представители народа, короли, соединившиеся против республики, ведут с нами войну с помощью армии и своих происков, но мы противопоставили их войскам более славные войска, их проискам – неусыпность и ужас национального правосудия. Они внимательно следят за возможностью связать нити своих тайных замыслов, разорванных рукой патриотизма. Они ловко умеют обратить орудие свободы против самой свободы. Эмиссары врагов Франции работают все время, чтобы низвергнуть республику посредством республиканства же и зажечь гражданскую войну посредством философии“. Далее он указал на связь между крайними революционерами Коммуны и внутренними врагами республики. „Вы должны, – сказал он Конвенту, – остановить крайности и безумства, совпадающие с планами иностранного заговора. Я требую, чтобы вы запретили местным властям (Парижской коммуне) служить нашим врагам необдуманными мерами, и чтобы никакая вооруженная сила не смела вмешиваться во все, относящееся к области религиозных убеждений“. Конвент, который незадолго перед тем рукоплескал отречениям от христианства но требованию Коммуны, теперь постановил, согласно требованию Робеспьера, что всякие насильственные меры против свободы совести воспрещаются.
Комитет общественного спасения был слишком силен, чтобы не восторжествовать над Коммуной. Но в то же время приходилось сопротивляться умеренной фракции Горы, требовавшей прекращения революционного правления и диктатуры комитетов. Революционное правительство было создано, чтобы укрощать партии, а диктатура, чтобы окончательно их победить. А так как ни обуздание, ни победа не казались теперь необходимыми Дантону и его партии, то они и старались возвратить законный порядок и независимость Конвента. Они хотели победить партию Коммуны, остановить действия Революционного трибунала, очистить тюрьмы, наполненные подозреваемыми, ограничить власть комитетов или распустить их совсем. Эти планы милосердия, человеколюбия и законного правления были составлены Дантоном, Филиппо, Камилем Демуленом, Фабром д'Эглантином, Лакруа, генералом Вестерманом и всеми друзьями Дантона. Они хотели прежде всего, чтобы республика удержала за собой поле сражения; но, победив, они желали водворения мира.
Эта партия, сделавшись умеренной, потеряла власть. Она вышла из участия в управлении или позволила партии Робеспьера исключить себя оттуда. К тому же поведение Дантона после 31 мая казалось подозрительным в глазах горячих патриотов. Он действовал вяло в этот день, а позже он порицал осуждение двадцати двух жирондистов. Его начали упрекать в беспорядочной жизни, в продажности, в переходе от одной партии к другой и несвоевременной умеренности. Чтобы предотвратить грозу, он уехал в Арси-сюр-Об, свою родину, и там, казалось, все забыл, отдыхая. Во время его отсутствия партия Эбера сделала громадные успехи, и друзья Дантона поспешно вызвали его обратно. Он вернулся в начале фримера (декабря). Филиппо тогда выразил протест против способа ведения войны в Вандее; генерал Вестерман, отличившийся в ней и только что смещенный Комитетом общественного спасения, поддержал Филиппо. Камиль Демулен издал первые выпуски своего „Старого кордельера“. Этот блестящий и горячий молодой человек следовал за всеми движениями революции, начиная с 14 июля до 31 мая, одобряя все ее крайности и жестокости. Его душа была нежная и кроткая, хотя он был вспыльчив, и его шутки носили часто жестокий характер. Он одобрял революционное правление, так как считал его неизбежным при основании республики. Он помогал гибели Жиронды, боясь несогласия в республике. Для нее он жертвовал своими сомнениями, потребностями сердца, справедливостью и человеколюбием. Он отдал все своей партии, думая отдать все республике; но теперь он не мог уже более ни молчать, ни одобрять. Все свое увлечение, с которым он служил революции, он употребил, правда, немного поздно, против тех, кто губил революцию, обагряя ее кровью. В своем журнале „Старый кордельер“ он говорил о свободе с увлекательным красноречием, а о людях – с колкой насмешкой. Но вскоре он восстановил против себя и фанатиков, и диктаторов, призывая правительство к умеренности, милосердию и справедливости.
Он представил поразительную картину современной тирании, говоря как будто бы о тирании давно прошедшей; он заимствовал свои примеры из Тацита. „В это время, – говорил он, – разговоры стали государственными преступлениями. Отсюда только один шаг, чтобы обратить в преступления простые взгляды, грусть, участие, вздохи, даже самое молчание. Кремуций Корд назвал Брута и Кассия последними римлянами, и это было сочтено за оскорбление величества или контрреволюционную попытку. Таким же преступлением было признано то, что у одного из потомков Кассия был портрет его прадеда, и то, что Мамерк Скавр написал трагедию, где нашли два стиха как будто бы двусмысленных, и то, что Торкват Силан тратил много денег, и то, что Помпоний дал убежище другу Сеяну в одной из своих вилл, и то, когда жаловались на несчастные времена, потому что это считалось обвинением правительства, и то, что мать консула Фузия Гемина оплакивала мрачную смерть своего сына!..
Надо было выказывать радость при кончине друга или родственника, если не хотел собственной гибели! В царствование Нерона многие родственники умерщвленных им ходили возносить благодарственные моления богам, а уж довольное-то лицо необходимо было иметь всякому; боялись, что самый страх будет поставлен в вину. Все возбуждало подозрения в тиране. Если гражданин обладает любовью народа, это – соперник императора, он может возбудить междоусобную войну и, следовательно, подозрителен. Если же кто избегает популярности и держится в углу, у своего очага, то эта уединенная жизнь обращает на себя внимание, – он подозрителен. Если вы богаты, то тут усматривают опасность, чтобы вы не развратили народ своей щедростью, – вы подозрительны. Если вы бедны, за вами следует особенно наблюдать, потому что нет более предприимчивого человека, чем тот, кто ничего не имеет, – вы снова подозрительны. Если вы обладаете мрачным, меланхолическим характером и небрежной наружностью, то это значит, что вас огорчает успешный ход общественных дел, – вы подозрительны. Если гражданин веселится и с аппетитом ест, то это оттого, что государь чувствует себя дурно, – он подозрителен. Если гражданин добродетелен, строгих правил, то он этим осуждает двор, а потому подозрителен. Всякий философ, оратор, поэт подозрителен, если он пользуется славой бо́льшей, чем правитель государства. Наконец, если кто добился репутации на войне, тот опасен вдвойне своим талантом; следует или отделаться от него, или удалить его от армии, ибо он подозрителен.
Естественные смерти знаменитого человека или просто должностного лица стали настолько редкими, что историки заносили их, как события особого интереса, на память веков. Смерть стольких невинных и почтенных граждан казалась меньшим бедствием, чем наглость и соблазнительное счастье его доносчиков и убийц. Чуть ли не каждый день доносчик, личность которого была священна и неприкосновенна, торжественно входил во дворец казненного и получал его богатое наследство. Все они украшали себя знаменитыми именами, называли себя Коттой, Сципионом, Регулом, Сервием Севером. Желая сделать свой дебют известным, некий Серен поднял обвинение в контрреволюции против своего старого отца, уже изгнанного; после этого он стал гордо называть себя Брутом. Каковы были обвинители, таковы и судьи: суд, задача которого охранять жизни и имущества, превратился в бойню, где все, что носило имя казни и конфискации, было не чем иным, как грабежом, убийством“.
Камиль Демулен не ограничивался нападками на революционное диктаторское управление; он требовал его уничтожения; он предлагал, как единственное средство окончить революцию и умиротворить все партии, учредить Комитет милосердия. Его журнал имел большое влияние на общественное мнение, поднимая в известной степени смелость и давая надежду. Со всех сторон только и слышалось: читали ли вы „Старый кордельер“. В то же время Фабр д'Эглантин, Лакруа и Бурдон из Уазы подбивали Конвент сбросить с себя иго комитета. Они старались соединить Гору с правой, чтобы восстановить свободу и полное значение Собрания.
Не рассчитывая сразу справиться со всемогущими комитетами, они старались уничтожить их постепенно; только этим путем и на самом деле можно было рассчитывать чего-нибудь добиться. Следовало добиться перемены в общественном мнении и тем ободрить Собрание, получив нравственную поддержку против революционной силы и противопоставя твердую власть Конвента влиянию и власти комитетов. Монтаньяры-дантонисты старались отдалить Робеспьера от прочих децемвиров; Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа и Сен-Жюст казались им бесконечно преданными системе террора; Барер держался ее по слабости, Кутон – из преданности к Робеспьеру. Дантонисты думали привлечь Робеспьера на свою сторону, благодаря его дружбе с Дантоном, любви к порядку, строгому образу жизни, публичному исповеданию добродетели и, наконец, благодаря его гордости. Он защищал семьдесят три арестованных депутата Жиронды против комитета якобинцев; он осмеливался напасть на Клоотса и Эбера, как на крайних революционеров, и заставил Конвент декретировать поклонение Верховному Существу. Робеспьер обладал самой громадной популярностью; он был как бы руководителем республики и диктатором общественного мнения; привлекая его на свою сторону, дантонисты надеялись прикончить с комитетами и Парижской коммуной, не повредив этим делу революции.
Дантон виделся с Робеспьером после возвращения из Арси-сюр-Об; казалось, они сговорились между собой, и Робеспьер даже защищал его от нападок якобинцев. Робеспьер читал и исправлял „Старого кордельера“, одобряя, по-видимому, этот журнал. В то же время он стал держаться умеренных взглядов, что взволновало всех, кто составлял революционное правительство или его поддерживал. Бийо-Варенн и Сен-Жюст открыто одобряли политику комитетов. Говоря о Робеспьере, Демулен выразился: „Он так много о себе думает, что носит голову на плечах с таким видом, будто это Святое причастие“. – „А я, – возразил Сен-Жюст, – заставлю его носить голову наподобие святого Дионисия“[42]. Колло д'Эрбуа, уезжавший по поручению Конвента, между тем вернулся в Париж. Он покровительствовал партии анархистов, и его возвращение придало ей снова утерянную было храбрость. Якобинцы вычеркнули Камиля Демулена из своих списков, а Барер от лица правительства напал на него в Конвенте. Он не пощадил и Робеспьера; его обвиняли в умеренности, и толпа на сходках роптала против него.
Влияние его, однако, было громадно, и ни одна партия не могла не только победить, но даже напасть на другую без его помощи; обеим партиям приходилось у Робеспьера заискивать. Пользуясь таким выгодным положением, Робеспьер держался между двумя партиями, не склоняясь окончательно ни к одной и стараясь победить их вождей одного за другим.
Теперь он решился пожертвовать Коммуной и анархистами, а комитеты – Горой и умеренными. Произошло соглашение; Робеспьер выдал Дантона, Демулена и их друзей членам Комитета, а эти, в свою очередь, выдали ему Эбера, Клоотса, Шометта, Ронсена и их близких. Покровительствуя партии умеренных, Робеспьер этим подготовил гибель анархистов и, таким образом, добился двух целей, удовлетворявших его гордости и желанию господствовать: он уничтожил опасную партию и оградил себя от соперничавшей с ним революционной знаменитости.
К этим партийным соображениям присоединилась еще одна забота об общественном спасении. Видя всюду всеобщее ожесточение против республики и далеко не окончательную ее победу, комитеты не считали своевременным мир ни с Европой, ни с внутренними мятежниками, а продолжать войну без диктатуры им казалось невозможным. К тому же они считали эбертистов партией непристойной, развращавшей народ и помогавшей водворением анархии иностранцам, а дантонистов партией, политическая бесцветность и безнравственная частная жизнь которой возбуждали разговоры и наводили тень на всю республику. Правительство устами Барера предложило собранию продолжение войны еще с большей настойчивостью, чем прежде, а Робеспьер несколькими днями позже потребовал поддержки революционного правительства. Перед этим в Клубе якобинцев он говорил против журнала „Старый кордельер“, поддерживаемого им прежде. Вот его подлинные слова:
„Извне нас окружают тираны, внутри приверженцы тирании составляют заговоры и будут этим заниматься до тех пор, пока не лишатся надежды на совершение этого преступления. Надо подавить внутренних и внешних врагов революции или погибнуть вместе с ней. При таком положении дел первой задачей нашей политики должно быть управление народом с помощью разума, а врагами народа – с помощью ужаса. Если двигательной пружиной народного правления в мирное время служит добродетель, то во время революции должны служить в одно и то же время и добродетель, и ужас, – добродетель, без которой страх пагубен, и ужас, без которого добродетель бессильна. Обуздайте врагов свободы страхом, и вы будете правы, ибо вы основатели республики. Революционное правление есть деспотизм свободы, направленный против тирании“.
В той же речи Робеспьер заявил, что обе партии, как умеренных, так и крайних революционеров, желают погубить республику. „Они идут – сказал он, – под разными знаменами и разными дорогами, но к одной и той же цели: эта цель – уничтожение народного правления, гибель Конвента и торжество тирании! Одна из этих партий толкает нас к слабости, другая к крайности“. Таким образом, Робеспьер подготовлял умы к осуждению обеих партий, и его речь, одобренная без прений, была разослана во все народные общества, ко всем властям и по всем войскам. После этих первых проявлений вражды Дантон, не прерывавший сношений с Робеспьером, потребовал у него свидания; оно произошло у Робеспьера, но оба были настроены холодно и недружелюбно. Дантон горячо жаловался, а Робеспьер держался осторожно и скрытно. „Я знаю, – говорил Дантон, – всю ненависть ко мне Комитета, но я не боюсь ее“. – „Вы ошибаетесь, – сказал Робеспьер, – против вас нет никаких дурных намерений, но лучше было бы вам объясниться“. – „Объясниться, объясниться, – возразил Дантон, – но для этого нужно доверие“, – и, видя омрачившееся при этих словах лицо Робеспьера, он прибавил: „Без сомнения, надо обуздать роялистов, но мы должны наносить только полезные для республики удары, а не смешивать невинных с виновными“. – „А кто сказал вам, – возразил с колкостью Робеспьер, – что кто-нибудь погиб безвинно?“ Дантон повернулся тогда к сопровождавшему его другу и сказал с горькой насмешкой: „Что ты на это скажешь? Никто не погиб безвинно?“ После этих слов они разошлись; ни о какой дружбе между ними не могло быть больше и речи. Несколько дней спустя Сен-Жюст взошел на трибуну и более чем когда-либо угрожал всем диссидентам, как умеренным, так и крайним. „Граждане, – говорил он, – вы сами пожелали республики; если теперь вы не примете все то, что ее составляет, она похоронит весь народ под своими развалинами. Республика требует уничтожения всего, что ей враждебно. Виноваты перед республикой те, кто сочувствует заключенным, кто не стремится к добродетелям и не хочет террора. Чего добиваются те, кто не считает добродетель необходимой для счастья (анархисты)? Чего хотят те, кто не желает террора против людей вредных (умеренные)? Чего хочет тот, кто рыщет по площадям и по другим публичным местам, чтобы дать себя заметить и заставить говорить о себе: видишь, вот идет такой-то (Дантон)? Все эти люди погибнут; погибнут все, гоняющиеся за успехом, принимающие растерянный вид и выдающие себя за патриотов, чтобы быть подкупленными иностранцами или получить место от правительства; погибнут люди снисходительные, желающие спасти преступников, погибнут друзья иностранцев, желающие принять строгость против защитников народа! Уже приняты все меры, чтобы завладеть виновными: они окружены со всех сторон. Возблагодарим гений французского народа за то, что свобода вышла торжествующей из величайшего покушения, когда-либо замышлявшегося против нее. Развитие этого обширного заговора, ужас, им внушаемый, и меры, вам против него предложенные, избавят республику и землю от всех заговорщиков!..“
Сен-Жюст принудил Конвент дать правительству обширную власть над заговорщиками Коммуны; Конвент декретировал господство справедливости и честности. Анархисты не сумели принять никаких мер к своей защите. Они закрыли покрывалом Декларацию прав человека в Клубе кордельеров и старались произвести мятеж, но это им не удалось ввиду отсутствия единодушия и энергии. Народ не двинулся на их защиту, и Комитет при посредстве своего главнокомандующего Анрио захватил Эбера, революционного генерала Ронсена, Анахарсиса Клоотса, Моморо, Венсана и других. Их предали суду Революционного трибунала в качестве иностранных агентов и заговорщиков, стремившихся установить в государстве власть тирана. Этим тираном должен быть Паш, в должности великого судьи. Смелость покинула вождей анархистов; после ареста они защищались и умерли большей частью без мужества. Комитет общественного спасения распустил революционную армию, уменьшил власть секционных комитетов и заставил Парижскую коммуну явиться в Конвент благодарить за арест и казнь заговорщиков, ее соучастников.
Настало время Дантону подумать о защите; гонение на Коммуну не предвещало ничего хорошего и для него. Ему советовали быть осторожным и принять свои меры, но ему не удалось уничтожить диктаторскую власть, подымая против нес общественное мнение и Конвент при помощи журналистов и своих друзей монтаньяров. Где было ему искать опоры? Конвент склонялся в его пользу, но он был порабощен революционной властью комитетов. Дантону же, не заручившемуся поддержкой ни правительства, ни Конвента, ни Коммуны, ни клубов, пришлось ждать своего осуждения, ничего не делая, чтобы его избегнуть.
Друзья умоляли его защищаться. „Я предпочитаю, – отвечал он, – быть гильотинированным, чем самому гильотинировать; к тому же собственную жизнь защищать не стоит, а человечество мне надоело“. – „Члены Конвента ищут твоей смерти!“ – „Если так… (в сильном гневе), если когда-нибудь… Если Бийо… если Робеспьер… Их будут проклинать как тиранов. Дом Робеспьера будет срыт до основания и на его месте поставят позорный столб в отомщение злодейства!.. Мои друзья скажут обо мне, что я был хорошим отцом, хорошим другом, хорошим гражданином, и они меня не забудут“. – „Ты можешь избегнуть…“ – „Я предпочитаю лучше быть гильотинированным, чем гильотинировать других!“ – „Тебе следует в таком случае уехать!“ – „Уехать… уехать… Да разве можно унести родину на подошве своей обуви“.
Дантону оставалось последнее средство: ему следовало возвысить свой голос, бывший таким знакомым и могучим, следовало обличить Робеспьера и Комитет и восстановить Конвент против их тирании. Его сильно побуждали к этому, но он знал, как трудно свергнуть раз установившуюся и сильную власть; он слишком хорошо знал покорность и страх Собрания, чтобы рассчитывать на действенность этого средства. Он ждал все время в надежде, что враги остановятся перед осуждением такого человека, как он. 10 жерминаля ему пришли сказать, что об его аресте поднят вопрос в Комитете общественного спасения, и еще раз убеждали его бежать. Он задумался на минуту, но потом сказал: „Они не посмеют“. Ночью его дом был окружен, его арестовали и отправили в Люксембургскую тюрьму вместе с Камилем Демуленом, Филиппо, Лакруа и Вестерманом. При входе он дружески приветствовал заключенных, теснившихся вокруг него. „Господа, – сказал он им, – я надеялся в непродолжительном времени выпустить вас отсюда, но вместо того сам попал к вам, и я не знаю теперь, чем все это кончится“. Час спустя он был переведен в секретную камеру, где незадолго перед тем содержался Эбер и куда вскоре затем был посажен Робеспьер. Там, предаваясь размышлениям и сожалениям, он сказал: „Как раз год тому назад я помог учреждению революционного судилища, но да простит мне Бог и люди за это, – я никогда не думал сделать его бичом человечества“.
Арест Дантона возбудил мрачное беспокойство и всеобщий ропот. На другой день, при открытии заседания в Конвенте, депутаты шепотом с ужасом спрашивали друг у друга, что вызвало это новое насилие над народными представителями. „Граждане, – сказал Лежандр, – четыре члена этого собрания сегодня ночью арестованы; я знаю, что Дантон был в их числе, но имена остальных мне неизвестны. Граждане, я объявляю, что считаю Дантона таким же невинным, как себя, и, однако, он в оковах. Вероятно, опасались, чтобы его ответы не уничтожили обвинений, взводимых на него; я требую поэтому, чтобы ранее заслушания доклада о происшедшем заключенные были вызваны сюда и выслушаны!“ Это предложение было принято благоприятно и ободрило на некоторое время Собрание. Несколько членов предложили голосовать его, но это хорошее настроение длилось недолго. Показался Робеспьер на трибуне. „Судя по давно уже небывалому волнению, царящему в этом собрании, волнению, вызванному только что заслушанными словами, – сказал он, – надо думать, что здесь дело идет о важных вещах, и в самом деле вопрос заключается в том, одержат ли сегодня несколько человек верх над отечеством. Мы увидим сегодня, сумеет ли Конвент разбить уже давно подгнивший идол, или он в своем падении уничтожит не только Конвент, но и французский народ“. Этих нескольких слов Робеспьера было достаточно, чтобы водворить тишину и повиновение в Собрании, сдержать друзей Дантона, а Лежандра заставить взять назад свое предложение. Тотчас после этого взошел в залу Сен-Жюст в сопровождении других членов Комитета. Он прочел длинный доклад об арестованных депутатах, в котором они обвинялись за свои политические воззрения, за публичную деятельность, за частную жизнь, даже за предполагаемые намерения; в заключение при помощи неправдоподобных, но тонких сближений арестованные выставлялись заговорщиками и слугами всех партий. Собрание выслушало доклад в полном молчании и постановило единогласно и даже среди аплодисментов считать Дантона и его друзей виновными. Каждый старался выиграть время у тирании и, выдавая ей голову близких, спасти тем свою собственную.
Обвиняемые были приведены перед Революционный трибунал; они появились перед ним с гордым и смелым видом и выказали в своих речах необыкновенную смелость и полное презрение к своим судьям. Дантон на обычный вопрос президента Дюма об имени, летах и местожительстве отвечал: „Я Дантон и довольно известен по революции; мне тридцать пять лет; моим жилищем скоро будет небытие, но мое имя будет жить в Пантеоне истории“. То презрительные, то резкие ответы Дантона, холодные и логические рассуждения Лакруа, суровость Филиппо и пылкость Демулена начали волновать народ. Но обвиняемые были поставлены „вне прений“, под предлогом недостаточного уважения подсудимых к суду, и их осудили, даже не выслушав. „Нами жертвуют честолюбию нескольких подлых разбойников, – сказал Дантон, – но недолго будут они наслаждаться плодами своей преступной победы. Я увлекаю за собой Робеспьера… Робеспьер последует за мной!“ Все обвиняемые были отведены в Консьержери, а оттуда на эшафот.
На казнь они шли с твердостью, обычной в то время. Призвано было много войска, и сопровождавший их конвой был многочислен. Толпа, обыкновенно шумная и выражающая свое одобрение, была молчалива. Камиль Демулен, сидя уже на роковой колеснице, все еще удивлялся своему осуждению и не мог его понять. „Вот, – сказал он, – награда, предназначенная первому апостолу свободы.“ Дантон держал себя гордо и обводил спокойным взором окружающих. На ступеньках эшафота он на минуту смягчился. „О моя дорогая жена, – вскричал он, – никогда я больше не увижу тебя…“ Потом, спохватившись, прибавил: „Дантон, мужайся!“ Так погибли поздние, но последние защитники человеколюбия и умеренности, последние, желавшие мира для одержавших верх в революции и милосердия для побежденных. После них ни один голос не раздавался против диктатуры террора; он наносил усиленные и безмолвные удары с одного конца Франции до другого. Жирондисты хотели предупредить этот насильственный режим, дантонисты – задержать его; все они погибли, а победителям чем больше приходилось убивать жертв, тем больше они насчитывали врагов. На этом кровавом пути можно остановиться, только дойдя до собственной гибели. Децемвиры, после окончательного уничтожения жирондистов, написали на своем знамени террор; после гибели эбертистов – справедливость и честность, ибо эбертисты – порочные бунтовщики; после гибели дантонистов провозглашено было господство террора и всех добродетелей, потому что дантонисты считались людьми снисходительными и безнравственными[43].