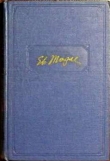Текст книги "История Французской революции (1789 по 1814 )"
Автор книги: Франсуа Минье
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 39 страниц)
После такого акта насилия раздумывать больше было нельзя. Дюмурье предпринял второе нападение на Конде, но опять без успеха; он хотел увлечь армию за собой в измену, но армия не пошла за ним. Солдаты еще долгое время оказывали предпочтение республике перед генералом; приверженность к революции не потеряла еще своего пыла, а гражданская власть своего значения. Дюмурье, объявив себя против Конвента, испытал ту же участь, что Лафайет, ставший противником Законодательного собрания, и Буйе, пошедший против Собрания учредительного. И не только Дюмурье, но даже генерал, соединивший в себе твердость Буйе с патриотизмом и популярностью Лафайета и с победами Дюмурье, в это время непременно потерпел бы неудачу. Революция в связи с вызванным ею движением неизбежно должна была быть сильнее партий, генералов и Европы. Дюмурье не оставалось ничего другого, как перейти к неприятелю; он перешел в австрийский лагерь вместе с герцогом Шартрским, полковником Тувено и двумя эскадронами французской конницы; остальная часть его армии направилась в Фамарский лагерь и соединилась там с войсками, бывшими под начальством Дампьера.
Конвент, узнав об аресте комиссаров, объявил свои заседания непрерывными, признал Дюмурье изменником отечеству, разрешил всякому гражданину безнаказанно убить его, оценил его голову, учредил пресловутый Комитет общественного спасения и изгнал из республики герцога Орлеанского и всех Бурбонов. Хотя в этом случае жирондисты нападали на Дюмурье не менее сильно, чем монтаньяры, их обвинили в сообществе с ним, и к прежним винам их, таким образом, прибавилась новая. Враги их со дня на день становились все более и более могущественными и особенно страшны они становились в минуты общественной опасности. Все время и во всех пунктах борьбы между двумя партиями они одерживали верх. Им удалось остановить преследования за сентябрьские убийства; они узаконили или по крайней мере допустили узурпацию власти Парижской коммуной; они добились сначала суда, а затем и казни Людовика XVI; по их проискам остались безнаказанными февральские грабежи и заговор 10 марта; они добились, вопреки жирондистам, учреждения революционного судилища; они, внушая своими действиями отвращение, принудили Ролана выйти из министерства; они восторжествовали над Дюмурье. Им оставалось отнять у жирондистов их последнее прибежище – Конвент: этого они начали стараться достичь 10 апреля и достигли 2 июня.
Робеспьер поименно преследовал Бриссо, Гаде, Верньо, Петиона и Жансонне в Конвенте; Марат обвинял их на народных собраниях. В качестве президента Клуба якобинцев он составил послание к департаментам, в котором призывал гром петиций и обвинений – против изменников и неверных выборных народа, желавших спасти короля, вотировавших за апелляцию к народу или за тюремное заключение. Правая и Равнина Конвента почувствовали, что настала необходимость им соединиться. Марат был предан суду Революционного трибунала. Эта новость повергла в волнение клубы, толпу и Парижскую коммуну. В виде ответа на это решение мэр Паш от имени главного городского совета и тридцати пяти секций потребовал у Конвента изгнания главнейших из жирондистов. Юный Буайе-Фонфред потребовал своего включения в число изгоняемых товарищей, а члены правой и Равнины поднялись с криком: „Всех, всех нас!“ Правда, петиция эта была затем признана клеветнической, но она являлась первой, извне направленной против Конвента, атакой, и она подготовила умы к падению Жиронды.
Обвинение, предъявленное Марату, далеко не устрашило якобинцев, сопровождавших его в трибунал. Марат был оправдан и с триумфом на руках внесен в Конвент. С этого момента входы в зал Конвента были заняты смелыми санкюлотами, а завсегдатаи Клуба якобинцев наводнили трибуны Конвента. Члены клубов и женщины, прозванные робеспьеровыми вязальщицами, постоянно прерывали ораторов правой и мешали прениям, а вне Конвента старались воспользоваться первым удобным случаем, чтобы покончить с жирондистами. Анрио, начальник секции санкюлотов, подстрекал к этому батальоны, предназначавшиеся к отправке в Вандею. Гаде, поняв тогда, что не время было ограничиваться одними жалобами и речами, и, поднявшись на кафедру, сказал: „Граждане, в то время, как добродетельные люди ограничиваются тем, что вздыхают над несчастьями отечества, заговорщики действуют, чтобы его погубить. Подобно Цезарю, они говорят: Пусть они разговаривают, а сами будем действовать! Необходимо действовать и вам! Зло в безнаказанности заговорщиков 10 марта, зло в анархии, зло в существовании парижских городских властей, жадных в одно время и до денег, и до господства. Граждане, еще есть время, и вы можете еще спасти республику и вашу поколебленную славу. Я предлагаю вам сместить городские власти и в 24 часа заменить муниципалитет собранием председателей секций, созвать как можно скорее в Бурже запасных членов Конвента и разослать декрет об этих мерах с особыми посланными по всем департаментам“. Такое предложение Гаде смутило было сначала Гору. Если бы были немедленно приняты предложенные им меры, то господство Коммуны прекратилось бы и все планы заговорщиков были бы разрушены; но, с другой стороны, подобные меры вызвали бы непременно еще более сильную борьбу партий, собрание в Бурже, весьма вероятно, распустило бы Конвент, центр, около которого вращалось все, был бы таким образом разрушен, и революция не имела бы достаточно сил для подавления внутренних раздоров и отражения внешних атак Европы, – этого испугалась умеренная партия Конвента. Страшась анархии, если не будет обуздана Парижская коммуна и контрреволюция, если народ будет слишком теснить, она желала поддержать равновесие между этими двумя крайними партиями Конвента. Из членов этой партии были составлены Комитеты общественной безопасности и общественного спасения; во главе ее стоял Барер, который, как все люди с правильным суждением, но слабым характером, был за умеренность, пока страх не сделал из него орудия жестокости и тирании. Вместо решительных мер, предложенных Гаде, он предложил выбрать чрезвычайную комиссию из двенадцати членов и поручить ей рассмотреть образ действия муниципалитета, постараться открыть виновников заговора против народного представительства и арестовать их. Эта средняя мера была принята Собранием; Коммуна, таким образом, осталась совершенно неприкосновенной – и она неизбежно должна была восторжествовать над Конвентом.
Комиссия двенадцати своим следствием встревожила членов Парижской коммуны; она открыла новый заговор, долженствовавший быть приведенным в исполнение 22 мая, арестовала несколько заговорщиков и между ними помощника прокурора Коммуны, Эбера, редактора „Папаши Дюшена“ (Père Duchêne), захваченного на заседании муниципалитета. Коммуна была сначала озадачена, но затем стала готовиться к борьбе. С того момента дело шло уже не о заговорах, а о восстаниях; главный городской совет, поощряемый монтаньярами, окружил себя агитаторами, действовавшими среди населения столицы; он распустил слухи, что Комиссия двенадцати намерена почистить Конвент и заменить трибунал, оправдавший Марата, судилищем контрреволюционным. Клубы якобинцев и кордельеров, а также городские секции объявили свои заседания непрерывными. 26 мая волнение населения было уже весьма сильно заметно, а 27-го оно достигло такой силы, что Коммуна могла начать наступательные действия. Она явилась в Конвент и потребовала освобождения Эбера и упразднения Комиссии двенадцати; ее сопровождали депутаты от секций, выражавшие те же пожелания, а зал Собрания был окружен значительной толпой. Секция Сите осмелилась потребовать даже, чтобы члены Комиссии двенадцати были преданы суду Революционного трибунала. Инар, председательствовавший в Конвенте, торжественным тоном заявил депутациям: „Слушайте хорошенько то, что я вам скажу. Объявляю вам от имени всей Франции, что, если когда-либо при помощи одного из тех мятежей, что так часто повторяются с 10 марта и о которых Парижская коммуна не предупреждает Конвент, будет совершено покушение на народное представительство, то Париж будет стерт с лица земли, вся Франция отомстит за такое покушение, и затем придется разыскивать, на котором берегу Сены стоял Париж“. Ответ этот вызвал невообразимый шум. „Я, со своей стороны, – воскликнул Дантон, – объявляю вам, что такая наглость начинает нас тяготить; мы будем вам противодействовать“. Далее, обратившись к правой, он прибавил: „Не может быть больше и речи о соглашении между Горой и трусами, старавшимися спасти деспота“.
В зале царило сильнейшее волнение; трибуны кричали против правой, монтаньяры произносили угрозы, приходившие извне депутации ежеминутно сменяли одна другую, и Конвент оказался окруженным несметной толпой. Кучка секционеров рабочих кварталов под предводительством Раффе разместилась у входов в Конвент с целью его защищать. Жирондисты сколько могли сопротивлялись депутациям и Горе. Осажденные извне, угрожаемые внутри, они воспользовались этим насилием, чтобы возбудить негодование толпы. Министр внутренних дел Гара отнял у них и это средство. Его призвали спросить, каково состояние Парижа, и он удостоверил, что Конвенту опасаться нечего. Мнение Гара, слывшего человеком беспристрастным, но на самом деле увлекавшегося идеями о примирении до совершения двусмысленных поступков, придало смелости монтаньярам. Инару пришлось покинуть председательское кресло; его заменил Эро де Сешель, и это было признаком победы монтаньяров. Новый председатель так отвечал депутациям, до сих пор сдерживавшимся Инаром: „Сила разума и сила народа одно и то же. Вы требуете освобождения одного из муниципальных чиновников и справедливости; представители народа исполнят вашу просьбу“. Было уже очень поздно; правая совершенно потеряла всякую бодрость духа, некоторые из ее членов уехали; петиционеры, взойдя на места представителей народа и смешавшись с монтаньярами, посреди шума и полного беспорядка подали вместе с ними голос за роспуск Комиссии двенадцати и освобождение заключенных. Декрет этот был утвержден посреди рукоплесканий трибун и толпы в половине первого ночи.
Для Жиронды, раз сила была не на ее стороне, было бы благоразумнее не возвращаться к этому принятому Конвентом решению. Если бы не другие причины, то решение это не имело бы другого последствия, кроме уничтожения Комиссии двенадцати. Раздражение во вражде между партиями, однако, дошло до такой степени, что ссора между ними должна была быть так или иначе ликвидирована, они должны были продолжать воевать, так как не могли терпеть друг друга; они должны были идти от поражения к победе, от победы к поражению, с каждым днем становясь все более яростными, и, наконец, наиболее сильная партия должна была восторжествовать над более слабой. На другой день после описанного нами заседания члены правой снова возобновили борьбу в Конвенте; они потребовали отмены вчерашнего декрета, как изданного незаконно, посреди шума и под влиянием насилия, и Комиссия двенадцати была восстановлена. „Вчера вы совершили, – сказал Дантон, – великое дело справедливости. Но имейте в виду, если комиссия сохранит ту тираническую власть, которой она облечена, если народные служители не будут восстановлены в своих должностях, если добрым гражданам придется бояться произвольных арестов, то мы, доказав уже, что превосходим наших врагов в благоразумии и мудрости, превзойдем их и в смелости, и в революционной мощи“. Дантон не желал завязывать бой, опасаясь в одинаковой степени триумфа как жирондистов, так и монтаньяров; поэтому он стремился сначала предупредить 31 мая, а затем смягчить его результаты; ему пришлось, однако, примкнуть к своим во время борьбы и молчать после победы.
Волнение, сначала после уничтожения Комиссии двенадцати несколько успокоившееся, стало снова угрожающим при известии об ее восстановлении. С трибун секционных собраний и народных обществ послышались брань, крики об угрожающей опасности, призыв к вооруженному восстанию. Эбер, выпущенный из тюрьмы, снова показался на заседаниях Парижской коммуны. Ему возложили на голову венок, который он переложил на бюст Брута; в Клубе якобинцев он призывал на голову жирондистов мщение. Робеспьер, Марат, Дантон, Шометт и Паш соединились, чтобы организовать новое движение. Восстание было организовано по образцу восстания 10 августа; 29-е было употреблено на то, чтобы подготовить к нему умы, а 30-го члены избирательной коллегии, комиссары клубов и депутаты от секций собрались в здании епархиального управления, провозгласили восстание, распустили Главный совет Парижской коммуны, затем составили его вновь, заставив тех же членов принести новую присягу; Анрио получил звание главнокомандующего над всеми вооруженными силами, и санкюлотам стали платить по 40 су за каждый день, проведенный под ружьем. Сделав такие распоряжения, 31-го рано утром ударили в набат, забили сбор, собрали войска и двинулись с ними в Конвент, который заседал последнее время в Тюильри.
Собрание заседало уже довольно долго, ибо члены его собрались при первых звуках набата. Собрание по очереди вызывало к себе министра внутренних дел, правителей департаментов и парижского мэра. Гара сообщил о волнениях в Париже, но, казалось, не ждал от них никаких печальных последствий. Люлье от имени департамента уверял Собрание, что восстание чисто моральное. Мэр Паш явился последним и совершенно лицемерно рассказал о действиях мятежников: он говорил, что приложил все усилия, чтобы поддержать порядок, и уверял, что стража у Конвента удвоена и что он запретил давать пушечный тревожный сигнал. Когда он это говорил, однако, вдали раздался этот самый пушечный выстрел. Удивление и тревога Собрания сделались крайними. Камбон призывал Конвент к единодушию; он требовал молчания трибун. „Единственное средство, – сказал он, – разрушить план недоброжелателей в таких экстраординарных обстоятельствах – это заставить уважать Национальный конвент“. – „А я требую, – сказал Тюрио, – чтобы тотчас же была распущена Комиссия двенадцати“. – „А я, – перебил его Тальен, – требую, чтобы меч закона поразил мятежников, находящихся в самой среде Конвента“. Жирондисты со своей стороны желают привлечь к ответу дерзкого Анрио, давшего пушечным выстрелом сигнал к тревоге, не получив на то разрешения Конвента. „Если произойдет битва, – сказал Верньо, – то, каков бы ни был ее исход, она послужит причиной гибели республики. Пусть все члены Конвента поклянутся, что умрут на своих местах“. Все собрание вставанием принимает это предложение. Дантон бежит на кафедру. „Распустите Комиссию двенадцати, – кричит он, – уже прогремел пушечный выстрел. Покажите себя истинными политическими законодателями и вместо того, чтобы осуждать парижское восстание, обратите его на пользу республики, исправив свои ошибки и распустив вашу комиссию“. Раздался ропот. „Я обращаюсь, – прибавил он, – к тем, кто обладает хотя бы какими-либо политическими способностями, а не к тупоумным людям, слушающимся исключительно своих страстей. Им говорю я: сообразите все величие цели, к которой вы стремитесь; ведь эта цель – спасение народа от его врагов, от аристократов, спасение его от его собственного гнева. Если кто-либо, решительно все равно, к какой бы партии он ни принадлежал, пожелает поддержать движение, ставшее после вашего справедливого поступка совершенно излишним, то таких людей уничтожит сам Париж. Я совершенно спокойно требую, вследствие стечения политических обстоятельств, безусловной отмены комиссии“. Комиссия подвергалась свирепым нападкам одной стороны Конвента и весьма слабо защищалась другой стороной; Барер и Комитет общественного спасения, сами ее создавшие, теперь стояли за упразднение, имея в виду поддержать мир и не оставить Собрание на произвол толпы. Умеренные монтаньяры полагали возможным удовольствоваться этой мерой, когда явились депутации. Принятые Конвентом члены департаментских советов и Коммуны и секционные комиссары потребовали не только упразднения Комиссии двенадцати, но и наказания всех ее членов и всех вождей жирондистов.
Тюильри оказался осажденным мятежниками, и присутствие их комиссаров в среде Конвента ободрило крайних монтаньяров, стремившихся к окончательному уничтожению жирондистов. Робеспьер, являвшийся шефом и оратором этих крайних, потребовал слова и сказал: „Граждане, не будем терять этого дня в бесплодных криках и ничего не значащих мероприятиях; этот день, по всей вероятности, будет последним днем борьбы патриотизма с тиранией. Пусть все верные представители народа соединятся, чтобы доставить ему истинное счастье!“ Он упирал, далее, на то, что Конвенту следует идти по пути, намеченному петиционерами, а не по предложенному Комитетом общественного спасения. Робеспьер настолько увлекся своими ораторскими рассуждениями против противников, что Верньо перебил его: „Да делайте же, наконец, из всего сказанного заключение!“ – „Я сделаю свое заключение, и оно будет против вас! Да, против вас, так как вы после революции 10 августа стремились отправить на эшафот тех, кто ее произвел! Против вас, ибо вы не переставали требовать разрушения Парижа!.. Против вас, так как вы желали спасти тирана! Против вас, ибо вы были в заговоре с Дюмурье и ожесточенно преследовали тех патриотов, голов которых он требовал! Против вас, ибо вы своим преступным мщением вызвали те крики негодования, которые теперь вы вменяете в преступление тем, кто является вашей жертвой! Так вот мое заключение – обвинительный декрет против всех, кто был сообщником Дюмурье, и против тех, на кого указывают петиционеры!“ Несмотря на всю силу этой выходки, партия Робеспьера не одержала победы. Восстание было направлено исключительно против Комиссии двенадцати; Комитет общественного спасения, предложивший ее упразднение, одержал поэтому победу над Парижской коммуной. Конвент принял декрет, предложенный Барером, и им упразднил Комиссию двенадцати и возложил на Комитет общественного спасения обязанность, для удовлетворения петиционеров, расследовать дело о всех тех заговорах, на которые они доносили. Толпа, окружавшая здание Конвента, узнав о принятом решении, разошлась с громкими выражениями одобрения.
Заговорщики, однако, не удовольствовались этой неполной победой: 30 мая они шли дальше, чем 29-го; 2 июня они пошли дальше, чем 31 мая. Восстание из морального, как они говорили, т. е. направленного против власти и правления вообще, теперь стало личным, т. е. направлялось против известных депутатов; оно ускользнуло из рук Дантона и Горы и попало в руки Робеспьера, Марата и Парижской коммуны. Вечером 31 мая уже один из якобинских депутатов заявил: „Дело сделано только наполовину, его надо закончить, не дав народу успокоиться“, Анрио предложил отдать в распоряжение клуба вооруженную силу. Рядом с Конвентом стал совершенно открыто действовать Комитет восстания. Весь день 1 июня был посвящен подготовке грандиозного движения. Коммуна написала городским секциям: „Граждане, будьте наготове, вас обязывают к этому угрожающие отечеству опасности“. Вечером Марат, главный создатель движения 2 июня, явился в ратушу, поднялся на башню и лично ударил в набат; далее, он пригласил Парижскую коммуну не расходиться, пока не будет издан обвинительный декрет против изменников и государственных людей. В Конвенте собралось некоторое количество депутатов, у них заговорщики потребовали декрета против опальных; это им, однако, не удалось; они не были еще достаточно сильны, чтобы принудить Конвент действовать по их указке.
Вся ночь прошла в приготовлениях; звонил набатный колокол, трещали барабаны, образовывались народные сборища. В воскресенье утром, к восьми часам, Анрио явился в Главный совет Коммуны и заявил своим сообщникам от имени восставшего народа, что народ не положит оружия, пока не будут арестованы депутаты-заговорщики. Затем он стал во главе громадных толпищ народа, собравшихся перед ратушей, и, сумев возбудить их, подал сигнал к отправлению. Было около десяти часов, когда мятежники пришли на площадь Карусель; Анрио разместил около Тюильрийского дворца наиболее надежные отряды, и вскоре Конвент оказался осажденным 80 тысячами народа; большинство собравшихся при этом положительно не знали, чего от них хотят, и были, пожалуй, скорее готовы защищать депутатов, чем нападать на них.
Большая часть опальных депутатов вовсе не явилась в Конвент. Только некоторые из них, смелые до самого конца, явились выдержать последнюю бурю. Как только заседание было открыто, на кафедру выступил Ланжюине; „Я требую слова ввиду призыва к оружию, раздающегося по всему Парижу“. Его прервали криками: „Долой! Он желает гражданской войны, он стремится к контрреволюции! Он клевещет на Париж! Он оскорбляет народ!“ Несмотря на угрозы, оскорбления и возгласы Горы и публики, Ланжюине разоблачает намерения Парижской коммуны и мятежников; мужество его растет по мере увеличения опасности. „Вы обвиняете нас, – говорит он, – в том, что мы клевещем на Париж! Париж чист, у Парижа доброе сердце, но Париж угнетен тиранами, жаждущими крови и господства!“ Слова эти вызвали невообразимый шум; многие из депутатов Горы бросаются к кафедре и силой стараются стащить с нее Ланжюине, но он противится насилию и твердо и непоколебимо продолжает: „Я требую упразднения всех революционных властей в Париже; я требую признания недействительным всего того, что они сделали за последние три дня; я требую, чтобы всякий, кто пожелает захватить себе незаконным путем власть, был объявлен стоящим вне закона и чтобы каждому гражданину было предоставлено устранять таких людей“. Не успел он кончить свои слова, как в зал ворвались петиционеры и потребовали ареста его и его товарищей. „Граждане, – сказали они в заключение, – народу надоело дожидаться своего счастья; еще на короткое время мы оставляем наше счастье в ваших руках, спасите его, или, мы объявляем вам это, мы сами озаботимся его спасением“.
Правая в ответ на это требует перехода к очередным делам, и Конвент с ней соглашается. Тотчас же петиционеры с угрожающим видом оставляют зал, а за ними следует и публика с трибун; слышится призыв к оружию, и на улице поднимается невообразимый шум. „Спасите народ, – говорит один из монтаньяров, – спасите ваших товарищей, декретировав их временное задержание“. – „Нет, нет!“ – отвечает не только правая, но и часть левой. – „Мы разделим их участь!“ прибавляет Ларевельер-Лепо. Комитет общественного спасения в исполнение поручения составить отчет, напуганный важностью и величиной опасности, предложил, как и 31 мая, меру видимого примирения, способную удовлетворить мятежников, не жертвуя совершенно обвиняемыми депутатами. „Комитет обращается, – сказал Барер, – к патриотизму и великодушию обвиненных сочленов: он предлагает им добровольно сложить свои полномочия, ибо это единственное средство прекратить раздоры, раздирающие публику, и возвратить ей мир“. Некоторые из депутатов соглашаются на эту меру. Инар слагает с себя свои полномочия; Лантена, Дюссо и Фоше следуют его примеру; но Ланжюине положительно отказывается быть с ними заодно. „Мне кажется, – говорит он, – что до сих пор я проявил некоторое мужество; не ждите же от меня добровольного отказа от моих прав“. Его грубо прерывают. „Когда древние приносили какую-нибудь жертву, – ответил он на оскорбления, – они предварительно украшали ее цветами и лентами: жрец закалывал жертву, но не оскорблял ее!“ Барбару выказал такую же твердость, как и Ланжюине. „Я поклялся, – сказал он, – умереть на своем посту и сдержу эту клятву“. Сами заговорщики, члены Горы, восстали против предложения Комитета. Марат утверждал, что для того, чтобы приносить жертву, надо быть чистыми, а Бийо-Варенн требовал суда над жирондистами, а не отставки их.
Пока шли эти дебаты, один из депутатов Горы, Лакруа, быстро вбежал в зал, бросился к кафедре и объявил, что его в дверях оскорбили, что ему не позволили выйти и что Конвент не свободен. Бо́льшая часть монтаньяров пришла в негодование против Анрио и его войска. Дантон заявляет, что следует жестоко отомстить за оскорбление народного величия. Барер предлагает Конвенту выйти к народу. „Депутаты! – говорит он, – позаботьтесь о своей свободе; прервем заседание и заставим опуститься перед нами штыки, которыми нам угрожают“. Весь Конвент подымается и, предшествуемый приставами и имея во главе президента с надетой в знак скорби шляпой, трогается в путь. У выхода на площадь Карусель Конвент находит Анрио, верхом на лошади и с обнаженной саблей в руках. „Чего требует народ? – спрашивает его президент, Эро де Сешель. – Конвент заботится исключительно о его счастье“. – „Эро, – отвечает ему Анрио, – народ восстал не для того, чтобы выслушивать фразы; он желает, чтобы ему выдали 24 виновных“. – „Возьмите всех нас!“ – кричат депутаты, окружающие президента. Анрио тогда, повернувшись к своим войскам, командует: „Канониры, к орудиям!“ Две пушки направляются на Конвент, он отступает, входит в сад и поочередно подходит к различным выходам, но все они оказываются закрытыми. Везде расставлены под ружьем солдаты. Марат ходит между их рядами и ободряет и возбуждает мятежников: „Не предавайтесь слабости и не покидайте ваших постов, пока вам не выдадут виновных“. Конвенту не остается ничего другого, как возвратиться в зал заседаний; он угнетен своей беспомощностью и совершенно упал духом, убедившись в тщетности своих усилий. Аресту депутатов, внесенных в список петиционеров, более никто не находит возможным противиться. Марат становится настоящим диктатором Собрания и властно решает судьбу его членов. „Дюссо, – говорит он, – старый пустомеля и неспособен руководить партией; Лантена слаб умом и не заслуживает, чтобы о нем думали; у Дюко есть несколько превратных идей, но он неспособен руководить контрреволюцией. Я требую исключения их из числа депутатов, подлежащих аресту, и замены их депутатом Валазе“ Имена Дюссо, Лантена и Дюко послушно были вычеркнуты из списка, а имя Валазе внесено в него. Таким образом, составленный окончательно список был утвержден Конвентом, хотя половина членов его в издании этого декрета не участвовала вовсе.
Вот имена этих выданных народу депутатов: жирондисты Жансонне, Гаде, Бриссо, Горса, Петион, Верньо, Салль, Барбару, Шамбон, Бюзо, Биротто, Лидон, Рабо, Ласурс, Ланжюине, Гранжнёв, Легарди, Лесаж, Луве, Валазе, министр иностранных дел Лебрен, министр финансов Клавьер и члены Комиссии двенадцати: Кервелеган, Гардиан, Рабо Сент-Этьен, Буало, Бертран, Виже, Моллево, Анри ла Ривьер, Гомэр и Бергуань. Конвент подверг их домашнему аресту и надзор поручил народу. С этого момента запрещение выходить из Конвента было снято, и толпища народа понемногу рассеялись; но с этой же минуты Конвент совершенно потерял свою свободу.
Так пала партия Жиронды, партия, блиставшая яркими талантами и возвышенными идеями, партия, делавшая честь нарождавшейся республике своим отвращением к крови, ненавистью к преступлениям и анархии и любовью к порядку, справедливости и свободе, партия, невыгодно, к сожалению, очутившаяся между средним и низшим классами, из которых последний она не желала допустить до самовластия и главенства. Осужденная на бездействие, эта партия должна была потерпеть поражение и могла только прославить его смелой борьбой и славной смертью. В эту минуту нетрудно было предвидеть верный ее конец; она была оттеснена отовсюду: из Клуба якобинцев – нашествием в него монтаньяров, из Парижской коммуны – удалением Петиона, из министерства – выходом в отставку Ролана и его коллег, из армии – изменой Дюмурье. Партии оставалось одно поле деятельности – Конвент; здесь она старалась укрепиться, здесь она вела борьбу и пала. Враги действовали против нее при помощи заговоров и восстаний. Заговоры заставили создать Комиссию двенадцати, которая на время дала как будто бы перевес Жиронде, но в конце концов только еще больше ожесточила ее противников. Они привели в движение народ и сначала отняли у жирондистов всю их власть, упразднив эту комиссию, а затем лишили их всякой политической жизни, арестовав вождей.
Никто не предугадал следствия этого печального события. Дантонисты полагали, что наступил конец вражде партий, а между тем начиналась гражданская война. Умеренная часть Комитета общественного спасения полагала, что Конвент снова приобретет прежнюю власть и значение, а он остался порабощенным. Коммуна надеялась, что 31 мая даст ей полную власть, а она перешла к Робеспьеру и к некоторым лицам, тесно с ним связанным, крайней демократии. Наконец, побежденные, т. е. враждебные, партии увеличились еще одной, и, как после 11 августа против конституционалистов была учреждена республика, так после 31 мая против умеренных республиканцев был выдвинут террор.