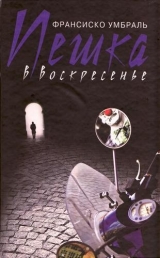
Текст книги "Пешка в воскресенье"
Автор книги: Франсиско Умбраль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Болеслао всегда испытывал страх перед беспорядком, первобытный инстинктивный страх перед хаосом моря, городов, жизни, когда она начинала заболачиваться, превращаться в трясину. Другие служащие, несмотря на то что на их рабочих столах могли накапливаться кипы документов, разбросанных как попало, не чувствовали никакого дискомфорта, справляясь (плохо ли, хорошо ли) со своими обязанностями. Рядом с ними Болеслао всегда казался себе трусом из-за своей привычки строго держаться правил. Так дети цепляются за материнскую юбку. А что он представляет собой сейчас? Какой я сейчас? Я не художник, но ни за что не загромоздил бы так свою жизнь. Я сжигал бы все картины каждые три месяца и начинал бы все снова.
Болеслао неосознанно не верит в совокупную жизнь. Он всегда боялся быть проглоченным жизнью, этой гидрой с тысячью голов и тысячью ртов. Естественно, он не осмеливается посоветовать своему другу сжечь плоды многолетнего труда. Возможно, что эта страсть хранить ненужное, привязанность к ненужным вещам тоже трусость, – другая, противоположная разновидность трусости.
Сделав очередной глоток, Болеслао задумывается, почему, выйдя на пенсию, начал пить, и обнаруживает, что по сравнению с другими у него для этого есть свои особые причины. Другие пьют, чтобы расслабиться, а он (хотя и так относится к типу людей легких на подъем и в его жизни мало что можно нарушить) пьет потому, что виски его собирает, мобилизует, сглаживает противоречия и упорядочивает хаос внутри него, проясняет мысли, приводит в нормальное состояние память и даже комнату, которую (с тех пор как стал пенсионером) содержит, скорее, в запущенном виде. Он чувствует почти облегчение от того, что не художник и на его плечи, в отличие от А., не давит такая неподъемная ноша совокупного овеществленного труда, такого разнообразного, покрытого пылью, требовательного, не дающего ни минуты покоя. Уходя из конторы, Болеслао оставил после себя абсолютно чистый стол. Из пустых ящиков он удалил мелкий сор, затвердевшие как камень хлебные крошки и даже пыль. Телефон остался таким, как будто его только что установили (черным как битум), письменные принадлежности в полном порядке, а в симметрично разложенные бухгалтерские книги (в его конторе, все делалось по старинке), последняя запись была внесена аккуратнейшим почерком.
Жизнь сжирает, жизнь изнуряет человека, жизнь похожа на нетронутую сельву. Болеслао всегда чувствовал это затылком. Потому и не женился. Он чувствует, что женщина это жизнь, природа, хаос. Женщина размножается, множит детей и предметы мебели, обрастает детьми, собаками и подзеркальными столиками. Болеслао не женился из страха перед размножением. Он всегда предпочитал легкое приключение, корыстное или банальное, но неизменно стерильное, без последствий. Ему всегда казалось, что у оставшейся позади женщины были щупальца, что позади осталась опасность. Такое ощущение бывает, когда выходишь из леса.
Он не знает, страх это или гигиена. Ментальная гигиена, обеспечивающая оптимальные условия существования. Болеслао ни в чем не уверен, но его существование, которое с тех пор как он превратился в пенсионера стало казаться ему непонятным и жалким, сейчас, по сравнению с увиденным в доме А., выглядит простым и почти прекрасным. Это страх – да. Или гигиена. Ментальная гигиена.
Глядя на эти непонятные картины, Болеслао ощущает свое малодушие острее, чем когда бы то ни было. Перед ним жизнь и труд человека, его тело и его душа, его воображение и его время. Огромный нарост, который ни на что не годится, разве что может восприниматься как биография, выраженная таким вот образом. Болеслао думает о том, что мы все носим внутри дикое поле, заросшее бурьяном абсурда, только никогда не выставляем этих кровожадных форм напоказ, и они разрушают нас изнутри. А вот А. они уничтожат снаружи.
Мы все люди и устроены одинаково, и у меня внутри тоже есть это непонятное, эти цвета и эти формы, эти уродливые чудовища, непрерывно сами себя воспроизводящие. Но артист (плохо ли, хорошо ли) их выражает и освобождается. А у меня не было другой защиты кроме суконочки, чтобы пройтись ею по письменным принадлежностям и корешкам толстых бухгалтерских книг. Гигиена рождается из страха перед жизнью. Раньше я был более чистоплотным в этом смысле. Сейчас мне это немного безразлично, возможно потому, что взрослею, как это ни смешно, в моем возрасте. Может быть, А. поступает правильно. Он живет в окружении того, что не продает, по той причине, что это непроданное есть не что иное как болезнь, раковая опухоль, которую он носил внутри и каждый день выдирал из своих внутренностей, чтобы она не прогрессировала. Но тогда пусть он сожжет ее, эту хрень.
– Что же ты будешь делать, когда для картин не останется места в доме?
В ответ А. лишь пожимает плечами, продолжая теоретизировать. Он уже достаточно пьян, но особенно пьяным выглядит его нос, нос, который можно было бы охарактеризовать как занимающий промежуточное положение между правильным и дерзким. Бедный мальчик, так и не вырвавшийся за пределы школярских представлений о жизни, бедный папенькин сынок, жалкий и вечный ученик, освобождающийся таким образом от своих внутренних страхов, от своей инфантильной несобранности. Но так как у него не покупают того, что он рисует, все это дерьмо возвращается к нему и неизменно пребывает в состоянии переваривания/несварения.
Возможно, что вино помогает ему все это вынести.
– Ну, я пошел. Прощай.
– Подожди, я с тобой, если не возражаешь.
Появляется Андреа.
– Снова уходишь?
Понятно, Андреа не хочет, чтобы ее муж вернулся на рассвете, пьяным.
– Совсем скоро придет дочь.
– Я только провожу немного Болеслао. И сразу вернусь.
Музей краха провожает их до двери. Болеслао предпочел бы уйти один. Я – конченый тип, считает он, но у этого дела идут, кажется, еще хуже. Я ничего за собой не оставляю, выпив последнюю рюмку, а этот все вокруг себя заляпает, как если бы весь его желудок вывернуло наизнанку. И все это будет живопись, которая недолговечна, и дерево, которое, в конце концов, превратится в дрова.
На улице уже ночь, и Болеслао жадно вдыхает глубокую и чистую темноту. Мне всегда казалось ненормальным все, что связано с искусством, таков его окончательный вывод.
– Выпьем по последней?
– Конечно.
* * *
Они доехали на автобусе до верхней части города, застроенной экспериментальными небоскребами, отданными под банковские офисы и интим-клубы с дорогими проститутками. Воскресный автобус – зрелище тягостное. Он до отказа заполнен работницами сферы обслуживания, возвращающимися с танцев или едущими на танцы; молоденькими расфуфыренными девицами, напоминающими ворон в павлиньих перьях, возвращающимися с танцев или едущими на танцы; парочками, целующимися на сиденьях; целыми семьями, повисшими на металлическом поручне вместе с детьми, – те, что на руках у родителей похожи на барочных ангелов и цепляются за крышу, а оставшиеся на полу хнычут где-то внизу. Выйдя на своей остановке, Болеслао и А. испытывают облегчение, хотя ничего и не говорят об этом друг другу.
– Уф.
Они вдыхают уличный воздух. Кажется, стоит осень (автор этого уже не помнит). Вечерний свет, в котором есть что-то от богини огня, вступившей в климакс, едва брезжит над небоскребами Аска[6]6
Аска (Azca) – район Мадрида, деловой центр, спроектированный и построенный как единый архитектурный комплекс.
[Закрыть], превращая их функционализм в маньеризм лаконизма, как неожиданно говорит А., использовав одно из писательских выражений, удающихся ему всегда гораздо лучше, чем живопись:
– Это уже маньеризм функционализма.
Аска – маньеризм функционализма. Болеслао про себя берет на заметку эту фразу. Вот почему ему, клерку, досрочно вышедшему на пенсию, нравится пить с людьми искусства и панками: он учится у них. Ему даже кажется, что он мог бы стать чем-то большим, чем бухгалтер. Не торопясь, прошли мимо закрытых магазинов и нескольких кафе, предлагающих исключительно мороженое. Последние выполнены полностью из стекла. Это воплощения абсурда и одновременно оптимизма не по погоде. Огромный стеклянный куб излучает цвет мороженого (больше всего – так устроено человечество – мороженого съедают зимой): клубничный, малиновый, апельсиновый, зубной эмали. Невиданные цвета итальянского кафе-мороженого – желто-красный, розовый, цвет кадмия и фуксии, белый, не являющийся цветом.
Они закончили свою прогулку по землистому ноябрьскому (ноябрьскому?) цвета морской волны холоду и теперь стоят у дверей одного из уютных клубов с дорогими проститутками (дорогого клуба с уютными проститутками). На тротуаре белокурый гигант, присев на корточки, колдует над мотоциклом с игрушечными колесами. Болеслао узнает гиганта.
– Ханс!
– Болеслао!
Ханс поднимается, распрямляя свое двухметровое тело, и обнимает Болеслао. Старина, дорогой Ханс. Белокурый гигант Ханс – немец, механик, оставшийся и в зрелом возрасте подростком, так же одинок, как и Болеслао (лучше сказать, так же одинок как и множество других немцев). Они много пережили и выпили вместе, несмотря на то, что из них двоих Болеслао принадлежит как бы к старшему поколению. Они познакомились очень давно, в другом дорогом клубе, разумеется, с уютными проститутками, в другом уютном клубе с дорогими проститутками, и с полуслова поняли друг друга. Никто не смог бы объяснить, почему так произошло. Женщины, алкоголь и одиночество – возможно, что это как раз и есть три основных причины, которые здесь объясняли все и ничего.
А. с любопытством рассматривает крошечный красный мотоциклет с изящными маленькими колесами. Присев на корточки, он, оставаясь в таком положении, перемещается вокруг машины, как только что это делал ее хозяин, Ханс. Но А. ниже, и ему все сподручней. Болеслао окликает его и знакомит с обладателем «игрушки». Ханс объясняет ситуацию.
– Ничего серьезного, просто подтекает масло, и я решил взглянуть.
– Дашь мне на нем прокатиться один кружок? – говорит А., его воинственный нос при этом оказывается в самом неподходящем положении из всех возможных положений, свойственных его носу, как и всем прочим носам.
– Давайте. Конечно. А мы пока выпьем по рюмке и подождем тебя внутри.
Ханс, хотя и был немцем, никогда особо не страдал от германской замкнутости. Он очень хорошо освоил кастельяно (с помощью Болеслао) и живет в Испании за счет того, что великолепно разбирается в технике и в моторах.
А. с элегантным потрескиванием, напоминающим звук петарды, отъезжает на крохотном мотоцикле с детскими колесами. К его природному юмору добавляется цирковое очарование необычного транспортного средства.
Болеслао и Ханс входят в клуб. Он называется Шахразада. Ни больше, ни меньше. Так написано. Интерьер стилизован под роскошный железнодорожный вагон. Свет приглушен. Включена едва слышимая музыка. Пространство заполнено густым дымом и клиентами-мачо, демонстрирующими свой мачизм. Молоденькие и умудренные жизнью проститутки снуют по проходу как мальки угрей и угри, играя в кости, или делая вид, что присутствуют на дружеской вечеринке, образуя постоянно перетасовывающиеся стайки, изображая достоинство и «не замечая» клиентов – для придания происходящему большей таинственности и очарования, а также, чтобы набить себе цену.
Ханс и Болеслао садятся на глубокий диван, заказывают выпивку и разговаривают. Ханс – чистокровный ариец. Он приехал в Испанию тридцать лет назад, сам не зная зачем, и остался. Возможно, что открытость отношений среди испанцев компенсирует его природную и мучительную для него замкнутость. Светловолосый Ханс инфантилен как все гиганты. Болеслао замечает, волосы у Ханса начинают выпадать. У него голубые глаза и в лице есть какая-то ущербность, связанная с незавершенностью взросления. От его внешности женщины наверняка приходят в умиление, думает Болеслао. У Ханса было много любовниц в Испании. Но он холостяк. Когда они оба были помоложе, то вместе выходили на охоту за женщинами. Об этом они сейчас и говорят. У Ханса голубые глаза, его рот выглядел бы еще более чувственным, если бы не был таким детским. Ханс, устав от женщин, нашел себя, увлекшись машинами. Болеслао, устав от женщин, нашел убежище в увлечении девочками-подростками, то есть, поставив себе недостижимую цель. В невозможности ее реализации – его алиби.
Они пьют, не обращая внимания на чересчур назойливых и слишком надушенных девиц, время от времени начинающих усиленно вертеться вокруг них. Они разговаривают. Сквозная нить этого разговора, хотя об этом ни слова не сказано напрямик, в том, что они постарели и профукали свои жизни. Причем они даже не осознают, что жизнь надо завоевывать, извлекать из нее пользу, удерживать. Жизнь растрачена, и все.
Встреча доставляет им меньше радости, чем они от нее ждали.
– Надо взглянуть, не вернулся ли этот на твоем мотоцикле. Кажется, он уже злоупотребляет.
– Оставь своего друга, пусть катается.
Одна из девушек садится на подлокотник дивана со стороны Болеслао. Она совсем молодая, похожа на куколку, стройная, смуглая, веселая и наверняка под кайфом.
– Сегодня даже проституткам надо постараться, чтобы вас потискали, – говорит ей Болеслао, чтобы обидеть и таким образом от нее отделаться.
– А мне нравятся кто постарше.
– Сделаешь то, о чем попрошу?
– Конечно. Я здесь как раз для этого.
Болеслао знает, что живет сейчас второй жизнью, разогретой алкоголем. Возможно, это и есть настоящая жизнь. Он смотрит на Ханса, и они без слов понимают друг друга: раньше, когда мы клеили женщин, в основе была любовь, а теперь остаются лишь проститутки или кто-то из нашего возраста; хорошо еще, что молодежь кинулась в этот промысел, и это – как раз наше; кажется, я поднимусь с этой девочкой, а ты подожди моего приятеля, который должен вернуться с мотоциклом.
Ханс понятлив и, как всегда, с нежностью относится к очередной авантюре Болеслао, своего первого учителя испанского языка. Он пьет и улыбается. Совершенно очевидно, что поступок Болеслао его забавляет. Это видно по его светлым глазам. Он рад за своего старого друга, у которого еще хватает пороха, чтобы лечь в постель с проституткой почти подростком.
Здание с отдельными номерами для свиданий, расположено на другой стороне улицы. Болеслао это известно по прошлым визитам. Эти проститутки, молодые и новые, супер-новые и супер-новейшие, не теряют времени даром.
– Как тебя зовут? – спрашивает Болеслао, зная, что в ответ услышит условное имя. Однако реального человека делают условности (принятые среди отбросов общества или аристократов – неважно) и имена нам дает вовсе не приходский священник. Болеслао слепо верит в рабочее имя проституток.
– Клара, меня зовут Клара.
Пока они переходят улицу (автомобили движутся в воскресенье медленнее), Болеслао понимает, почему ввязался в эту историю: случившееся в доме Хосе Лопеса было провалом, унижением, позором для его возраста, оскорблением (невольным) одного поколения другим. Ему нужно почувствовать себя хозяином, диктатором, капризы которого исполняются, королем. И за это нужно заплатить. Он не сможет заснуть, не залечив рану, нанесенную ему (невольно) той юной особой. Раньше он завоевывал женщин, потому что нравился им и доставлял удовольствие (над женщиной можно одержать верх, потому что они способны испытывать удовольствие). Теперь, возможно, ему придется побеждать женщин с помощью денег. Главное, устроить переполох в посудной лавке, привести противоположный пол в смятение. Болеслао вдруг ощущает себя анархистом – в том, что касается секса. И эта мысль вызывает у него улыбку.
Клара оказалась очень чувственной, очень возбудимой. Ее большие и малые срамные губы хорошо разбираются, например, в том, что такое ложные проникновения, прикосновения головки к клитору, лишь время от времени чередующиеся с вторжениями вглубь влагалища. Да, у нее смышленый половой орган. Или наркотик, от которого она зависит (сегодня все употребляют какой-нибудь наркотик), усиливает желание, а не подавляет, как множество других наркотических средств. Наверняка, что-нибудь как раз из разряда других принимает подруга его друга Хосе Лопеса. Болеслао посвятил свою жизнь бухгалтерии двойного счета и женщинам. Так что он знает, когда женщина (неважно проститутка или нет) испытывает оргазм. Клара его действительно испытывает. Болеслао (лишь бы забыть случившееся в доме Хосе Лопеса) думает, что нашел сокровище – проститутку, которая годится.
Смышленый половой орган это то, что человек ищет в жизни. Болеслао считает, что именно поэтому, а не по каким-либо другим причинам, например, из-за его непостоянства или женоненавистничества, он остался холостым. Умные гениталии встречаются редко. Это взаимообразно. Женщины скажут то же самое, то же самое относится и к мужскому члену. Хотя Болеслао предпочитает говорить «писка». Пенис – некрасиво. Фаллос – слишком культурно. X… – слишком вульгарно. «Писка» возвращает его в детство. Тогда мальчишки разрисовывали стены этим словом из пяти букв.
Клара из Мурсии, почти еще подросток Клара, взобравшись на Болеслао, кончает раз за разом, испытывая целую серию оргазмов (а Болеслао, как уже говорилось, не проведешь, он прекрасно знает обо всех уловках проституток). Клара – сплошное сокровище, находка. Это может длиться до бесконечности.
– Клара, у меня есть деньги, чтобы заплатить тебе за целую ночь.
– Не беспокойся сейчас о деньгах. Ты напоминаешь мне моего отца. Я с тобой в полном улете. Вот и все. Жаль, что у тебя нет брюшка, как у него.
В промежутке между порциями такого немереного количества любви/любви, вдохновленный подвигами молоденькой профессионалки, Болеслао требует от нее:
– Клара я хочу, чтобы ты побрила лобок и все вокруг.
* * *
А. едет на минимотоцикле Ханса по едва знакомым пустынным воскресным улицам, насыщенным одиночеством и густыми тенями. Он уже был пьян, когда вышел из дома, и теперь чувствует, как ветер скорости, скорость и ветер проясняют ему голову. Какое удовольствие мчаться на этой игрушке немца так, что дух захватывает. Из этого красного, крохотного, как будто циркового мотоцикла можно выжать гораздо больше, чем обещают на первый взгляд его детские колеса.
А. накручивает все новые и новые круги в воскресных сумерках, не выезжая за пределы большого квартала, дорогого квартала в верхней, северной части города с прямыми улицами, свободными от транспорта, и с чистыми проститутками. По мере того как скорость возрастает, художник чувствует, что позади остаются его многообещающая молодость с потерпевшими крушение надеждами; жалкий кинематографический брак; не дающаяся и вечно не продающаяся живопись; домашние неурядицы и пристрастие к алкоголю. Он замечает, как люди на тротуарах улыбаются, глядя на его игрушку, и вдруг его охватывает и уже не отпускает чувство полной свободы. Он становится как бы прозрачным, продолжая лететь на чужом мотоцикле, который теперь кажется ему родным. Как это мне не пришло в голову раньше, черт, купить такой мотоцикл. Его далекое и недавнее прошлое отступают, забываются на веселом замкнутом маршруте, когда на разрешающий сигнал светофора (по всем правилам дорожного движения) грузовик выезжает ему наперерез на одном из перекрестков. Но как же мог этот тип нестись с такой скоростью по этим улицам, да еще и на мотоцикле.
Мотоцикл мягко упал рядом. Уцелевшие на почти лысой голове А. волосы слиплись от крови. Мертвым он вытянулся во весь свой небольшой рост в желтом резком свете фар тяжелой машины. Почти счастливая смерть.
Вокруг него суетятся водители грузовика, люди, живущие в соседних домах, и немногочисленные воскресные прохожие оказавшиеся поблизости.
Клара с удовольствием исполняет каприз Болеслао. В номере, оснащенном на все случаи жизни, Клара ориентируется как в своем собственном доме. Она мгновенно приносит из ванной мыло и опасную бритву. Сидя на стуле, голая (рядом, на другом стуле, поместилось все необходимое для бритья) она намылила весь свой пушок, покрывающий лобок и эту срамную линию, идущую вдоль промежности. Ее детские руки с обгрызенными ногтями выполняют тонкую работу с помощью опасной бритвы, которая выглядит жутковато, вздыбливая перед собой (как нос ледокола) мыльную пену и срезанные волоски. Болеслао видел ледокол в кино. А сейчас он, тоже сидя на стуле, точно напротив, выпрямившись, переполняемый эстетическим и эротическим удовольствием, внимательно наблюдает за тем, что делает девушка. Сейчас все это вместе взятое напоминает ему что-то имеющее отношение к живописи, возможно – какую-то картину Сезанна или Соланы[7]7
Солана, Хосе (1886–1945), испанский живописец и график, экспрессионист.
[Закрыть]. Он ничего не смыслит в живописи и поэтому путается. Все это ему со знанием дела мог бы объяснить А. Но А., счастливый, пользуясь воскресеньем, катается на игрушечном мотоцикле. Клара похожа на ребенка, играющего с топором между ног.
Болеслао, почти полностью одевшись и как всегда с воображаемой шляпой в руке (сейчас она лежит у него на коленях) в очередной раз осознает, что это его занятие – призвание. Прежде чем переспать с женщиной и после ему нужно не спеша рассмотреть ее, понаблюдать за тем, как она чем-нибудь занимается, например, бреет пушок на своем лобке или подмышками, которые точь-в-точь как два сверхштатных маленьких и невинных половых органа. Ему нравится различать слова «пушок» и «волосы». Волосы – это шерсть человека, волосы – это то, что сохранилось от антропоидов, которыми мы были, а пушок – это шелк тела (хотя с точки зрения антропологии все возможно как раз наоборот, или одно и то же), женский пушок это шелк, вырабатываемый женским родом подмышками, между ног и по всему телу. Болеслао повторяет, обращаясь к самому себе, пока наблюдает за действиями Клары: «Волосы это шерсть, а пушок – шелк». Клара похожа на жертву или мистика, истязающего бичом свою плоть.
Египтянки брили себя полностью, с головы до пят, включая пушок на лобке. В оголенности лобка и вульвы (помимо дальнего родства с культурой Египта) Болеслао ищет подростка, разумеется, подростка, скрывающегося в пушке женщины, как Красная шапочка в лесу.
Клара продолжает свою работу, проявляя при этом терпение и изящество. Клара, которую на самом деле, наверняка, зовут не Кларой, держит бритву, оставив мизинец согнутым в воздухе. Должно быть, это характерный признак того, что она родилась в Мурсии.
В происходящем есть, конечно, и элемент садизма. Лезвие сначала скоблит пах, но затем достигает больших губ, и там порез может оказаться фатальным. Женщина может как бы сама себя кастрировать. Болеслао откровенно наслаждается зрелищем, как если бы это был спектакль, в котором Клара бреет свой лобок, исполняя роль послушницы, не смеющей противиться Богу.
Возможно, ему доставило бы удовольствие побрить девушку собственными руками, но он знает, что у него могут сдать нервы или даже отказать сердце. С другой стороны, такие вещи нужно рассматривать, находясь не слишком близко, нужна определенная дистанция, чтобы видеть сразу всю сцену (по этой причине театральные критики не садятся в первый ряд).
Клара постоянно ополаскивает лезвие в тазике с водой, собирая в нем мыльную пену и срезанные волосики. Болеслао обожает эту педантичность, свойственную женщинам. Как знать, говорит он самому себе, возможно, что в нем погиб идеальный супруг. Клара несколько раз тщательно вытирает бритву, скорее она вытирает ее даже не тщательно, а с удовольствием. И то, что особенно при этом возбуждает, – как контрастируют вызывающее мурашки лезвие бритвы и нежнейшая женская плоть между ляжками и на ягодицах. Клара – воплощение херувима, играющего с огненным сверкающим мечом ангелов.
Закончив, она встает на ноги, юная и улыбающаяся, со щелочкой золотой вульвы между ног, похожей на входное отверстие копилки, и уносит все в ванную комнату. Болеслао, одеревеневший на своем неподвижном стуле, одетый и одновременно голый, нелепо сжимающий коленями и руками не существующую шляпу, настолько углубился в самого себя, что его это пугает. «Это настолько я, что мне даже страшно», думает он.
Из ванной доносятся отчетливый целительный звук воды, льющейся из разных (иногда позвякивающих) посудин, и слова песенки, неосознанно напеваемой Кларой в полголоса. Возможно, это Money/Money из Кабаре. Болеслао глубоко вздыхает и чувствует себя счастливым, вопрошая при этом, как долго еще его старое сердце сможет выдерживать счастье.
Швейцар Шахразады, встречающий гостей, подъезжающих на автомобилях и открывающий им дверцы, входит, чтобы сообщить Хансу, что мотоцикл сеньора попал в аварию, что друг сеньора разбился на мотоцикле, здесь недалеко, столкнувшись с грузовиком. Ханс в это время пил водку, выдерживая осаду неопытных профессионалок, не знающих его привычек и не чувствующих, что его надо оставить в покое до тех пор, пока он сам вдруг не позовет одну из них.
Ханс выходит со швейцаром, который доставляет его на первой попавшейся машине к месту происшествия. Ханс с германской деловитостью поднимает мотоцикл, ставит его, прислонив к дереву, берет А. на свои руки гиганта и устраивает в автомобиле.
– В Ла Пас, – говорит он швейцару.
Ла Пас совсем близко. Но швейцар, высунув в окошко белый платок, то и дело давит на клаксон. Целый шквал тревожных сигналов разрывает пустоту воскресенья. В Испании Ханс, как и любой иностранец, пользуется уважением. В огромную клинику уже поступили несколько жертв воскресенья и шоссе, однако Ханс, возможно, лишь благодаря твердости своего испанского языка германца, добивается, что медики, оказав первую помощь, немедленно помещают А. в отделение интенсивной терапии.
По пути в Ла Пас Ханс убедился, что сердце по сути незнакомого ему человека бьется. Это был мертвец с еще бьющимся сердцем. Ханс знал, что сердце может биться после смерти. Ему ничего не известно об А., кроме того, что это большой друг Болеслао, но Ханс любит Болеслао, так что должен сделать для пострадавшего все, что сделал бы Болеслао.
Ханс живет в Испании обособленно от испанцев, найдя себе убежище среди машин и общаясь только с молоденькими проститутками Шахразады, соблюдающими правила гигиены. Он верен Болеслао, своему учителю испанского и напарнику по романтическим приключениям в те времена, когда оба были моложе. Теперь Болеслао кажется старым Хансу, и его любовь к нему переросла в нежность. Самое большее, что он может сделать сейчас для Болеслао, это спасти его друга, если есть что спасать. Кроме того, он не хочет лишать Болеслао его законного часа с четвертью счастья или утешения с Кларой.
Подождав, пока пьяного шофера устроят в отделении интенсивной терапии, подсоединив (через все имеющиеся в теле, а также – через дополнительно проделанные отверстия) к проводам и трубкам, с помощью которых, заставляя мертвецов жить искусственной и компьютеризированной жизнью, медицина становится чем-то большим, чем медицина, Ханс выходит в коридор позвонить.
– Шахразада? Это Ханс. Когда придет дон Болеслао, сеньор лет пятидесяти, лысоватый и в очках, тот, что пришел сегодня вечером со мной, пусть направят его в Ла Пас, в отделение интенсивной терапии. Да, правильно, в отделение интенсивной терапии. Нет, успокойся, Гаэтано, ничего страшного. ДТП. Сам знаешь – воскресенье…
Сделав звонок, Ханс задумчиво прохаживается по длинным коридорам, которые становятся короткими под его длинными ногами. Надо бы поехать забрать мотоцикл. Его кто угодно легко может угнать. Но прежде надо дождаться Болеслао. Все остальное после, когда Болеслао будет рядом с живым трупом своего друга, рядом с покойником, живым лишь благодаря достижениям науки/фантастики конца века.
Тем временем Болеслао никак не наиграется с вульвой Клары, ставшей совсем такой как у девочки. Наконец он проникает в нее. Клара сначала смеется, а потом, когда проникновения становятся глубокими, следует новая серия оргазмов. Болеслао вручает пачку денег ей прямо в руки.
– Возьми сама, сколько хочешь. То, что у тебя есть, невозможно переоценить.
Но девушка не торопится. Выбирая купюры, она как будто подсчитывает стоимость оказанных услуг. Потом возвращает пачку Болеслао. Еще по рюмочке в Шахразаде, на посошок? Конечно. Они выходят на улицу, взявшись за руки. Швейцар передает Болеслао сообщение, встретив его на краю тротуара. Болеслао целует Клару в лоб, садится в такси и едет в Ла Пас.
Ему сказали, отделение интенсивной терапии. На входе возникают трудности, но его пропускают. В коридорах отделения он находит Ханса.
– Твой друг разбился насмерть на моем мотоцикле. Он там, внутри, подключен.
Болеслао думает об А.; о его юморе; о его скверной живописи, производящей такое тягостное впечатление; о его доме, пустом и слишком переполненном в одно и то же время; он думает об А. и его жене Андреа; о жизни, или даже нескольких жизнях, загубленных бесполезной работой; о том, что А. много пил и что более или менее так все и должно было закончиться. Теперь я должен предупредить Андреа. Лучше было бы к ней поехать. Сначала посмотрим, дадут ли мне взглянуть на него. Болеслао распирают глупые чувства, и он должен кому-то излить их, чтобы успокоить свою совесть.
– Я так задержался, потому что эта шлюшка брила свой лобок.
* * *
Утро. Хуже всего было просыпаться по утрам, вспоминая (не зная, а вспоминая), что не нужно идти в контору, что никуда не нужно идти. Болеслао, с тех пор как его досрочно отправили на пенсию, каждую ночь снилось, что он опаздывает на работу. Таковы элементарные механизмы сновидения. Говорят, что Фрейд потратил на их изучение целую жизнь. Странный способ убить жизнь.
Болеслао испуганно приподнимался в кровати, озирался по сторонам, смотрел через щель неплотно закрытого жалюзи, какой наступает день – пасмурно или светло (ему нравилось оставлять щель, чтобы не спать в кромешной темноте, хотя на самом деле это было необязательно). Затем он напрягал память, вспоминал, что уже на пенсии и что это ему не приснилось, переполнялся отчаянием и снова съеживался между простыней. Однако дом, этот улей (улей, в котором жили только трутни), начинал издавать звуки, начинал жить, потому что у некоторых жильцов все же была работа, и они должны были вставать рано. Из квартиры сбоку пробивался шум душа, наверху кто-то ходил по потолку, внизу захлебывался унитаз. Можно было различить хлопанье дверей, вплетающееся в повторяющуюся мелодию лифта, шумы льющейся воды, иногда даже отдельные возгласы или песенку, если, бреясь, кто-нибудь напевал себе под нос. У людей были дела или они их придумывали. Болеслао был свободен настолько, что ему не хватало воображения, чтобы придумать себе хоть какое-то дело. Наконец он вставал, принимал душ, одевался. Нужно спуститься, чтобы купить газету.
Он спускался купить газету. Пролистать ее и решить кроссворд уже было занятием. Он начинал и заканчивал жизнь, решая кроссворды. Когда у Болеслао еще не было ни должности, ни денег, он решал газетные кроссворды. Теперь, когда у него опять нет должности, он снова разгадывает те же самые кроссворды, потому что, оказывается, они не изменились, и ему встречаются те же самые слова и те же вопросы.








