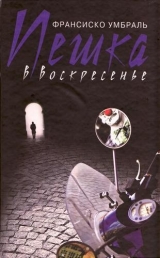
Текст книги "Пешка в воскресенье"
Автор книги: Франсиско Умбраль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
– Ты боишься ехать дальше задом?
На площади Кальяо гуляет утренний ветер с Гуадаррамы, принесенный из лесов убийственным декабрем. Он насквозь продувает тела двух друзей, защищенные только алкоголем.
– Я не боюсь ехать дальше задом. И, пожалуйста, поменяй себе имя. Как только ты перестанешь подписываться Леон Колон, твоя судьба изменится. Я больше боюсь жизни, своей собственной жизни, чем смерти, своей смерти. Но лучше я останусь здесь.
– Тебя подцепит какая-нибудь проститутка с Почтамта.
– Я тебе уже сказал, что у меня не осталось ни одного дуро. Ничего, кроме нищеты, чтобы предохраняться от спида.
– Какое великолепное изречение, Болеслао. Позволишь взять мне его на вооружение?
– Оно твое.
Гран Виа делается абсолютно пустынной, что тоже представляет собой любопытное зрелище, поскольку речь идет о самой людной улице Испании. Леон Колон – небольшого роста, в очечках, улыбчивый, образованный и хороший человек, возможно, скорее эрудит, чем писатель, – прощается с Болеслао/Гроком, садится в свою машину и выруливает на проезжую часть, занимая на ней полосу согласно правилам дорожного движения, но задом наперед. Грок не обременяет себя тем, чтобы объясниться с ним по поводу своей новой личности, так как друзьям не следует морочить голову. И Леон исчезает из поля зрения.
Может быть, время действительно круглое? Грок остается на площади Кальяо у закрытого бара, откуда на самом деле и началось это нескончаемое воскресенье, продуваемый всеми ветрами, и его лысина на сквозняке, полоскающем четыре волосинки, становится еще более лысой. Он поднимает воротник своего пальто из ткани «в ёлочку», пальто, которое его поддерживает, потому что пахнет им самим и потому что будет последним в его жизни, согласно открытию, сделанному в три часа дня в баре, сейчас не работающем.
Грок/Болеслао (имена могут быть поставлены и в обратном порядке), оставшийся стоять с пустым стаканом из пластика в руке, космически одинок в шесть или семь часов утра (выше, кажется, было сказано, а может и нет, что этот человек выбросил часы, как только оказался на пенсии). Стакан пуст. Но виски, как всегда, согревает его душу, и он чувствует себя и осознает стоящим в центре розы ветров – Кальяо – в условном географическом центре Испании. Северный ветер пробирает его до костей, но он держится (благодаря алкоголю) прямо, и его голова высоко поднята.
* * *
Раньше Болеслао посещал места, где собирались незамужние женщины в возрасте. Все они, участвуя в общей тусовке, были демократичны и свободны, однако одни оказывались доступными, другие – нет.
Болеслао всегда считал, что на поиски самки нужно выходить, когда стемнеет и в одиночку. Он был одиноким степным волком. Никаких совместных загулов с приятелями, чтобы не помешать друг другу. Кроме того, у него была собственная квартира, хотя и небольшая, но расположенная в центре. И наличие этой холостяцкой квартиры производило на старых дев сильнейшее впечатление, так как незамужняя женщина в душе – несостоявшаяся супруга и ей сразу же хочется организовать на свой лад жилище свободного мужчины.
– Разведенный, конечно.
– Неженатый, любовь моя.
И они буквально цепенели. Болеслао таким образом обнаружил, что мог продать свою холостяцкую жизнь по какой угодно высокой цене, что практически любая сорокалетняя женщина готова отдаться ему только, чтобы почувствовать себя королевой в этом маленьком мужском королевстве, которое, как говорит Джуна Барнс[20]20
Джуна Барнс (1892–1980), американская писательница и художница, авангардист.
[Закрыть] (нимфоманка до мозга костей) всегда пахнет металлом. Разумеется, мужчина пахнет металлом. Металл содержится в слюне как миллиграмм серебра в море, и естественно это становится причиной образования зубного камня.
– У тебя есть каменный налет на зубах?
– Нет. А почему ты спрашиваешь?
– Дело в том, что у всех старых холостяков зубы с каменным налетом.
– Я не холостяк. Я неженатый.
– Дорогой, не надо так ерепениться, я всего лишь спросила.
И при этом уголком простыни вытиралось все, что вытекло из влагалища после соития. Старые девы могли быть горячими, полными, худыми. Они заканчивали свою работу в семь или восемь часов вечера и шли в клубы, организованные с учетом их возрастных данных, в поисках мужчины. При Франко, чтобы выйти замуж. После Франко, чтобы обзавестись партнером.
Со временем Болеслао стал привередливым и, уже не удовлетворяясь первой встречной, выбирал такую, которая в свои сорок сохраняла грациозность двадцатилетней, оставалась стройной, а внутри – простодушной, то есть, в конце концов, так и не повзрослевшей девочкой. Одна стала приходить регулярно, хотя и очень редко. Появилась даже такая, которая оседлала его настолько, что сумела без особого труда расстроить всю его игру с квартирой и влюбленностями.
– Эта твоя квартира гадость, Венсеслао, дорогой, или как там правильно твое имя. Завтра же переезжаем ко мне, там нам будет очень уютненько.
И Венсеслао/Болеслао ничего не ответил, но про себя почувствовал, что мир перед ним открывается.
Он был сыт по горло своим домом. Ему надоела его жизнь. Ему надоел Болеслао.
Незамужняя женщина с квартирой или отдельной комнатой означала большую жилую площадь, просторную супружескую кровать, возможность смотреть телевизор на расстоянии, библиотеку с подборкой книг, получивших премию издательства «Планета» и два телефона, и два туалета.
Болеслао пользовался всеми преимуществами брака, не состоя в браке: нежился в ванне; без необходимости принимал душ; мочился в умывальник, что доставляло ему особое удовольствие; звонил своим друзьям, остававшимся за кадром, – Агустину, Хансу, Хосе Лопесу, Леону Колону или кому-нибудь еще, только для того, чтобы сообщить им, что я здесь, в доме у одной подруги, да, часто навещаю, у нее квартира, и она живет одна, надо бы договориться и как-нибудь встретиться, чтобы пропустить рюмку – другую.
С помощью пульта дистанционного управления Болеслао включал телевизор, хотя никогда не смотрел его, так как он ему напоминал игрушечный детский кинотеатр. Основательно ублажив женщину, наблюдал, как она гордо носит свою обнаженную целлюлитную плоть из кухни в спальню, готовя по установившемуся порядку ланч/ужин или что-то вроде того, что-то очень интимное. Женщины обязательно склонны к интиму.
Болеслао продолжал поддерживать эти отлаженные, почти супружеские амурные отношения, удобные, тактичные и доставлявшие ему радость, хотя и понимал, что в глубине они скрывают притязания на замужество, которые с каждым днем, несмотря на всю деликатность партнерши (партнерш), становились все более настойчивыми.
Стабильность благотворно сказывалась на его сексуальном тонусе и финансовом положении, чего, правда, не скажешь о внешности. Одинокий мужчина всегда выглядит стройным, а присутствие рядом женщины неизбежно оборачивается тем, что ты начинаешь толстеть. Как-то так получается, мать твою, что начинаешь набирать вес, тьфу.
Из-за долгого воздержания и подавления полового инстинкта, старые девы, похожие на древнеримские развалины, отличались повышенной сексуальной активностью. Однако Болеслао был опытным бойцом и знал хитрости, позволявшие измотать женщину (слабость женщины в самой ее приспособленности получать удовольствие). Доведя женщину до изнеможения, Болеслао заканчивал дело, как Луис Мигель Домингин[21]21
Луис Мигель Домингин (1926–1997), знаменитый испанский тореадор, дебютировал в 12 лет в Лиссабоне, последний бой провел в 1973.
[Закрыть] в свои лучшие годы (однажды за каким-то ужином Болеслао представили Луису Мигелю, этим его знакомство с искусством корриды и ограничивалось). Среди незамужних женщин попадались культурные и глупые; с прическами из парикмахерской и мыслями из парикмахерской; с накрашенными лаком ногтями и с лакированной душой; запутавшиеся в своих похождениях свободных (запоздало свободных) и смутно стремящиеся к тому, чтобы в идеале заполучить покладистого холостяка с положением.
Болеслао не говорил им, что уже на пенсии. Это старит. Но ему вдруг стало казаться, что все они с их чаем сразу после полового акта или половым актом сразу же после чая (в зависимости от обстоятельств), пахнут мертвечиной (мертвецы женского рода пахнут не так как мертвые мужского рода), и именно тогда он начал больше думать о половой зрелости/незрелости Флавии, а его встречи с незамужними (или их встречи с ним) постепенно пошли на убыль.
Другие миры отдалялись от его мира.
Люди уходили от Болеслао. Это и есть состариться и оказаться на пенсии еще полным сил: видеть, как все отворачивается от тебя и исчезает в полусвете наступающих сумерек. После половой близости, обессиленный, он по привычке выходил в гостиную абсолютно голым, включал с помощью пульта телевизор и смотрел все на что натыкался, – лишь бы не говорить о браке (или о чем угодно другом) с нежной, не предъявляющей почти никаких требований, но старой незамужней любовницей.
* * *
Итак, Агустин мертв. Заледенелый, он лежит в ящике, в ящике холодильника, дожидаясь восьми утра, чтобы мы его похоронили, кремировали, – в общем, исполнили погребальный обряд.
Грок думает об А.
А. с противоборствующими внутри него силами жизни и смерти. Два фронта, как на войне. Гражданская война, которая всех нас ждет сразу после смерти. Одни органы не соглашаются с тем, что мертвы, а другие уже начали сотрудничать со смертью.
Хорошо еще, что в больших клиниках лед всему этому кладет конец, как снег, покончивший с русской кампанией Наполеона. Температура понижается или холод нарастает, и все внутри останавливается. Последние порции крови замерзают среди внутренних тростниковых зарослей человеческой реки, и – готово. Да, точно, замерзание, заморозка умершего, это как снег, покрывающий тела убитых на поле боя. Гниение замедляется, все успокаивается и даже становится привлекательным. Столько белизны. Сейчас А. это армия Наполеона (или Гитлера), захваченная в плен среди снегов России.
Что происходит после смерти с мертвецом. Что будет со мной, когда я умру. Ничего. Жизнь продолжается за пределами жизни. Так мы иногда продолжаем искать то, что уже нашли. Работа тела циклична, и пока цикл не закончен полностью, некоторые химические процессы не прекращаются из-за того, что человек умер. Это доказывает, что они не связаны также и с тем, что человек жив. Другие процессы наоборот прерываются мгновенно. Например, мышление. Или этот старый мельничный жернов, – сердце. Хлоп, и готов. И все же, человек (даже если выстрелить в него из револьвера), заключает Грок, не умирает полностью, у него нет даже этой привилегии – умереть сразу.
Жизнь, как говорил классик (даже не подозревая, насколько он прав), это река, впадающая в море, в море смерти. И река еще долго продолжает течь после официально зарегистрированной смерти. Грок вспоминает, что, когда раскапывают могилы, обнаруживают обыкновенно, что у мертвецов отрасли волосы и ногти, и тут же решает, что его сожгут. Как только приду домой, оставлю письменное распоряжение, чтобы меня сожгли, не хочу быть этим мертво-живым дерьмом. Собственно это и есть человек перед лицом вечности. Так много красивых слов о вечном покое, а выходит, что нет его, есть гражданская война под землей, длящаяся возможно годы, не говоря уже о червях и прочей мерзости. Нет уж, пусть меня сожгут, господин Судья.
А. сейчас одеревенел в своем шкафу для мертвецов. Даже его жене не позволят вытащить умершего из ящика, чтобы хотя бы немного поговорить с ним. Все знают, что женщины большие говоруньи. У них всегда есть, что рассказать усопшему. В своем холодильнике для мертвецов А. стал совсем твердым. У него реденькая челочка учащегося колледжа, или его голова перебинтована из-за того, что была повреждена при столкновении. Он уже без трубок, проводов и иголок, его лицо снова задрано вверх, спокойное и ироничное перед неудачной судьбой, перед своей неудачной судьбой. Спокойствие смерти как маска поверх естественного спокойствия человека, который верит в то, что делает или которому все равно. А. был небольшого роста. Так что для него не потребовалось очень большого ящика. Подобие каталожного шкафа для хранения умерших, где вместо каталожной карточки сам мертвец.
И холод, страшный холод, заморозки до отрицательной температуры. Холод, который Грок чувствует, прогуливаясь по Гран Виа. Ему хочется оказаться в клинике и укрыть А. своим пальто «в ёлочку». Меня пусть похоронят в пальто, в этом пальто. В той мере, в какой память о нем жива во мне, я – это он, после смерти прогуливающийся по Гран Виа в пальто «в ёлочку», одолженном ему мной, чтобы уберечь от холода смерти. Мысленно А. со мной, я помню, как хорошо он тогда сказал (как всегда о чем бы ни говорил), он говорил лучше, чем рисовал: «Аска, как Нью-Йорк, это уже маньеризм функционализма». Или вот еще: «В белом монахе Сурбарана слишком много монаха».
Я прогуливаю А., неудачливого художника, находящегося во мне, одетого в мое пальто ранним утром по Гран Виа, и мы видим витрины, проституток и выпивох. Благодаря мне, или отвратительному виски, проданному нам старухой с Кальяо, которое, естественно, плохо пошло, А. и я – мы вместе впитываем в себя последний вольт энергии на Гран Виа, перед тем как его похоронят или кремируют, неважно что это будет. Смерть работает внутри умерших, так же как жизнь внутри живых. Но абсолютный нуль задерживает этот процесс. Сейчас А. не более чем предмет; человеческая каталожная карточка; карточка, имеющая объем; документ, обладающий телом; тело в ореоле разного рода сведений, как в кладбищенских цветах.
Вот что ждет тебя, Грок, и это случится скоро, парень, потому что если человек сам не уходит из жизни, то жизнь уходит от него. А. повезло умереть вовремя. Вовремя и быстро. А ты Грок, козел, наоборот, умираешь медленно и понемногу.
Ясно, что гробить себя с помощью дерьмового виски мерзкой старухи, это «наоборот и понемногу». Сколько при этом мучаешься, и как болит голова. Да, это другой процесс, состоящий в том, чтобы жить, умирая. Понятно, что мы все умираем при жизни, это общеизвестно, кто-то сказал, что уже с двух лет начинается конец. Однако я имею в виду сейчас тех, кто умирая, отдает себе в этом отчет: каждый день от нас отделяется, омертвев изнутри, часть тела, и каждый день от нас уходит порция жизни, полуостров биографии, целый континент, что угодно. С каждым днем мы становимся более одинокими и более мертвыми, и здесь нет ни заморозки, ни просфор, только жизнь, чтобы дать себе отчет, что ее остается все меньше и меньше. Жить, Грок, означает присутствовать при собственном умирании, потому что смерть начинает свою работу задолго до того, как ты разобьешься на мотоцикле, как это случилось с А. Смерть работает в долгосрочном режиме.
Но, так или иначе, то, что произошло с А., вызывает сочувствие, заставляет представлять его совсем одеревеневшим, под воздействием бесконечно низкой температуры. Он был как этот ловкий кривляка Уолта Диснея, а теперь стал человекообразным поленом, счастливый навеки, какое страшное счастье. Надо сказать Андреа, чтобы его кремировали.
Грок принимает решение стащить у старухи последний пластиковый стакан виски из бензина, (может быть, оно прикончит его), и торопливо направляется к тому углу, на котором стояла торговка. У него нет ни одного дуро, но он решил задушить ее, если она не даст ему этой отравы. Еще не дойдя до угла, уже издали, он видит, что старуха ушла.
* * *
Вечером Болеслао иногда (только чтобы поглазеть на голые груди) заходил в top/less. Все очарование голых грудей для Болеслао было в их естественности, в движении, в натуральности увиденного. О, ни с чем не сравнимый эротизм женщины, когда она держится запросто, как всегда!
Не случайно, когда в Англии, в поствикторианскую эпоху, разрешили обнаженный театр, обнаженные должны были оставаться неподвижными. Англичане очень тонко подметили, что эротизм заключается в движении. Причем не в намеренно эротичном, например, в танце, а именно в естественном, свободном. В конце концов, ради этого женятся, – чтобы получать удовольствие, наблюдая за женщиной в ее естественном состоянии. В любви женщина притворяется, во время секса позирует. Тот, кому нравятся женщины, ищет (отсюда его вуайеризм) наготу бесхитростную, домашнюю, не выставленную напоказ, а доступную лишь для близкого круга, как бы не помнящую себя.
В общем, получалось, что в этих ничем не примечательных и насквозь коммерческих заведениях, в top/less, свершалось чудо. Девушка, официантка (они всегда менялись), вынужденная сосуществовать со своим голым бюстом, пробивать им себе дорогу, продираясь между двумя и даже тремя рядами мужчин, позволять грудям висеть, когда она наклонялась, чтобы поставить на стол выпивку, забывалась как студентка, разгуливающая с торчащими сосками среди своих книг.
Болеслао казалось, что он достиг сокровенных глубин, размышляя о top/less. Утром девушки там очень старались, но рутина, привычка, повторяющиеся ситуации, усталость заставляли их в конце концов забывать о своем обнаженном торсе, и, привлеченные игрой в кости, позабыв о своих грудях, как о двух маленьких уснувших детенышах, они вдруг сами принимались играть вместе с клиентами.
И тогда наступало время Болеслао. Для него это была возможность наслаждаться природной красотой прекрасных грудей, больших или маленьких, обвисших, «трудовых», которые делали работу наравне с другими частями тела, обслуживая клиента.
В амурных отношениях со своими незамужними подружками Болеслао всегда старался не пропустить момента, когда после оргазма (оргазмов) она вставала и, совершенно голая, в поисках сигарет обшаривала всю квартиру. Сидя или полулежа в постели, Болеслао наблюдал за этим в зеркала и через полуоткрытые двери, видя женщину такой, какая она есть в реальной жизни, а не позирующей перед мужчиной.
Но если это тебе так нравится, козел, почему же ты не женился?
Понятно почему. Потому что потом человек, судя по всему, привыкает и даже не смотрит в их сторону.
Таким образом, Болеслао всю жизнь подсматривал за женщиной, чтобы увидеть ее такой, какая она есть от природы. Поскольку он умел ждать, top/less удовлетворял эту его страсть. Некоторые официантки его уже знали, им было известно, что от него много не перепадет, может быть, потому что у него нет денег, и в результате обслуживали более по-свойски, нехотя, забывая о коммерческом назначении своих грудей.
И как раз тут он начинал получать удовольствие. Болеслао был не против переспать с кем-нибудь из них, но у него действительно не было обыкновения носить с собой для этого деньги, а, кроме того, он знал, что как только отношения изменятся, пропадет все очарование. Женщина начнет следить за собой, неестественно выпрямится в стремлении выглядеть более привлекательно и неотразимо. И поэтому ограничивался тем, что без разбору заходил в любой top/less (в его районе их было много), заказывал виски и наслаждался видом молодых обнаженных грудей, оказывающих в начале ночи такое же действие, как стрелы с ядом кураре. Но к четырем часам утра или раньше они постепенно обретали свою натуральность, раскрываясь полностью перед последним одиноким клиентом как целомудренный и усталый цветок хандры, успокоившегося желания и материнского сна. Ковровую ткань заведения как бы покрывали увядшие сдвоенные цветы усталых грудей, нежных и ненужных, таких совершенных и таких опустошенных.
И таких магнолиевых.
* * *
Грок чувствует, что в состоянии провести всю ночь, то есть еще три или четыре часа, остающиеся до похорон Эснаолы[22]22
Футболист, вратарь.
[Закрыть], гуляя по Гран Виа. Но ему нужно срочно выпить виски, а все закрыто и к тому же у него нет ни одного дуро.
Думая обо всем этом, он медленно продвигается по широченному проспекту. Темные участки иногда сменяются ослепительным сиянием бесполезных витрин. Если бы наткнуться на что-нибудь открытое, то можно было бы зайти, взять одну или две порции виски, а дальше само виски наверняка подсказало бы, как объяснить, что у него нет денег. Можно было бы прикинуться провинциалом, у которого утренний поезд на Таранкон, или разыграть номер с кошельком, сказать, что у меня украли кошелек, что у меня украли кошелек, и это было бы очень даже правдоподобно. У какого провинциала не вытаскивали кошелек на Гран Виа в пять утра?
При этом Грок принимает во внимание, что выглядит как вполне приличный господин, как добропорядочный, уже почти облысевший пенсионер, в очках почти как у интеллектуала. Грок рассчитывает на это «почти».
Молоденькая проститутка, из тех, что задержались в это время суток на улице, одна из последних, решительно подходит к Гроку:
– Привет, я Клара.
– Я ищу тебя целую ночь.
– Дорогой, значит, ты недостаточно хорошо меня искал.
У Грока опять останавливается сердце. С ним это бывает. В таких случаях он испытывает огромное облегчение, чувствуя, что вот-вот умрет, но не умирает, а продолжает жить с остановившимся сердцем. Это что-то вроде научного эксперимента. Как в тот далекий вечер в парке, когда к нему подошла Флавия. Или кто-то еще.
– Но разве ты не постоянная в Шахразаде?
Клара взяла его за руку, и они неторопливо шагают рядом.
– Да, конечно, в Шахразаде я постоянная. Находиться здесь, на Гран Виа, мне запрещено. Сохрани мою тайну.
– Она уже принята на хранение. А если тебя засекут?
Клара пахнет девочкой, сделавшей себе макияж, и проституткой, еще не вышедшей из детского возраста. Клара пахнет одеждой для первого причастия и макияжем, начавшим разлагаться от черного поцелуя ночи.
– Если засекут, буду уличной проституткой, и мне ничего не останется, кроме как промышлять на Гран Виа. Хуже некуда. А потом богадельня и – ногами вперед.
– Я действительно очень сочувствую тебе, Клара, но у меня не осталось ни одного дуро.
– Ну и что, – говорит она почти весело. – Мы можем погулять вместе.
– Но не перепихнуться вместе.
– Дорогой, ты ни о чем другом не думаешь кроме как о перепихнуться.
– У тебя выросли волосы, Клара?
– Какие волосы.
– Те, что ты сбрила вечером для меня. Какие же еще?
– Клара взрывается от смеха и становится еще моложе. На мгновение на улице светлеет от целой радуги звуков, которыми вспыхивает тишина. Клару смешит мысль о волосах, появляющихся на лобке механически (как в мультфильме), сразу же после того как их сбривают.
– Ну, ты и комик!
– Но я не шутил.
– Там у меня все выбрито и свеженькое, любовь моя. Для тебя.
Грок прекрасно видит, что Клара понятия не имеет, как его зовут, не знает ни одного из его имен. Он останавливает ее перед освещенной витриной, берет за плечи и смотрит на залитое светом лицо. Оно смуглое, юное, благородное и порочное, скорее порочное, чем благородное.
– Я тебе уже сказал, что у меня не осталось ни одного дуро, Клара. Не теряй из-за меня ночь. Я искал тебя в квартале Консепсьон.
– Консепсьон? Я не живу там уже сто лет. Но давай пойдем к тебе, если хочешь, и там у тебя найдутся…
– Не хочу, Клара. Если бы у меня было двадцать дуро, то выпил бы виски. Мне это сейчас нужней.
– То есть ты указываешь мне на дверь.
– Я был влюблен в тебя несколько часов. Потом полюбил другую, паралитичку. А сейчас мне просто нужно выпить. И больше ничего. Но у меня нет денег.
– Тогда проси милостыню, алкаш. Все пьяницы попрошайничают. Чао, аморе.
– И Клара на пересечении с Монтера по-детски и вместе с тем со злорадством, жестко и развязно, улыбается ему.
– Прощай, Клара.
– Привет твоей паралитичке. В Шахразаде ни слова о том, что видел меня здесь.
Она остановила такси и уже забралась в него. Грок не смотрит на отъезжающую машину. Он ни на что не смотрит. Он оценивает последние слова, сказанные Кларой: «Тогда проси милостыню, алкаш».
* * *
Время относительно, это понимал уже Эйнштейн, и Грок, пока бесцельно блуждает по главной улице Мадрида, как бы подводит черту подо всем, что произошло с ним в это необычно длинное воскресенье. И наиболее значительным ему кажется эпизод с собакой, мертвой собакой, подобранной Хосе Лопесом на шоссе, которую они похоронили в Каса де Кампо в самом начале вечера (в каком начале, какого вечера?).
Хосе Лопес, старый панк, заметил что у собаки были хорошие вибрации, и они присели ненадолго на ее могилку, прямо на землю, и Хосе Лопес почувствовал, что хорошие вибрации от собаки входят в него через задницу, а в Болеслао через задницу входил только холод. Теперь Грок, думая об А., вспоминает и о той собаке. Собаку не замораживали, и ее никто не будет кремировать, чтобы она не гнила. Собака станет землей, смешавшись с землей, от нее останется лишь великолепный узкий череп, тонкой и примитивной формы, и никому и в голову не придет его выкопать. У собаки не было даже имени.
Так чья же смерть комфортней: А., замороженного и хранящегося сейчас в холодильном шкафу, или собаки, укрытой теплой землей?
А что предпочел бы я, спрашивает Грок, лежать в шкафу/холодильнике или покоиться в могиле под рассыпчатой, теплой мадридской землей Каса де Кампо? Быть кремированным в течение четверти часа, превратиться в подобие пепла от сигареты, или медленно, постепенно разлагаться, отдавая вещества, из которых состоит мое тело, земле и принимая в себя ее привкус и корни?
Грок не помнит, задавал ли себе этот вопрос раньше, но ему все равно. Он думает о собаке, которую они похоронили, не зная, как ее зовут. Грок внезапно чувствует, что у него много общего с собакой, имени которой никто не узнает, после того, как ее похоронили. И от этих мыслей ему становится легче.
– С тех пор как меня отправили на пенсию, я превратился в бродячую собаку, – произносит он вслух.
Гран Виа в пять утра похожа на марсианскую Гран Виа, на которой желтые марсиане, сделанные из пластика, поливают, чистят, метут, моют, собирают мусор. На своих вращающихся самосвалах конической формы они увозят город.
Гроку не удается придти к какому-либо выводу. Тем не менее, он пытается осознать все, что случилось с ним в течение дня: встреча с Хосе Лопесом у входа в метро; дождь из мертвых ежей; несколько рюмок, выпитых в старом, с претензиями на изыски кафе, облюбованном проститутками; похороны бездомной собаки; секс с подружкой Хосе Лопеса; гнилые зубы девушки; встреча с А.; смерть А.; езда по Мадриду на минимотоцикле Ханса; бритье лобка Кларой (вероятно, это было раньше); костры алкоголиков; половой акт на кладбище с Беатрис (Беатрис?) – паралитичкой; запорошенные снегом ангелы. Пьянчуги, проститутки и лесбиянки среди ангелов, похожих на скульптуры Викторио Мачо[23]23
Викторио Мачо (1887–1966), известный испанский скульптор, автор многочисленных композиций на религиозные темы, в том числе установленных (как памятники) на различных кладбищах.
[Закрыть], Переса Комендадора… Расставание с Хансом на улице Хардинес; экскурсия задом наперед на машине писателя; хождение по Гран Виа; обязательство, долг, необходимость оставаться на ногах до назначенного времени похорон А., так как будут Саура, Бархола, Антонио Лопес – мастера, на которых А. всегда ссылался. Мертвые ежи на Гран Виа, дождь из мертвых ежей и дикобразов на Гран Виа в пять утра. Это, должно быть, delirium tremens, думает Грок. Однако еще хуже, когда delirium tremens это не delirium tremens. Тихий, спокойный, сгнивший белый дождь из мертвых ежей моросит на Гран Виа, в то время как поливальщики и мусорщики, которые могли бы очистить улицу, уже ушли. Грок переставляет ноги осторожно, стараясь не наступить на шершавое и хрупкое, лазурное и еле заметное на мостовой мертвое тело какого-нибудь ежа.
* * *
Грок, чтобы укрыться от дождя из мертвых ежей, бросается в подземный переходу Центрального почтамта. Эскалатор не работает, и несколько ежей уже упали на его верхние ступеньки. Он спускается ниже, в само подземелье, где разместилась целая коллекция разновозрастных персонажей, которую собрала ночь: мертвые хиппи; живые панки; андеграунд; алжирцы проездом во Францию; скрипачи; местные рокеры; уличные барды; обколотые наркоманы и прочий опустившийся сброд, прошедший огонь и медные трубы; жертвы анфетамина, пребывающие в эйфории; педики; малолетние педики; безработные и больные спидом. Получается, что Гран Виа находится под Гран Виа, отмечает про себя Грок.
Какой-то человек, спавший на одеяле, вдруг зашевелился и приложился к своей фляжке. Алкоголь. Грок мгновенно замер. Не переставая следить за типом на одеяле, прислонился к стене и сполз по ней на каменный пол. Он готов ждать еще хоть целый час, чтобы попросить глоток у обладателя фляжки, когда тот проснется снова. Всего лишь один глоток не важно чего.
Переход наполнен музыкой и сном. Кажется, что одна парочка распутничает в полумраке, не обращая внимания на то, что света многовато. Гомик бесцеремонно дрочит член мужчине, которого можно заменить на Грока. И Грок понимает, что его тоже можно заменить, что пятьдесят процентов мадридцев могли бы занять его место. Грок понимает, что он не Грок, не Болеслао и не кто-либо еще, а человек с улицы, обыкновенный житель Мадрида, ничем особо не выдающийся, нечто аморфное, общеизвестное как общественное мнение, на самом деле не имеющее мнения. В голосовании оно всегда принимает участие, но своего мнения не имеет.
Пахнет сыростью и музыкой. Пахнет Мадридом, но только расположенным глубже и более заспанным. В ожидании выпивки, чтобы скоротать время, Грок ищет глазами женщину, которая могла бы ему понравиться.
Этот сукин сын мне не откажет. Даст глотнуть. Сукин сын (алжирец) снова приподнялся и уперся спиной в стену, облицованную белой керамической плиткой. Кое-где на ней наклеены старые плакаты с изображениями красоток. Рядом с алжирцем лежит прямоугольной формы картонка, взывающая о помощи: «голодаю нет работы милосердие нужно пятьсот пст. да храни вас господь огромное спасибо, я проездом».
– Раньше вас здесь не было, – произносит алжирец, обращаясь к Гроку.
На голове у алжирца островерхая зеленого цвета шапочка с помпоном. Заспанность, общие расовые черты и нищета стерли с его лица характерные признаки возраста. На вид ему можно дать как тридцать, так и пятьдесят лет.
– Вы очень хорошо говорите для алжирца, как мадридец.
– Я уже целый месяц в Мадриде. Ищу работу, но не выходит работа. У меня есть способность к языкам. У вас нет внешности, чтобы находиться здесь. Вы очень хорошо выглядите.
– Что значит хорошо выглядеть?
– Не смейтесь надо мной, сеньор. Вы, испанцы, очень хорошо знаете, что это такое. Вы народ, умеющий выглядеть лучше всех в мире. Я знаю это потому, что смотрю за вами на улице и потому, что видел Веласкеса и Эль Греко в Музее Эль Прадо. В первый день я пошел в Прадо, чтобы украсть Греко. Если сделаешь это, Хафид, сказал я себе, у тебя все будет в порядке. Но оказалось, что украсть Греко не так просто. Хотя, пока я в Мадриде, надеюсь украсть его. А если не украду, поеду в Париж работать уборщиком.
– Сейчас!
Грок ждет, когда среди одеял и прочих дорожных вещей, которые напялил на себя алжирец, появится фляжка. Алжирец оказался бойким и разговорчивым, но для Грока это не имеет значения. Все, чего он хочет, – один глоток.








