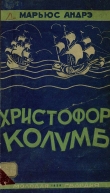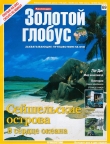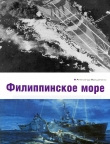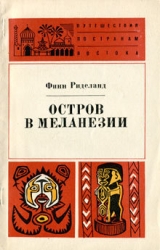
Текст книги "Остров в Меланезии"
Автор книги: Финн Риделанд
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
В. Кабо
Послесловие
Когда закрываешь последнюю страницу книги Ф. Риделанда, невольно думаешь о том, что разные бывают на свете врачи – равнодушные формалисты и люди, глубоко сочувствующие тем, кто доверил им свое здоровье и саму жизнь. Автор нашей книги относится ко второй категории. Участие к людям с темным цветом кожи, которым он посвятил годы жизни, придает его книге особую теплоту, а талант рассказчика делает ее увлекательной. Да и совсем немного на русском языке книг, посвященных Соломоновым островам.
Соломоновы острова находятся в Центральной Меланезии – огромном мире островов, населенных темнокожими людьми, говорящими на меланезийских, папуасских и полинезийских языках. В политико-административном отношении Соломоновы острова делятся на две части: наиболее северные острова – Бугенвиль, Бука и Ниссан – относятся к подопечной территории ООН и находятся под управлением Австралии, остальные являются протекторатом Великобритании. Большая часть книги посвящена острову Бугенвиль, последняя глава – острову Малаита из группы Британских Соломоновых островов.
Все большие острова архипелага – вулканического происхождения, а на острове Бугенвиль есть и действующие вулканы – Балби и Багана. Извержения вулканов, землетрясения запечатлелись в сознании меланезийцев и отразились в их религии и фольклоре.
Меланезийские и полинезийские языки вместе с индонезийскими и микронезийскими входят в малайско-полинезийскую, или австронезийскую, семью языков; к ней принадлежит также язык коренного населения Мадагаскара. Папуасские языки составляют совершенно особую группу и не обнаруживают родства с иными языками мира; различаются они и между собой, так что их правильнее было бы называть неавстронезийскими языками. В настоящее время они распространены главным образом на Новой Гвинее, но сохранились местами в архипелаге Бисмарка и на некоторых Соломоновых островах, в том числе на острове Бугенвиль. В прошлом папуасские языки были распространены, вероятно, гораздо шире. На них говорило древнейшее население Западной Океании. Австронезийские языки распространились здесь позже, по мнению некоторых лингвистов, – во втором тысячелетии до нашей эры.
Древнейшей основой, на которой формировалось современное население Западной Океании, были австралоиды позднего палеолита и неолита, ареал расселения которых простирался от Азиатского материка на севере до Австралии на юге. Со временем этот древний расовый ствол дал многочисленные побеги. Наиболее ранней его ветвью, расположенной всего ближе к исходному австралоидному типу, являются австралийцы. Другие темнокожие группы Юго-Восточной Азии и Океании вследствие различных географических и исторических причин отошли от исходного расового типа в значительно большей степени и в разных направлениях. На Индокитайском полуострове, на бесчисленных островах Индонезии и Западной Океании в пределах формирования новых территориальных расовых типов шло образование и новых этносов, характеризуемых не только антропологическим, но и культурным своеобразием.
На общую, исходную антропологическую основу, на которой происходил процесс формирования и дифференциации современных австралийцев, папуасов и меланезийцев, указывает то обстоятельство, что морфологические различия между этими тремя группами сравнительно невелики, а потому и четкую антропологическую границу между ними провести не всегда легко. Еще H. Н. Миклухо-Маклай обратил внимание на антропологическую близость папуасов Новой Гвинеи к австралийцам, а обе расовые группы, в свою очередь, имеют целый ряд признаков, сближающих их с меланезийцами. Факты говорят о том, что все эти народы – ветви единого расового ствола, различия между которыми образовались с течением времени в итоге взаимного географического разобщения. На австралоидной основе образовались и негритосы Юго-Восточной Азии и Океании.
Но не все части мира, населенные ныне австралийцами, папуасами и меланезийцами, были заселены одновременно. Раньше всего была заселена Австралия. Согласно новейшим радиоуглеродным исследованиям органических остатков, найденных при раскопках древних стоянок, заселение Австралии человеком произошло не позднее тридцати тысяч лет назад, но есть основания полагать, что, может, и раньше. Новая Гвинея заселена одновременно с Австралией или на несколько тысячелетий позже. Археологически она еще слабо изучена, но уже сейчас здесь обнаружены каменные орудия, возраст которых, по радиокарбону, достигает двадцати шести тысяч лет. Заселение Западной Океании произошло позднее – от трех до четырех тысяч лет назад. Марианские острова в Микронезии были освоены людьми три с половиной тысячи лет назад, а Новая Каледония, острова Фиджи и Новые Гебриды в Меланезии – три тысячи лет назад. Тогда, вероятно, были заселены и Соломоновы острова, хотя археологическими данными это пока не подтверждено. Очень возможно, что носители папуасских языков населяли Западную Океанию – вероятно не всю, а лишь часть ее – задолго до этого, но радиоуглеродные исследования еще не выявили древнейший этнический пласт. К этому времени, должно быть, относятся каменные орудия, найденные на Новой Британии и на Соломоновых островах, напоминающие патжитанские орудия Явы, которые восходят еще к ледниковому периоду.
Происхождение меланезийцев не следует относить к одному месту или одному периоду. Это был длительный, растянувшийся на тысячелетия процесс постепенного освоения выходцами из Юго-Восточной Азии островов Западной Океании. По мере расселения по необъятным просторам Океании, по мере смешения одних групп и изоляции других образовывались новые антропологические типы и новые этнические общности. Скорее всего, люди пришли на острова Западной Океании впервые в конце последнего ледникового периода или в начале послеледниковой геологической эпохи, когда уровень мирового океана вследствие таяния ледников и тектонических движений становился все выше и выше и над поверхностью воды оставались лишь самые возвышенные части суши, простиравшейся здесь в плейстоцене; они-то и стали островами Индонезии и частично Меланезии. Гипотеза Риделанда о том, что население Меланезии пережило геологическую катастрофу, связанную с мощными вулканическими извержениями, в результате которых древний Меланезийский материк опустился на дно океана, малоправдоподобна. Во всяком случае, людям, жившим в Азии сорок тысяч лет назад, не нужно было, как пишет автор, выходить в море на лодках, чтобы искать новые земли. В это время суша еще лежала перед ними там, где теперь простираются воды океана, и лишь местами ее перерезали сравнительно неширокие проливы. Очень наивно звучат слова, что люди эти в «конце концов забрались так далеко, что уже не могли возвратиться на родину» (стр. 8).
Европейцы впервые узнали о Соломоновых островах от Менданьи де Нейра, который открыл их в 1568 г. Но лишь во второй половине XIX в. острова стали объектом активной деятельности европейских миссионеров и искателей наживы. Вместе с Новыми Гебридами Соломоновы острова превратились в один из главных районов «охоты на черных дроздов», насильственной вербовки рабочей силы для работы на плантациях Квинсленда, Фиджи и др. Черных рабов заманивали обманом на суда и увозили, приобретали с помощью подкупа их родственников или попросту похищали во время вооруженных набегов. «Охота на черных дроздов» – так цинично называли ее сами работорговцы – была прекращена на Соломоновых островах лишь в 1910 г. А между тем шел колониальный раздел островов: в 1893 г. правительство Великобритании установило протекторат над южной частью архипелага, а северную захватила Германия. После первой мировой войны германские владения в Меланезии, в том числе и Бугенвиль, отошли к Австралии в качестве мандатной территории. Во время второй мировой войны значительная часть Соломоновых островов была оккупирована японскими войсками. Коренное население оказало большую помощь войскам союзников и внесло ощутимый вклад в дело победы над японскими милитаристами. Тем нестерпимее было для меланезийцев возвращение прежних колониальных порядков. Вот почему народно-освободительная борьба на островах Меланезии, вспышки которой имели место еще до второй мировой войны, в послевоенное время развернулась с новой силой.
Послевоенные годы отмечены в истории Меланезии двумя процессами. С одной стороны, это – усиление эксплуатации местных природных богатств капиталистическими монополиями, рост плантационного хозяйства и числа промышленных предприятий, а значит, и численный рост меланезийского рабочего класса, словом, все более интенсивное втягивание островов на путь капиталистического развития, а с другой стороны – невиданный прежде рост общественного сознания когда-то отсталого коренного населения и его все более активное участие в политической и профсоюзной борьбе за свои права и интересы.
Борьба коренного населения за участие в управлении собственными делами, культурное его развитие едва ли возможны без взаимопонятного языка. Ведь население Меланезии крайне раздроблено в этническом и языковом отношениях. Отчасти роль такого средства общения для островов, населенных различными народами, выполняет язык одного из них, а в основном – так называемый пиджин-инглиш, или неомеланезийский язык, о котором немало пишет автор. Неомеланезийский все шире распространяется в Восточной Новой Гвинее и Северо-Западной Меланезии и становится средством общения для многочисленных племен и народов. На этом языке издаются журналы, печатаются книги. В 1971 г., например, вышла книга стихов папуасских и меланезийских поэтов.
Говоря об этнографических исследованиях на Соломоновых островах или в бывших немецких колониях на Новой Гвинее и в Меланезии, автор во многом неправ, что, вероятно, объясняется недостаточной его осведомленностью. Так, на стр. 13 он пишет: «Германия не снарядила ни одной научной экспедиции для исследования Новой Гвинеи, Новой Британии или Бугенвиля». Это едва ли справедливо. Достаточно вспомнить Немецкую океанийскую экспедицию 1908–1910 гг. (организованную Гамбургским научным институтом), которая работала главным образом на островах Микронезии, но отчасти и в Северной Меланезии. Для этнографического изучения Новой Гвинеи и архипелага Бисмарка много сделал в 80-х годах прошлого века Отто Финш. Служащий германской торговой компании Р. Паркинсон провел значительную часть своей жизни на архипелаге Бисмарка и других островах Меланезии, и его книга «Тридцать лет в Океании» (1907) стала одним из ценнейших источников этнографических сведений об этой части Меланезии, тогда еще едва затронутой влиянием европейской колонизации. Можно еще назвать немецкого путешественника Ф. Бургера и миссионера М. Рашера – оба они оставили важные труды о народах Новой Британии. Но особенно большой вклад в этнографическое изучение архипелага Бисмарка и Северных Соломоновых островов, в том числе Бугенвиля, внес немецкий этнолог и социолог Рихард Турнвальд, исследования которого развернулись в 1906–1909 гг. Перед первой мировой войной были опубликованы материалы его экспедиции, а в 1937 г. – книга о населении округа Буин на юге Бугенвиля.
Ошибается автор и на стр. 128 и 129, когда говорит о том, что на Бугенвиле и Малвите «почти не проводилось антропологических или этнографических исследований». Сам же он несколькими строками далее пишет об известном этнографе Яне Хогбине и его исследованиях на Малаите в 1930-х годах. О Р. Турнвальде уже было сказано. Миссионер Роберт Кодрингтон около 25 лет провел на многих островах Меланезии и обобщил свои богатейшие наблюдения в ставшем теперь классическим труде «Меланезийцы» (1891). Подобно Паркинсону, он был одним из первых исследователей Меланезии. В 1938–1939 гг. на Бугенвиле работала экспедиция музея Пибоди из США, материалы которой были изданы Дугласом Оливером в 1949 г. В 1955 г. вышла в свет его монография о папуасоязычном племени сиуай на Бугенвиле. И это – лишь основные этнографические труды о двух упомянутых островах.
Эти и многие другие исследования приоткрывают завесу над общественным строем меланезийцев, в котором и сейчас остается еще много неясного. В распоряжении любознательного русского читателя имеется обобщающий очерк С, А. Токарева об общественном строе и культуре меланезийцев, вошедший в книгу «Народы Австралии и Океании», изданную в 1956 году. Меланезийские племена делятся на деревни или сельские общины и в то же время на фратрии и роды. Из книги Риделанда мы узнаем немало интересного об этих общественных группах; но некоторые его сведения нуждаются в пояснениях. Так, он пишет, что население в долине реки Аита на Бугенвиле делится на пять больших родовых групп, причем каждая носит имя птицы или животного. Речь идет о широко распространенном у многих отсталых народов социально-религиозном явлении – тотемизме – вере членов рода в свое происхождение от символического существа, или тотема, в свою связь с ним. Далее мы узнаем, что каждая родовая группа делится, в свою очередь, на более мелкие экзогамные группы; внутри них браки запрещены, их члены вступают в брак только с людьми из других групп. Это может означать, что большие родовые группы (или «кланы», как их называет автор) не являются родами в строгом смысле слова, так как утратили один из главных признаков рода – экзогамию, и экзогамны теперь лишь более мелкие подразделения родовых групп. Автор не раз пишет о том, что все жители какой-либо деревни принадлежат к одному «клану», или роду. Очевидно, однако, что деревенская община – основная социально-экономическая ячейка у меланезийцев – не может состоять из представителей только одного рода. Ведь род экзогамен, его члены не могут вступать в брак друг с другом, а деревенская община состоит из семей. Либо автор в этих случаях неточен, либо речь идет о «родах», утративших экзогамию и по существу уже не являющихся родами, либо они принимают в свой состав выходцев из других родов, которые, вступая в брак, переходят в род супруга. О роде и в последнем случае можно говорить лишь условно.
Очень любопытна последняя глава книги – «Тайны Малаиты», посвященная социальной организации племени фаталека на Малаите. По существу, глава эта является самостоятельным этнографическим очерком, мало связанным с остальными главами. От этого она, однако, не становится менее интересной. Племя фаталека с его сложной иерархической структурой вождей, во главе которой сюит верховный вождь – таниота – из старшего клана, а ниже располагаются вожди остальных кланов, является наглядным примером одной из важнейших особенностей общественного строя меланезийцев: переплетения элементов первобытнообщинного и раннеклассового общественных укладов. К этому еще надо добавить разделение властей между представителями светской и духовной власти – нване иното и фатамбу. Такая система действительно для Меланезии почти уникальна, но все остальное не является чем-то исключительным. Аналогичные отношения, правда не в столь яркой форме, мы находим у сиуай на острове Бугенвиль, изученных Д. Оливером. Здесь, как и у фаталека, во главе общин стоят вожди – муми, власть которых в значительной мере опирается на богатство в виде свиней, раковинных денег и крупных земельных участков. Более развитая форма института вождей известна на Тробрианских островах, где образовалась, как и у фаталека, сложная иерархия вождей. Но особенно далеко зашел процесс социального расслоения на Новой Каледонии и островах Фиджи, а следующий этап этого процесса представлен в Полинезии; особенно характерен он для островов Тонга. Материалы, подобные очерку о фаталека, очень важны для понимания того, как, в каких формах происходит становление раннеклассовых отношений у народов. выходящих из первобытнообщинного строя. Фаталека в этом отношении особенно интересны, потому что у них мы находим как бы в зародыше все, что достигло своего расцвета в более развитых обществах Меланезии и Полинезии.
Интересно пишет Риделанд и обо всем, что связано с традиционной религиозно-обрядовой жизнью меланезийцев. Несмотря па очень широкое распространение, христианство не затронуло основ мировоззрения меланезийцев, но самым причудливым образом переплелось с древними верованиями и культами. Может быть, сильнее всего влияние христианства сказалось на мессианизме и эсхатологических чаяниях, на страстном ожидании конца мира. В итоге образовался очень своеобразный сплав старого и нового, христианства и местных культов, наиболее ярким выражением которого являются так называемые милленаристские движения. Движения эти, основанные на вере в наступление «тысячелетнего царства» социальной справедливости и всеобщего благоденствия, являются по существу выражением национального и социального протеста.
Риделанд упоминает некоторые из них, но почти ничего не говорит о том, что они захлестнули и Соломоновы острова. Он пытается объяснить их возникновение, но его толкованию недостает понимания того, что это своеобразное проявление народно-освободительной борьбы. Милленаристские движения – замечательное явление в жизни многих пародов мира, от Камчатки и Приамурья до Бразилии и Южной Африки. Им посвящена огромная литература, из которой видно, что повсюду движениям этим присущи некоторые общие черты. Они всегда зарождаются в атмосфере социального кризиса, в обстановке острого недовольства социальными и политическими условиями и ожидания грядущего избавления. Милленаристским движениям Океании посвящена книга английского этнографа Питера Уорсли «Когда вострубит труба», переведенная в 1963 г. на русский язык. Риделанд пишет о «безумии Ваилалы». которое распространилось в Папуа в 1919 г. и в котором ярко и своеобразно выразился протест меланезийцев против колониальных порядков. Пишет он и о некоторых других движениях, но все примеры его случайны и не дают представления о размахе милленаристских движений, вот уже более ста лет вспыхивающих то в одном, то в другом районе Океании. Он не только не упоминает о движениях на Новых Гебридах (движение Джона Фрума в 1938 г. и другие) и в архипелаге Бисмарка (например, волнения байнингов Новой Британии в 1929–1930 гг. и в 1955 г.), по соседству с Соломоновыми островами, но и о движениях на самих Соломоновых островах – о движениях Чер энд рул (1935 г.) и Массинга, или Марчинг рул (1945–1947 гг.) на Малаите, о движении на острове Бука в 1913 г. и, наконец, о движении на острове Бугенвиль в 1935 г.
В движении Массинга (слово это на одном из местных языков означает «брат» или «братство») милленаризм перерос в лишенное религиозной окраски политическое движение. Ему удалось взять в свои руки управление многими районами протектората. Британские власти жестоко расправились с ним. Были произведены массовые аресты, а руководители приговорены к каторжным работам. Учреждение местных советов, а затем и Совета Малаиты, куда вошли представители местного населения, лишило движение массовой поддержки. Однако и позднее население местами все еще продолжало оказывать сопротивление властям.
В движении на острове Бука характерен решительный разрыв с прошлым и отказ от личной собственности на деньги, в чем отразилось не только отвращение ко всему европейскому, но и «некий примитивный коммунизм» (Уорсли). Впоследствии движение перекинулось на соседний Бугенвиль. Традиционные запреты были отменены и на Бугенвиле; женщинам было разрешено есть вместе с мужчинами и смотреть на маски, одеваемые при обрядах посвящения. Движение приобрело открыто враждебный по отношению к европейцам характер. Руководители движения требовали повышения заработной платы. Островитяне с нетерпением ждали перехода власти к коренному населению. Местные власти и здесь расправились с участниками движения самым решительным образом. На острове Бугенвиль было арестовано около ста аборигенов. Сторонники движения уничтожали все свое имущество, в том числе домашних животных, и это вызвало голод среди населения.
Движение затихло; обряды посвящения возобновились. Однако в 1939 г. была отмечена новая вспышка, возможно в связи с сильным землетрясением на юге острова Бугенвиль; но и она была подавлена.
Автора книги нельзя не упрекнуть в некоторой наивности формулировок и в идеализации администрации. Акт возмущения колониальными властями, вылившийся в силу несознательности местного населения в террористический акт, он называет просто убийством (стр. 118). Нуждается в пояснении и его сообщение о случаях каннибализма.
Зарубежные авторы часто пишут о каннибализме у меланезийцев, нередко, чтобы подчеркнуть этим их «варварство», и «жестокость». Действительно, в прошлом этот обычай существовал на некоторых островах Меланезии. Чаще всего он бывал связан с межплеменной враждой и вооруженными столкновениями. Захваченных на войне пленников поедали или обращали в рабство. На одних островах было принято поедать только тела убитых на войне врагов, на других – употребление в пищу человеческого мяса было связано с религиозно-магическими представлениями. Местами каннибализм составлял привилегию знати и вождей. Вообще замечено, что развитие каннибализма связано с развитием социального расслоения и межплеменных войн. Но особенно широкие размеры каннибализм принял под косвенным влиянием европейских колонизаторов, которые снабжали меланезийских вождей огнестрельным оружием и разжигали междоусобные войны. В паше время каннибализм в Океании ушел в область преданий.
Когда окончилась вторая мировая война, островитяне надеялись, что теперь-то наступит новая жизнь. Британским и австралийским властям пришлось пойти на уступки, хотя и не сразу. В апреле 1967 г. вступила в силу конституция, согласно которой на британских Соломоновых островах был создан Законодательный совет. Население Бугенвиля представлено теперь в Палате собрания, обладающей ограниченными законодательными функциями; она находится в Порт-Морсби, на Новой Гвинее. Но политические и экономические требования островитян не удовлетворены полностью. Вот почему и под покровом видимого спокойствия здесь, в Меланезии, всегда тлеет огонь недовольства, готовый в любой день и час вспыхнуть с новой силой. Вулканы Меланезии лишь дремлют. Меланезийцы по-прежнему верят в наступление нового мира мира изобилия и справедливости – и ничто не в состоянии погасить в них эту веру.
В. Кабо