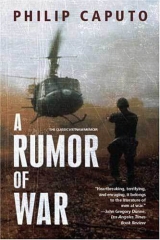
Текст книги "Военный слух"
Автор книги: Филипп Капуто
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
Глава шестая
Уверяю вас, вы увидите, что тогда всё было совсем иное: и военные формальности, и правила, и поведение…
Шекспир «Генрих V»Пер. Е.Н. Бируковой
На протяжении нескольких следующих недель стрелковые роты жили в соответствии с установленным распорядком, размеренно, почти как заводские рабочие или конторские клерки. По сути, на войну и обратно мы ходили как на работу. Уходили в буш на день-два, возвращались немного отдохнуть и уходили снова.
Никакой системы во всех этих патрулях и операциях не было. В отсутствие фронта, флангов и тыла мы вели бесформенную войну с бесформенным противником, который мог растаять в воздухе как утренняя дымка в джунглях, чтобы материализоваться заново в каком-нибудь неожиданном месте. Воевали мы как-то беспорядочно, от случая к случаю. Большую части времени ничего не происходило, но если уж что-нибудь случалось, то очень быстро и без предупреждения. Огонь из автоматов или пулемётов вспыхивал так неожиданно, что замирало сердце – так фазан или куропатка вылетает из травы, громко хлопая крыльями. А то вдруг неизвестно откуда прилетали мины, и об их появлении предупреждали только хлопки миномётов.
Серьёзных боёв тогда не было, средние месячные потери батальона не превышали двадцати человек при боевом составе порядка тысячи человек. Однако и этого хватало, чтобы понять то, чего не преподают в учебных лагерях: что такое страх, как выглядит смерть, как она пахнет, что значит убивать, терпеть боль и причинять её другим, что такое терять друзей и как выглядят раны. Мы узнали, в чём суть войны, «и военные формальности, и правила». Мы менялись и были уже не теми неуклюжими мальчишками, какими прибыли во Вьетнам. Мы набрались профессионализма, стали сдержаннее и суровее, и души наши черствели, покрываясь неким эмоциональным бронежилетом, притуплявшим удары и уколы жалости.
Нашу тогдашнюю жизнь описать по порядку невозможно – настолько разрозненными и беспорядочными были те бои. За одним-двумя исключениями о том периоде, т. е. весне 1965 года, у меня сохранились лишь обрывочные воспоминания. То, что запомнилось, крепко врезалось в память, но чётко связать эти моменты воедино я не могу – зацепиться не за что.
* * *
Наша рота бредёт по грунтовой дороге мимо католической церкви, построенной давным-давно миссионерами-французами. На фоне азиатского пейзажа её готический стиль выглядит чужеродно. Стены сложены из тёмных камней – похоже, вулканического происхождения. Церковный дворик окружён каменным забором, увешанным, словно знамёнами, бугенвиллией, а сводчатые ворота увенчаны распятием. Мы идём в колонну по два, окруженные облаком пыли, поднятой ботинками. Пыль медленно оседает по обочинам, опускается на дворик, и блестящие листья бугенвиллии тускнеют. День выдался очень жарким, печёт как никогда. Нам сказали, что температура выше ста десяти градусов[37]37
43 градусов по Цельсию – АФ
[Закрыть], но цифры ни о чём не говорят. Жестокость этого солнца прибором не измерить. Прямо передо мной шагает пулемётчик, наклонив голову, с пулемётом на плечах, одна рука лежит на стволе, другая на прикладе, и тень его походит на изображение Христа на том кресте, что над церковными воротами. Дорога тянется вдаль мимо гряды невысоких холмов, поросших травой, и затопленных рисовых чеков. Впереди виднеется брошенная деревня, от неё чуть меньше половины пути до нашей цели – заброшенной чайной плантации.
Взвод Леммона идёт в голове колонны, и сквозь пыльную пелену я вижу, как тяжело они шагают, а небо над ними сияет, как раскалённая стальная пластина. И вдруг вспыхивает огонь из стрелкового оружия, пули взметают фонтанчики на затопленных чеках. Колонна останавливается, взвод Леммона развёртывается в цепь и устремляется к холмам. Они шлёпают вперёд по полям, увёртываясь от неожиданно бьющих вверх струй грязи и воды, а затем исчезают в слоновьей траве, покрывающей высоту. Продравшись через траву, они входят в деревню. Два отделения возвращаются на дорогу, третье остаётся на месте, чтобы обыскать хижины. Доносятся крики «Берегись, взрываю!» и приглушённые разрывы гранат, забрасываемых в блиндажи и тоннели. Но противника там нет. Отделение возвращается в колонну, и мы продолжаем наш марш, на жаре и в удушающей пыли.
* * *
Мой взвод сидит в дозоре на высоте на краю хребта, что в тысяче ярдов от переднего края обороны роты «С». Сидим мы там уже два дня, но нам больше кажется, что две недели. Днём делать нечего, кроме как сидеть в окопах, обложенных мешками с песком, да глазеть на рисовые чеки и возвышающиеся над ними горы. Ночи складываются из часов нервного бодрствования, прерываемых обрывками неспокойного сна. Мы прислушиваемся: в кустах кто-то ползает, кто там – люди, змеи, животные? Отбиваемся от москитов. Пытаемся что-нибудь разглядеть во тьме, которую время от времени разгоняет свет ракеты, запущенной где-то далеко отсюда.
Третий день перевалил на вторую половину. Мы с сержантом Гордоном сидим на взводном командном пункте. Над окопом мы соорудили навес от солнца, но всё равно жарко. Прорезиненное пончо вздымается и опадает под порывами ветра, пробивающегося сквозь кроны деревьев. Гордон, невысокий профессиональный морпех с розовым лицом, рассуждает о страхе и храбрости. Он что-то говорит о том, что храбрость есть покорение страха, что, в общем-то, не ново. Да я его толком и не слушаю. Я пытаюсь читать сборник стихотворений Киплинга в мягкой обложке, который раскрыт на коленях, но никак не могу сосредоточиться из-за болтовни Гордона и неодолимой усталости, из-за которой могу прочесть не больше нескольких строчек за один приём. Кроме того, я постоянно думаю о девушке – той высокой светловолосой девушке, с которой гулял в Сан-Франциско, когда был там в отпуске пять месяцев и сто лет назад. Я здорово по ней скучаю, но каждый раз, когда я думаю о ней, никак не могу чётко вспомнить её лицо. И она, и Сан-Франциско так далеки от меня, что кажется, будто их и на свете нет. С носа на Киплинга скатывается капля пота, пачкая страницу. А Гордон всё болтает и болтает.
Беру в руки бинокль и осматриваю долину, простирающуюся под нами. Стёкла отсырели, и я вижу лишь размытую зелень в пятнах света. Я словно сижу в маске на дне зелёной реки. Протираю стёкла и лицо, но через несколько секунд пот снова заливает глаза. Я заново протираю стёкла и направляю бинокль на безлюдную долину. За последние двое суток я проделывал это уже десятки раз. Такова моя задача:
«Держать под наблюдением долину реки Сонгтуйлоан и сообщать обо всех замеченных передвижениях или действиях противника». Разумеется, никаких передвижений или действий противника не наблюдается. А вижу я лишь опалённые солнцем поля, конусовидную высоту в полумиле отсюда – это высота 324, да частокол Аннамской горной гряды. Интересно, что зелёный цвет, который в стихах и песнях неизменно ассоциируется с юностью и надеждой, может настолько угнетать в отсутствие других цветов. Повсюду этот зелёный цвет. От его присутствия уже невозможно избавиться. Куда ни глянь – сплошь зелёные рисовые чеки, зелёные холмы, зелёные горы, зелёное обмундирование. Светло-зелёный цвет, просто зелёный, тёмно-зелёный, оливково-зелёный[38]38
Olive green – один из цветов американской военной формы – АФ
[Закрыть]. Навязчиво-монотонный, как голос Гордона.
Я прерываю его, зачитывая строфу, бросившуюся в глаза:
«А в итоге всего – камень, имя его, и другим навсегда урок: «Здесь нашёл свой конец чужеземец-глупец, он хотел покорить Восток»».
Гордон не замечает иронии и пускается в рассуждения о своём любимом стихотворении – балладе «Налей-ка мне виски, ржаного налей, ты виски налей или лучше убей».
А я думаю про себя: «Если ты, Гордон, не заткнёшься – тебя точно убьют, и даже скорей, чем думаешь». Мыслей своих я не озвучиваю. Я понимаю, что достиг второй стадии «cafard», на которой ненавидишь всё и вся вокруг. Чтобы отделаться от Гордона, иду проверять линию обороны. У всех морпехов настроение сродни моему: «Всё достало, доконало, домой хочу». Предплечья у них бронзовые от загара, но из-за жары лица землистые, а в глазах – та самая пустота, именуемая «тысячеярдовым взором».
* * *
Тот же дозор, только ночью. Хотя одному морпеху уже не скучно. Это рядовой первого класса Бьюкенан, он страшно перепугался и несколько раз во что-то выстрелил, услышав какое-то шевеление перед своей позицией. Я гневно его отчитываю: «Недоучка чёртов. Если кого-нибудь увидел – гранату кидай, а не стреляй. Увидят дульную вспышку – поймут, где ты сидишь. Усвоил?» От этой лекции толку никакого. Бьюкенан напряжённо пригнулся, уложив винтовку на бруствер из мешков с песком, он не отрывает пальца от спускового крючка. На меня глядеть и не думает, вглядывается в джунгли. В лунном свете листва серо-зелёная. «Бьюкенан, – шепчу я ему, – убери палец с крючка. Не дёргайся. Там, скорей всего, обезьяна – в горах их много». Он не шевелится, весь во власти страха. Продолжая целиться, он настаивает на том, что шум исходил от человека. «Ладно, побуду пока с тобой. Ты только не стреляй, пока цели не увидишь». Я соскальзываю в окоп, достаю из кармана гранату, разгибаю усики чеки и кладу гранату рядом с собой.
Какое-то время спустя Бьюкенан тихо говорит: «Вот он, вон там!» Я слышу громкое однотонное шуршание, как будто кто-то мнёт лист гофрированной бумаги. Я вытягиваюсь, выглядываю поверх бруствера и замечаю какое-то шевеление в кустах ярдах в двадцати-двадцати пяти ниже по склону. Что бы там ни шумело, но существо это большое, не меньше человека, но мне никак не верится, что лазутчик стал бы так шуметь. Разве что хочет спровоцировать нас на открытие огня. Шуршание прекращается. Слышен тихий щелчок – это Бьюкенан снял винтовку с предохранителя. Я снова говорю ему, что там, скорей всего, обезьяна. Я уже не совсем в этом уверен, а Бьюкенан – тот и вовсе в это не верит. «Не, не обезьяна это, лейтенант». Опять доносится шорох. Куст колышется и замирает, зато что-то движется в соседнем кусте, затем в следующем. Какое-то животное или человек ползёт по склону параллельно линии обороны. Прежде чем Бьюкенан успевает выстрелить, я выдёргиваю чеку из гранаты. Бросаю её одной рукой, другой заставляю Бьюкенана пригнуться. Граната взрывается. Над серо-зелёными кустами поднимается облачко дыма, похожее на пар от сухого льда. Шуршание прекратилось. «Если там и в самом деле Ви-Си, – говорю я, – то он уже убит или напугался до смерти». Бьюкенан отрывает наконец приклад от плеча. Наверное, разрыв той гранаты привёл его таки в чувство.
Я возвращаюсь на командный пункт по тропе, по обеим сторонам которой стоят деревья с чёрными скользкими стволами. Темно, почти как в склепе, и я с облегчением вздыхаю, благополучно добравшись до КП. Уайднер передает очередной ежечасный доклад об обстановке в штаб роты. «Чарли-Шестой, я – Чарли-Второй. Обстановка нормальная, без изменений».
Некоторое время спустя мой сон обрывают винтовочные очереди. Я уже научился странным образом спать и бодрствовать одновременно. Сон как рукой сняло, и я сразу же понимаю, что произошло, как будто и не спал. Прозвучали пара выстрелов из карабина и очередь из М14. Стреляли справа позади меня, на позиции младшего капрала Маршалла. Я выбираюсь из окопа и иду в темноте по тропе мимо чёрных деревьев. Увидев человеческий силуэт футах в тридцати-сорока перед собой, я останавливаюсь. Кажется, человек. Стоит неподвижно. Скорее всего, мы с ним заметили друг друга одновременно. Мы глядим друг на друга – долго-долго. Вооружён он или нет – не разглядеть, а я ведь уверен, что слышал выстрелы из карабина. Или мне показалось? А может, и сейчас мерещится? Может, и разглядываю я сейчас всего лишь куст, по форме похожий на человека. Делаю как учили – всматриваюсь в очертания этой фигуры, а не в неё. Если ночью глядеть прямо на предмет, глаза могут обмануть. Поэтому я гляжу на очертания этого предмета, фигуры, куста, или как его там. Да, там определённо стоит человек, он застыл на ходу, явно прикидывая, заметил я его или нет. Карабина я при нём я не вижу, но он может быть вооружён, у него и гранаты могут быть. Я хочу окрикнуть его, закричать «дунг лай» (стой!), но слова застревают в горле, ноги охватывает слабость. Оцепенев, я продолжаю следить за ним, а он следит за мной. Время проходит как в кошмарном сне, который длится всего несколько секунд, но никак не кончается. Какой-то морпех выкрикивает что-то вроде «Он там!». Силуэт дёргается, и я одним движением откидываю клапан кобуры, выхватываю пистолет, отвожу и отпускаю затвор, досылая патрон в патронник, и прицеливаюсь. А он уже исчез, несётся вниз по склону, продираясь через кусты. Я целюсь на шум, но не стреляю – боюсь попасть в кого-нибудь из наших. И вдруг ощущаю, как быстро бьётся сердце, и чувствую, что рифлёная рукоятка пистолета стала скользкой от пота.
Ко мне подходит Маршалл и рассказывает о том, что там произошло. Он сменился, лежал в своём укрытии, и тут услышал какой-то шум, совсем рядом. Раздался окрик часового, затем несколько выстрелов. Выбравшись из укрытия, Маршалл увидел, как мимо пробежал вьетконговец, направляясь к командному посту, однако лазутчик скрылся во тьме так быстро, что никто не смог сделать по нему прицельный выстрел.
На следующий час я объявляю 100-процентную готовность, возвращаюсь на КП и сменяю Уайднера у рации. Я так и не понял, кем или чем было увиденное и услышанное мною существо – вьетконговцем, животным или плодом моего воображения. Но страшно мне по-настоящему. Больше в эту ночь ничего не происходит, но обстановка напряжённая, и я с радостью замечаю, что небо начинает светлеть, и передаю очередной доклад об обстановке. «Чарли-Шестой, я – Чарли-Второй. Обстановка нормальная, без изменений».
* * *
Мы с капралом Паркером в дивизионном полевом госпитале – пришли проведать рядового первого класса Эспозито, гранатомётчика одного из отделений моего взвода. Эспозито тяжело болен, и скоро его эвакуируют в Штаты. Он коренаст, смугл, рассказывает нам о том, что после четырёх лет в морской пехоте уезжает со смешанными чувствами. Дома хорошо, говорит он, но жаль расставаться с батальоном и Паркером, с которым они дружат ещё с начальной подготовки. Видно, что сильнодействующих средств ему вкололи много. Он лежит на брезентовой койке, глаза остекленели, язык заплетается. Паркер легонько толкает его кулаком в плечо и говорит: «Ничего, поправишься. А ведь сколько лет мы с тобою бок о бок, а?»
«Много», – говорит Эспозито, и голос его звучит как с пластинки, проигрываемой на слишком медленной скорости.
«А помнишь заваруху с кубинскими ракетами, в шестьдесят втором? Ведь кажется – столько лет прошло!» Повернувшись ко мне, Паркер говорит: «Мы с ним кореша, лейтенант. Мы с Эспозито реальные кореша».
В палатке он лежит не один, там ещё три морпеха и с полдюжины южных вьетнамцев. Пустующие койки заляпаны высохшей кровью. У двоих из трёх морпехов ранения лёгкие, и они здесь просто отдыхают, как в отпуске. Третий тяжело ранен в голову, весь в бинтах. К вене одной руки подведена трубка от капельницы, трубка с плазмой – к другой, тянутся они от бутылей, закреплённых на металлической стойке. Ещё одна трубка подведена к члену. По ним непрерывным потоком переливаются жидкости – моча, глюкоза, плазма. Этот морпех – здоровенный, атлетически сложенный парень, настолько рослый, что пятки его выступают за край койки. Он лежит неподвижно, и о том, что он жив, свидетельствуют лишь движения его грудной клетки вверх-вниз да горловые звуки, которые он издаёт с интервалом в несколько минут.
Подходит медбрат, вставляет ему в рот термометр, замеряет кровяное давление и отходит к солдату АРВ, лежащему на койке по соседству с Эспозито. Это стандартная больничная койка, спинка её поднята, и солдат практически сидит. Всё его тело упрятано под бинтами и гипсом, кроме одной руки, нижней части лица и макушки. Пряди густых чёрных волос спадают на бинты, закрывающие его глаза и лоб. К телу солдата приделаны всяческие приспособления: трубки, резиновые шланги, зажимы, манометры. Он напоминает мне эпизоды из фильмов ужасов про страшные эксперименты над людьми: весь обмотан белыми бинтами, всякие устройства вокруг.
Паркер с Эспозито продолжают вспоминать подробности своей долгой дружбы. Глаза Паркера влажны, голос от переживаний срывается, и мне становится неловко, как будто я подслушиваю разговор влюблённых перед разлукой. Я оборачиваюсь к медбрату и спрашиваю, что случилось с южновьетнамским солдатом. Медбрат отвечает, что он ранен в левую руку, обе ноги, живот и голову, и должен умереть через день-два. Морпеху повезло меньше.
«Он, скорей всего, всю жизнь так и будет – овощ…» – говорит медбрат.
Через несколько секунд, будто бы пытаясь опровергнуть этот прогноз, морпех начинает метаться по койке, издавая странный звук, какое-то булькающее рычание. Затем раздаётся звук, как будто кто-то раскусил черешок сельдерея – морпех в судороге сжал зубами термометр. Он пытается его проглотить. «Сукин сын!» – восклицает медбрат, подбегает к нему и вытаскивает раздавленный термометр изо рта. Здоровяк бешено бьётся в конвульсиях, бутыли качаются на стойке, а медбрат выхватывает из сумки шприц-тюбик. Он протирает спиртом мускулистую руку морпеха и впрыскивает успокоительное.
«Тихо, тихо, – говорит он, навалившись на парня. – Тихо, тихо. Будем теперь ректально мерять. Пока ты сам себя не порешил, будем в задницу пихать».
Успокоительное начинает действовать. Судороги ослабевают, рычание сменяется постаныванием, и он, наконец, затихает.
* * *
Мы лежим в канаве, смертоносные кусочки металла из АК-47 впиваются в дорогу, за которой мы залегли. Когда огонь прекращается, мы перебегаем через неё и открываем ответный огонь из-за насыпи. Мы наугад обстреливаем поле, поросшее слоновьей травой, и окружающие его невысокие округлые холмы. Несколько человек перелезают через насыпь, выстраиваются в цепь и выдвигаются по полю к холмам. Один из стрелков делает пару выстрелов по цели, которую он увидел или услышал, или просто решил, что увидел или услышал. Воздух в гуще травы настолько неподвижен и горяч, что там трудно дышать.
Мы с Полсоном вползаем на пригорок и обнаруживаем L-образный блиндаж, отрытый на его склоне. Мы осторожно подходим, я останавливаюсь у входа и забрасываю вовнутрь гранату. От разрыва, мощь которого сосредоточивается внутри блиндажа, под ногами содрогается земля. Когда дым развеивается, мы с Полсоном заползаем в него и обнаруживаем там тростниковую циновку, изрешечённую осколками гранаты. Но снайпера, даже если допустить, что он там был, давно уже и след простыл. И мы бредём обратно к дороге, ощущая полное опустошение от тщетности наших усилий, подобно боксеру, размахнувшемуся что было сил, но не попавшего в соперника.
Час спустя. Морпехи группами ковыляют по дороге, несут павших в борьбе с жарой на носилках, которые мы изготовили, вырубив шесты с помощью мачете и вставив их в скреплённые по два пончо. Мой взвод получает приказ сменить 1-й взвод в голове колонны. Выдвигаясь вперёд, мы проходим мимо бойцов из взвода Леммона, валяющихся в кювете в тени от деревьев. Какой-то морпех, опустив плечи и свесив руки между коленей, сидит на бревне в классической позе уставшего солдата. Его ввалившиеся глаза уставлены куда-то вдаль. По лицу вместе с потом размазана пыль. Каска валяется у ног. Винтовка лежит под углом на бедре, опираясь прикладом о землю. Я гляжу на него и понимаю, что мы чувствуем одно и тоже: усталость, которая сильнее обычного изнеможения, губительней смертельной усталости, которая доходит до самых сокровенных глубин души и тела.
Проходит ещё час, и в поле зрения появляется колонна машин, которая доставит нас обратно на базу, на высоту 268. Грузовики выстроены в ряд у пересечения дороги, по которой мы идём, и той, что ведёт через проход Дайла. В этом проходе стоит стройная, непокосившаяся старая французская сторожевая башня, разрушенный памятник рухнувшей империи. До грузовиков ещё ярдов пятьсот, и машины защитного цвета кажутся миражом в волнах горячего воздуха, колыхающихся над дорогой. И, хотя при виде дожидающегося нас транспорта мы воспряли духом, тела всё равно измотаны настолько, что шагу прибавить мы не можем.
Пулемётчик по фамилии Пауэлл начинает запинаться и выписывать на дороге пируэты, словно притворяясь пьяным. Другой морпех предлагает понести его тяжёлый пулемёт, но Пауэлл отпихивает его и гордо произносит: «Сам донесу. Мой пулемёт, мне его и таскать». М60 со звоном падает на землю. Пауэлл, запинаясь, делает шаг вперёд и валится ничком в пыль. Перевернув его на спину, мы замечаем, как горяча и суха его кожа, бледная, как рыбье брюхо. Это тепловой удар. Мы смачиваем ему губы и выливаем всю оставшуюся воду на голову. Двое морпехов поднимают бесчувственного Пауэлла и, волокут его по-солдатски к грузовикам. Его кладут в кабину, чтобы упрятать от солнца, но вскоре выясняется, что зря: от духоты ему становится ещё хуже. Он приходит в себя, начинает беситься и пытается задушить водителя. Чтобы оторвать его пальцы от глотки, требуются усилия трёх человек. Поджав и закусив губы, Пауэлл лягается и рычит как пойманный зверь. Его тащат в кузов и там фиксируют ремнями на носилках, ведь вертолётов для эвакуации нет.
Конвой движется медленно. Всё это время Пауэлл попеременно то впадает в забытьё, то начинает неистовствовать. Во время одного из таких приступов он умудряется разорвать ремни. Добравшись до позиции 105-мм орудий, мы с лейтенантом Миллером усаживаем его в джип Миллера и в спешном порядке доставляем в госпиталь. Он опять начинает буйствовать, и врач из ВМС отказывается оказывать ему помощь.
– Медицина тут не поможет, – говорит он.
– А что поможет, док? – говорит Миллер. – Дисциплинарный устав?
– Я ничем ему помочь не могу.
– Нет уж, работай давай, – говорю я ему, кладя руку на рукоятку пистолета. Глупо, конечно, но есть во мне эти вспыльчивость и склонность к театральным эффектам. Тем не менее, этот жест действует. Доктор приказывает отнести Пауэлла в одну из палаток. Через полчаса доктор выходит из неё и с нотками извинения в голосе сообщает, что Пауэлла придётся эвакуировать в Штаты.
– Мне вообще непонятно, почему он жив ещё. У него температура сто девять градусов[39]39
42,8 градуса по Цельсию – АФ
[Закрыть].
– И что? – спрашиваю я.
Доктор отвечает, что кровь в голове Пауэлла сейчас пузырится как вода в кипящем чайнике. «Если выживет, то мозг его, скорей всего, будет повреждён необратимо».
Возвращаясь в расположение роты в джипе Миллера, я рассуждаю: «Мы потеряли бойца, и не противник вывел его из строя, а солнце. Тут, похоже, солнце и сама земля заодно с вьетконговцами, они изматывают нас, сводят с ума и убивают».
* * *
Рота снова направляется в окрестности деревни Хойвук, название которой звучит для нас практически как слово «война». Она контролируется вьетконговцами, не только ночью, но и днём, и мы почти наверняка уверены в том, что без неприятностей не обойдётся. План таков: рота «А» высадится с вертолётов у деревни на поле с невоенным каким-то обозначением «Район десантирования «Утка»». Рота «С» прибудет на грузовиках в точку высадки у реки Сонгтуйлоан. Оттуда мы пешим ходом преодолеем мили три-четыре, ориентируясь по руслу реки, и займём блокирующую позицию. Всё тот же старый добрый план – «молот и наковальня», но мы уже знаем, что в буше ничего и никогда не происходит согласно плану. А если что и происходит, то непредвиденно, как дорожные аварии.
Мы проезжаем мимо штабов батальона и полка. Писаря стоят на обочине, отворачиваясь в сторону, чтобы пыль, поднятая грузовиками, не лезла в глаза. Они аплодируют, приветствуя нас и глядя на нас с завистью, которую тыловые военнослужащие нередко испытывают к пехотинцам. Как часто бывает перед операцией, мы напускаем на себя воинственный вид и несколько переигрываем. Каски сдвинуты набок, сигареты в зубах – мы изображаем из себя суровых ветеранов перед штабными морпехами. Мы играем главные роли в кино про войну, которое сами же и ставим, а гаубичная батарея неподалёку обеспечивает довольно громкое музыкальное сопровождение.
Колонна медленно ползёт по Догпэтчу. В деревне этой царят средневековые грязь и нищета. В кюветах стоят зелёные лужи нечистот, и их запах смешивается с вонью навоза и нуок-мама – соуса из тухлой рыбы. На немощёных улицах рычат друг на друга и грызутся тощие собачонки. Буйволы мычат в грязных загонах в тени банановых деревьев с белыми от пыли листьями. Большинство хижин – тростниковые, но вместе с американцами тут появились новые строительные материалы: несколько домов целиком изготовлены из расплющенных пивных банок: красные с белым – это «Будвайзер», золотистые – «Миллер», кремово-коричневые – «Шлитц», синие с золотом – «Хэмм'с» из страны небесно-голубых вод[40]40
В рекламе пива Hamm's была использована адаптация песни «The Land of the Sky-Blue Water» – АФ
[Закрыть].
Вдоль колонны бегают толпы детей и подростков. У многих детей раздутые животы, язвочки на коже, мудрость десятилетий в глазах и ругательства на языке. Они бегают вдоль колонны, попрошайничают, торгуют. «Джи-ай, дай мне сигарета». В толпу летит сигарета, и на поймавшего её мальчика тут же бросаются его друзья. Он пропадает под грудой маленьких рук и ног, которые хватаются, пинаются, царапаются в борьбе за сигарету. «Эй, конфета дай». Вниз лет банка из Сухпая. «Э, фигня. Нах джи-ай не конфета. Номер десять». Под смех друзей мальчонка швыряет банку в борт грузовика. «Дай сигарета, дай конфета, купи кока. Одна кока двадцать пи[41]41
Пиастров – АФ
[Закрыть] купи». Некоторые морпехи бросают местные банкноты и монеты в море вытянутых вверх рук с «Кока-Колой», но газировку не берут. На этой войне в кэрроловской стране чудес «кока» является оружием. Поговаривают, что иногда вьетконговцы добавляют в неё яд или толчёное стекло и отдают детям, которые сбывают её американцам. «Двадцать пи джи-ай ты меня двадцать пи. Тут не двадцать пи. Нах дешёвый Чарли[42]42
Сленг, «cheap Charlie» – так вьетнамцы обзывали скупых американцев – АФ
[Закрыть]. А вот дети постарше не так сильно проникнуты духом коммерции. Подобно всем детям в подростковом возрасте, они приходят в восторг от солдат и армий. Один из них выкрикивает: «Ма-а-рпех номер раз. Убей буку Ви-Си[43]43
Многие авторы книг о войне во Вьетнаме свидетельствуют, что французское «beaucoup» (Произносится «боку», много) произносилось, как правило, как «буку», и многие американские солдаты ошибочно полагали, что это слово вьетнамское – АФ
[Закрыть]». Морпех, немногим старше этого пацана, вытягивает указательный палец и выставляет вверх большой, изображая пистолет. «Ты Ви-Си, – говорит он. – Пиф-паф». Пацан в ответ гримасничает и изображает солдата, стреляющего с бедра. «Хокей, хокей. Убей буку Ви-Си».
Взрослые в этой деревне ведут себя холодно. Мужчины покуривают бугристые сигары, глядя в нашу сторону так, словно не замечают. Женщины стоят в дверных проёмах, кормят детей, выплёвывают красные от бетеля струйки в пыль. Мы для них не новость. Иноземных солдат они видели и раньше. Из взрослых на нас обращают внимание только шлюхи. За время, прошедшее после высадки нашей бригады, деревня Догпэтч обзавелась несколькими борделями. На местном сленге они называются «бум-бум дома». Девицы выглядят жалко в своих брючках на западный фасон и с таким обилием косметики, что походят на карикатуры на самих себя. Они машут руками, показывая неприличные жесты и обозначая цены – совсем как брокеры на товарной бирже.
День в самом разгаре. Рота растянулась на тропе, идущей по северному берегу реки. Линий фронта на этой войне нет, но мы знаем, что уже пересекли нигде не отмеченную линию между безопасным районом и тем, что солдаты прозвали «Индейской страной». Кроме дряхлых стариков и младенцев, в местных деревушках никто не живёт. Вдоль тропы зияют ямы ловушек «панджи», повсюду царит характерная, напряжённая, гнетущая тишина. До нашей блокирующей позиции остаётся ещё полпути, и тут головной взвод под командованием Тестера попадает в засаду. Вьетконговцы открывают огонь из траншей на том берегу реки. Автоматные очереди звучат так, словно кто-то рвёт бумагу, пули скашивают листья над головой, кто-то впереди кричит: «Засада слева!». Снова раздаётся звук разрываемой бумаги – это 3-й взвод открыл ответный огонь. Перестрелка быстро стихает, раздаются лишь отдельные неупорядоченные выстрели, и тут же стрельба вспыхивает заново. Воздух заполнен грохотом и трескотнёй. По колонне передают: «Второй взвод – вперёд! Второй – вперёд!» Пригнувшись, я бегу вперёд по тропе и едва не падаю кувырком, наткнувшись на морпеха, который целится из винтовки из-за дерева. Он целится в клочок материи, мелькающий в зелёных зарослях на том берегу. Нажимает на спусковой крючок и чертыхается, не слыша выстрелов. Не то винтовку заело, не то разволновался так, что забыл дослать патрон. «Чёрт! – ругается он, ни к кому конкретно не обращаясь. – Он у меня на мушке был!»
Тем временем группа бойцов из 3-го взвода вскарабкивается на крутой берег, остальные с криками и стрельбой шлёпают по воде, переходят реку и яростно устремляются к деревушке на противоположном берегу. Стреляет снайпер, и морпех, продирающийся сквозь путаницу кустов на речном берегу, резко поворачивается на месте и падает. Другой стрелок вызывает санитара. Всё это длится две, самое большое – три минуты, но я успеваю увидеть и услышать всё невероятно чётко. Наверное, это как-то связано с тем обстоятельством, что меня самого могут подстрелить в любой момент.
Питерсон приказывает моему взводу и взводу Леммона занять оборону на окраинах чеков на этом берегу реки Туйлоан. Тем временем 3-й взвод бросается в погоню за вьетконговцами, но они опять испарились. Кто-то говорит, что видел кровавые следы, уходящие в джунгли. Мне хочется в это верить. Хочется поверить, что эти призраки – реальные люди, и раны их способны кровоточить.
У нас всего одна потеря – младший капрал Стоун, руку которого слегка задело. Но мощь пули, выпущенной из АК, произвела на него большое впечатление. «Чуть-чуть царапнула, – говорит он санитару, бинтующему рану, – а меня аж на месте развернуло». И тут бойцы Тестера врываются в деревушку. Разрывается граната, снаряженная белым фосфором, валит густой белый дым, загорается хижина. Ещё один взрыв. Всего через несколько минут пламенем объята уже вся деревушка, тростник и бамбук трещат так, что кажется, будто там палят из винтовок. Морпехи пронзительно кричат, издавая нечто похожее на конфедератский клич, забрасывают гранаты в бомбоубежища и землянки, стреляют туда из винтовок. Вопят женщины, плачут дети. Жители деревни в панике выбегают из огня и дыма как из района стихийного бедствия. Беснуется скот, и куриное кудахтанье, свиной визг и буйволиный рёв добавляются к воплям, крикам и громким хлопкам из пылающих хижин.
«Совсем они чокнулись, шкипер, – говорит Тестер. – Палят куда попало по всей деревне. Чёрт! По скотине стреляют».
Мы с Питерсоном пытаемся остановить этот разгром, но тщетно: 3-й взвод словно сошёл с ума. Они предаются разрушению с неудержимой яростью. Наконец всё кончается. Деревушки, отмеченной на наших картах как Гиаотри (3), больше нет. От неё остались только груды дымящегося пепла и несколько обугленных шестов, которые почему-то не попадали. Просто чудо, что из людей никто не пострадал. Слышу женские стенания, сквозь дым, стелющийся над рекой, вижу одну из женщин. Она стоит на коленях, качается вверх-вниз и причитает над пеплом, в который обратился её дом. Я креплюсь, пытаюсь не обращать внимания на её вопли. Я говорю про себя: «Вы разрешили Ви-Си использовать вашу деревню для организации засады, а теперь расплачивайтесь». И тут я понимаю, что уничтожение деревни Гиаотри не было просто вспышкой безумия в пылу сражения. Оно было ещё и возмездием. Жители этой деревни помогали вьетконговцам, и мы их за это проучили. Мы учимся ненавидеть.








