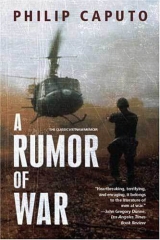
Текст книги "Военный слух"
Автор книги: Филипп Капуто
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Глава двенадцатая
Война – величайшая изо всех трагедий, однако пока существует человечество, будут и войны.
Жомини «Военное искусство»
До конца того лета крупных сражений в Дананге не было. В дневное время казалось, что никакой войны и в помине нет. На залитых солнечным светом рисовых чеках царил покой. В это время года они выглядели очень красиво – ярко-зелёные, испещрённые более тёмными зелёными пятнами пальмовых рощиц, в тени которых стояли деревни. Крестьяне в тех деревнях, что находились в охраняемых районах, жили той жизнью, чью вековую размеренность навряд ли нарушила война. Рано поутру мальчишки выводили буйволов из стойбищ к речным заводям, и крестьяне шли работать на полях. Они часами шлёпали за деревянными плугами, которые тащили быки, раздирая твердь земли, запёкшейся на солнце. После обеда, когда работать становилось слишком жарко, они покидали поля и возвращались в прохладную тень своих хижин с крышами из пальмовых листьев. Это был как ритуал: когда жара становилась чересчур сильной, они отцепляли свои плуги и брели вереницей по дамбам в деревни, и конусы их шляп жёлтым цветом выделялись на фоне зелени чеков. После обеда обычно поднимался ветер, и под ним длинные побеги созревающего риса качались, образуя буйные волны. Приятно было глядеть на эти бескрайние нефритовые рисовые поля, простиравшиеся до подножий гор, синевших вдали. Когда наступали сумерки, буйволов гнали обратно в стойла. Мальчишки шагали с ними рядом, шлёпая их по крупам бамбуковыми палками, а они шли по пыльным дорогам, мотая рогатыми головами, а на их боках подсыхала запёкшаяся тина из речных заводей.
Война начиналась с наступлением ночи. Восьмидюймовки и стопятьдесятпятки начинали свои обычные обстрелы, а вьетконговцы открывали снайперский и миномётный огонь. Наши патрули, оскальзываясь, спускались по тёмным тропам, устраивали засады или сами в них попадали. На периметрах часовые вслушивались и вглядывались в черноту, которую время от времени освещали неяркие вспышки. То изнемогая от скуки, то начиная нервничать, они ждали появления лазутчиков, которые то и дело щупали наши рубежи, время от времени бросая гранаты через проволочное ограждение или осыпая какую-нибудь позицию пулями из карабинов. Они подходили двойками или тройками, так и погибали, и так же погибали наши – двойками и тройками. Мы не вели великих сражений. Больших кровопролитий не было, всего лишь вялые, регулярные струйки крови, проливавшейся в череде засад и огневых схваток. Хотя боевых действий и стало побольше, чем весной, контакты с противником случались всё так же нечасто. Каждую ночь в палатку оперативного отдела по радио почти каждый час поступали одни и те же донесения. Они поступали с застав и из патрулей, и каждый раз во время дежурства мы слушали, как два десятка разных голосов говорят одно и то же, подобно хору, речитативом выпевающему псалом: «Контакты – никак нет. Обстановка нормальная, без изменений». Когда контакты имели место, то были они ожесточёнными, однако ничего, по сути, так и не менялось. Полк сидел на тех же позициях, что занимал с апреля, и к особенностям окружающего ландшафта мы привыкли настолько, что казалось, будто всю жизнь там сидим. Солдаты погибали, получали ранения, и наши патрули всё так же выходили в поле, и дрались там же, где и неделю до того, и ещё неделей раньше. Обстановка оставалась «без изменений» – разве что менялись цифры на табло полковника.
Менялись не только цифры. К началу лета мне было двадцать четыре года; к его концу я был намного старше, чем сейчас. Хронологически мой возраст увеличился на три месяца, в эмоциональном плане – на три десятка лет. Мне было где-то за пятьдесят, и я был в том гнетущем периоде жизни, когда друзья человека начинают умирать, и каждая очередная смерть напоминает ему о приближении его собственной.
Помногу за раз наши не погибали. А поскольку умирали они по одному, я помню их как людей, а не как статистические данные. Я помню капрала Брайена Готье – он, по словам одного циничного старого вояки, «заслужил два Военно-морских креста: сине-золотой на грудь и белый, деревянный – на могилу». Готье, командир отделения из роты «А», двадцати одного года от роду, был смертельно ранен 11 июля в засаде. Медаль ему дали за то, что он продолжал руководить подчинёнными под сильным огнём противника, пока (цитируя представление) «не умер от ран». Какое-то время спустя в его честь назвали лагерь штаба полка. Здорово, конечно, но гранатомётчику, погибшему в той же засаде, медалей не досталось, и ничего в его честь не назвали. У него и возможности не было совершить какое-нибудь геройство, потому что мина, на которую он наступил, вызвала симпатическую детонацию[65]65
Детонация, конечно, ответная. В оригинале обыгрывается термин «sympathetic detonation» – АФ
[Закрыть] его 40-мм гранат, из-за чего он сразу же погиб. «Симпатическая детонация» – это выражение из отчёта о его смерти. Вот ещё один пример бездушного, неточного военного эвфемизма. Означает, что разрыв мины заставил его гранаты взорваться одновременно, и ничего симпатичного я в том не видел.
Я помню Фрэнка Ризонера, который тоже пал смертью героя, и Билла Парсонса, смерть которого таковой не была. Я повстречал Ризонера в палатке оперативной секции на следующий день после смерти Готье. Я тогда как раз разделался с отчётами по семи морпехам, которые в то утро погибли или получили ранения от миномётного огня. Ризонер сидел в палатке, глядя на карту и покуривая при этом свою побитую, погнутую трубку. Ризонер, низкорослый, плотный, двадцати девяти лет от роду – староват для первого лейтенанта – был когда-то рядовым, поднявшимся по служебной лестнице, был он женат и имел детей. Мне нравились и он сам, и его спокойные манеры зрелого мужчины. Мы распили банку пива на двоих, обсудили выход на патрулирование, который предстоял ему в тот день. Его рота выходила на рисовые чеки ниже хребта «Чарли» – равнинные, опасные места, покрытые зарослями кустов и деревьев. Ризонер допил пиво и ушёл. Несколько часов спустя его привезли обратно на вертолёте; пулемётная очередь прошила его поперёк живота, и молодой капрал, который вытащил Ризонера из-под огня, сказал: «Надо бы его накрыть. Одеяло найдётся? Шкипера моего убило». Там, в патруле, его рота наткнулась на пару пулемётных ячеек противника. Он лично атаковал и подавил одну из них. Затем, обстреляв вторую пулемётную точку из карабина, он побежал вытаскивать раненого и погиб. Фрэнку Ризонеру дали Почётную медаль Конгресса, в его честь назвали не только военную базу, но ещё и корабль, а вдове отправили медаль и письмо с соболезнованиями.
Парсонса, лейтенанта из роты «Е» 2-го батальона, убило двумя ночами позднее нашей собственной миной из 106,7-мм миномёта. Она попала в расположение его взвода, когда он проводил занятие с подчинёнными в «тыловом» лагере. Морпехи там стояли плотной группой, и, поскольку 106,7-мм мина – снаряд довольно мощный, потери были. Нам в штабе было трудно составить точный отчёт о потерях; никто не знал наверняка, кого убило, а кого ранило. Капитан Андерсон сказал, что мне опять придётся отправляться в дивизионный госпиталь, чтобы во всём разобраться. Я отговорился от этого, сказав, что на трупы насмотрелся столько, что больше неохота. Андерсон сказал, что сам сходит. Когда он вернулся, то выглядел как-то странно, и ничего не сказал – только зачитал записи, которые сделал в госпитале. Записал он всё хорошо, тщательно: ноги Парсонса отрезало на уровне бёдер, ещё два человека погибли, ещё восемь получили серьёзные ранения. Пока он читал, я заполнял бланки, затем подшил их в папку с отчётами о небоевых потерях. После этого Андерсон перевернул страницу в своём блокноте на столе и сказал: «Там было как в мясной лавке».
Помню ещё и ту ночь две недели спустя, когда отделение вьетконговских «сапёров» проникло сквозь заграждения вокруг расположения инженерного батальона рядом с КП. Начали рваться сигнальные растяжки и гранаты, пули вздымали пыль у палатки младших офицеров. Я продрался через противомоскитную сетку, схватил карабин, споткнулся, ударился об угол рундука и по собственной вине на пару секунд отрубился. Придя в сознание, я заполз в траншею, где стоял Мора, помощник офицера по разведке. На нём не было ничего, кроме ремня с пистолетом. Барт Фрэнсис, ещё один штабной лейтенант, поглядел на него и сказал: «Нет, Роланд, одет ты, право, непристойно». В голове у меня туман от удара ещё не рассеялся, и я истерически засмеялся. Тем временем Шварц – а в бою прусское начало пёрло из Шварца наружу – выкрикивал приказы группкам растерянных солдат. Ну ладно, пускай командует, раз понимает, что происходит вокруг. А я не мог ничего понять, хотя ночь была лунная, да и осветительные ракеты добавляли света. По всему периметру раздавался огонь из стрелкового оружия – очевидно, ещё одно отделение «сапёров» пыталось пробиться через заграждения вокруг КП. Вьетконговцы стреляли в морпехов, морпехи – во вьетконговцев или в других морпехов, или вообще ни в кого. В белёсом свете мы увидели стрелка ярдов за двадцать-тридцать от нашей траншеи. Низко пригнувшись, он забежал под перекрёстный огонь и упал, как будто поскользнулся на ледяном пятачке. Его ноги взлетели вверх, он тяжело упал на спину и больше не двигался. После того как огонь затих, мы ещё с одним офицером вылезли из траншеи и, позвав санитара, подбежали к этому морпеху. Санитар был ему не нужен. Глаза его были широко открыты, но ничего уже не видели, а одна нога, наполовину оторванная в районе бедра, была подогнута под него, и похож он был на циркового акробата.
Ещё кое-что помню. Помню Ника Паппаса, звезду студенческого футбола, который наступил на мину, которая почти на два года отправила его в инвалидное кресло и навеки лишила возможности играть в футбол; помню молодого офицера из танкового батальона, приданного нашему полку, которого ранило в ногу и в бок из АК-47, и как он медленно умирал от гангрены в госпитале на Филиппинах, а хирурги по кусочкам ампутировали заражённую ногу, пока не дошли до верхней части бедра и дальше ампутировать уже не могли; или ту дождливую ночь, когда я ходил в госпиталь, чтобы установить личности трёх морпехов из моего прежнего взвода – Девлина, Локхарта и Брайса.
Они погибли от взрыва в блиндаже поста подслушивания по ту сторону рубежей роты «С». Я очень хорошо помню ту ночь, лучше, чем хотелось бы. Мы с Казмараком подъехали к госпиталю и припарковали джип у брезента, растянутого над тремя столами. Над каждым столом висела лампочка. На улице ровно гудел электрогенератор, и мокрая трава переливалась в свете ламп. Капрал Гундерсон и ещё один морпех стояли на открытом месте, сгорбившись под дождём. Гундерсон, командир отделения из роты «С», сказал, что обнаружил тела и доставил их в госпиталь.
Вытаскивая блокнот из полиэтиленовой обёртки, я нырнул под брезент, которые был прикреплён к палатке, образуя навес. Из палатки вышел флотский доктор в обтягивающих латексных перчатках, в сопровождении санитара с планшетом для бумаг. Появились ещё санитары с убитыми на носилках, которые они затащили на столы. Тела были накрыты мокрыми, грязными пончо, из-под которых торчали ботинки. Там было три трупа, но ботинок я заметил лишь пять. Взглянув на меня, доктор спросил, кто я такой и что тут делаю. Я объяснил, что прибыл для установления личностей погибших и составления отчёта об их ранениях.
– Хорошо, примерно этим мне и надо сейчас заняться. Насколько я понимаю, мог иметь место несчастный случай.
– Мы пока не уверены, сэр, – сказал Гундерсон, заходя под брезент. – Телефонный провод, что шёл в их блиндаж, обгорел. Может, молния попала, и от разряда их гранаты взорвались. У них там было с десяток гранат. А может, какой-нибудь вьетконговец забросил туда гранату через амбразуру и подорвал их гранаты. Под таким дождём он мог подобраться без труда.
Кивнув головой, доктор стянул пончо с тела Девлина.
– Ну ладно, кто-нибудь из вас может сказать мне, кто это? – спросил он.
– По-моему, Девлин, – сказал я, и при виде трупа у меня напряглись челюстные мышцы. – Питер Девлин. Рядовой первого класса. То есть был рядовой.
– Мне надо точно знать, кто это.
– Девлин это, – сказал Гундерсон. – Это я их нашёл.
Удовлетворившись этим, доктор приступил к осмотру. По-моему, то, что он делал, называется аутопсией. Он помял тело Девлина, перевернул его на живот, потом снова на спину, вставил пальцы в отверстия, проделанные осколками. Обернувшись к санитару, он описал характер ранений, произнося медицинские названия поражённых частей тела. Санитар ставил галочки на бланке, прижатом к планшету. Я пытался записывать, но мне было трудно понимать некоторые анатомические словечки, а ещё труднее было смотреть на то, как доктор исследует отверстия руками, обтянутыми перчатками. Не выдержав, я спросил: «Док, и как у вас сил на это хватает?»
– Работа такая. Я ведь доктор. Привыкаешь, а если не получается привыкнуть, то вон из докторов. Он же всё равно ничего не чувствует.
Он повернулся к санитару: «Проникающее осколочное ранение, колотая рана, правая почка». Санитар поставил очередную галочку. Я заметил, что резинка на трусах Девлина была сплошь красной, как будто его трусы окунули в красную краску. Краска. Кровь. Крышка. Красочная кровавая смерть. Я вспоминал, как он выглядел, как выглядело его лицо, когда оно ещё было у него, походку его, голос. Я почему-то вспомнил, как однажды Девлина вздрючили за сон на посту, и как я подал рапорт о снижении наказания, потому что до того случая он всегда был хорошим морпехом. Капитан ограничился предупреждением. Выйдя из капитанской палатки, Девлин сказал мне: «Сэр, я понимаю, что это не по-военному, но хочу сказать вам спасибо за то, что вы для меня сделали». А я, играя роль строгого и требовательного начальника, ответил: «Верно говоришь, Девлин. Это не по-военному, поэтому спасибо говорить не надо».
Брайса опознали легко, потому что выше пояса его практически даже не царапнуло. А вот ниже пояса… И доктору с его профессиональными навыками было нелегко, а мне было непросто подражать его манерам и держаться с наукообразной отстранённостью. Я не мог спокойно глядеть на берцовую кость Брайса – она была обнажена. Мясо и мускулы сорвало до последнего волоконца, поэтому расщепленная кость походила на обломанную палку из слоновой кости. Доктор произнёс нечто вроде «травматическая ампутация, левая стопа и открытый перелом, левая большеберцовая кость с массированной потерей тканей», и санитар поставил очередные галочки.
– Мы нашли его ботинок со стопой, – сказал Гундерсон. – Но оставили на месте. Мы не знали, что с ним делать.
Доктор махнул рукой – мол, всё нормально, стопа Брайса ему не нужна. Он продолжил осмотр, и, когда он разрезал ножницами трусы Брайса, я отвернулся. Я уверял себя, что всё произошло быстро, слишком быстро, чтобы Брайс хоть что-то успел почувствовать; но я в это не верил. Боль от бормашины скоротечна, но ощутима. А на что была похожа эта боль? Можно ли невероятно огромную боль сконцентрировать в одном-единственном мгновении?
Локхарт погиб от взрывной волны, и мне полегчало. Смотреть на увечья я больше был не в силах. Можно было подумать, что Локхарт уснул, если бы не его глазницы, все в синяках, распухшие до размера мячиков для гольфа. «Молодые какие, – сказал он три месяца назад, глядя на убитых нами вьетконговцев. – Погибают всегда молодые». Локхарту было девятнадцать.
Он был последним. Запихивая блокнот обратно в обёртку, я залез в джип. Я чувствовал себя как-то странно, напряжённо, покруживалась голова, как у человека, идущего по карнизу высокого здания. Промокший до нитки Казмарак завёл мотор. И тут подкатил ещё один джип.
– Йоу! Пи-Джей! – окликнул меня Макклой.
– Мэрф! Что ты тут делаешь?
– Да надо убедиться, что тела доставили как надо, – сказал он, подходя ко мне.
Я спросил его, знает ли он, что это было – несчастный случай или нет. Мне это надо было для того, чтобы подшить отчёты в соответствующую папку. Нет, не знает, сказал Макклой. Фили проведёт расследование завтра.
– А вообще-то, какая к чёрту разница? – задал я риторический вопрос. – Господи, такого ужаса я ещё не видел.
– Да ну, бывает хуже.
– Ты что, серьёзно? Ты Брайса-то видел? Их же поразрывало всех.
– Не преувеличивай. Просто покромсало.
– Ну какая к чёрту разница? – «покромсало». По-твоему, нормально?
Макклой взял меня за плечи. В свете лампочек я увидел, что он улыбается. «Да, по-моему – нормально. Давай, возьми себя в руки».
В ту ночь я получил под начало новый взвод. Он был выстроен под дождём, в три шеренги. Я стоял перед серединой строя, лицом к бойцам. Девлин, Локхарт и Брайс были в первой шеренге, Брайс стоял на единственной нетронутой ноге, рядом с ним – Девлин без лица, далее – Локхарт с выпирающими распухшими глазницами. Салливан был там же, Ризонер и все прочие, все мёртвые, кроме меня – командира над мёртвецами. Я один был цел и невредим, и, когда я скомандовал: «Взвод, напра-ВО! На ре-МЕНЬ! Шагом-МАРШ!», они повернулись направо, взяли винтовки на ремень и пошли. Они пошли – мой взвод искалеченных трупов, подпрыгивая на обрубках ног, размахивая обрубками рук, отлично держа строй, пока я задавал ритм. Я гордился ими – такие дисциплинированные солдаты, до самого конца и после. Даже мёртвые, они шли нога в ногу.
Я проснулся весь в поту, мне было страшно. Я не был уверен, что это был сон. Всё было совсем как наяву. И даже когда я понял, что это был просто сон, страх не уходил. Это был тот же страх, что я ощутил после смерти Салливана. Где-то далеко ударил миномёт. Я стал считать: «Тысяча-раз, тысяча-два, тысяча-три…» Обычно мина долетала до цели за двадцать секунд. «Тысяча-девятнадцать, тысяча-двадцать, тысяча-двадцать один, тысяча-двадцать два…» Ничего. Мина взорвалась где-то далеко. То была одна из наших мин. Я с облегчением выкурил сигарету, обхватив её руками, чтобы горящий кончик не просвечивал через щели в палатке. Затем, так и не избавившись от страха, я заснул беспокойным сном.
Настало утро, солнце повисло прямо над пальмовой посадкой по ту сторону шоссе номер 1, и крестьяне уже работали в полях неподалёку от батарей за грунтовой дорогой. Когда я проснулся, картина марширующих трупов по-прежнему стояла перед глазами как остаточное явление. Я вывалился из койки. Я глядел на утреннее солнце и крестьян, которые распахивали зелёные чеки возле умолкших орудий, но ничто из того, на что обращались мои глаза, не могло стереть назойливой картины марширующих мертвецов. Бреясь у самодельного умывальника возле палатки, я видел их лица в зеркале, в котором отражалось моё собственное лицо. Я видел их, надевая куртку – застывшие, белые, с высохшим потом – и когда мочился в резко пахнущую туалетную трубу, и когда заходил в столовую на завтрак, перепрыгнув через дренажную канаву, в которой грязь после ночного дождя покрывалась трещинами и засыхала. Все эти привычные вещи – труба с её вонью, ощущение загрубевшей от пота куртки на спине, истёртый мостик через канаву по пути в столовую – говорили о том, что я вернулся в мир, где все конкретно и реально, где мертвецы из могил не восстают. Но почему я так ясно видел Брайса, Девлина, Локхарта и прочих, и почему этот сон до сих пор казался мне таким реальным, и почему мне было по-прежнему же страшно, хотя ничто мне не угрожало?
Я выстоял в очереди за едой и уселся за стол напротив Моры и Харриссона. Яичные желтки на тарелке выглядели как два жёлтых глаза на липком белом лице. Я перемешал их вилкой и попытался съесть. Мора с Харриссоном обсуждали полковую операцию, которая намечалась через пару дней. Она замышлялась как совместная операция АРВ и морской пехоты, с агрессивным названием «Бласт-Аут»[66]66
Можно перевести примерно как «Всё разнесём» – прим. переводчика
[Закрыть]. Я ел, слушал их разговоры, и испытывал раздвоение сознания, какое бывает от крепкой марихуаны, которую девчонки из вьетнамских баров называют «трава Будды». Одной половиной я был в столовой и слушал, как два офицера обсуждают конкретные военные дела, оси наступления и районы десантирования, а другой половиной – на приснившемся мне плацу, где безногие, безрукие, безглазые солдаты маршировали, подчиняясь моим командам. «Раз, раз, раз-два-три, левой, левой». Потом они исчезли. Неожиданно. Только что их видел, и вдруг они пропали. Вместо них я увидел Мору и Харриссона, представив их мёртвыми. Я глядел на их живые лица по ту сторону стола, а поверх них наложились их же лица – как они будут выглядеть умерев. Как при наложении двух кадров. Я видел их живые рты, шевелившиеся при разговоре, и их мёртвые рты, застывшие в напряжённых ухмылках, присущих трупам. Я видел их живые глаза, и мёртвые их глаза с застывшим взглядом. Когда б я не опасался, что схожу с ума, было бы, наверное, даже занятно – такой глюк, какого ни от одного наркотика, наверно, не бывает. Во сне я видел мертвецов живыми, бодрствуя, я видел живых мёртвыми.
С ума я не сошёл, в медицинском смысле, но были и такие, что сходили. Война начинала действовать на психику. Большинство наших потерь происходило от малярии, пулевых и осколочных ранений, но к концу лета фразы типа «остро-беспокойная реакция» и «остро-депрессивная реакция» начали появляться в отчётах о больных и раненых, которые рассылал каждое утро дивизионный госпиталь. В определённой степени, многие из нас начали страдать от «беспокойных» и «депрессивных» реакций. Я замечал, и у себя, и у других, склонность к впадению в мутное, мрачное состояние с последующим бурным выходом из него в виде вспышек обидчивости и ярости. Частично это вызывалось скорбью, скорбью из-за гибели друзей. Я часто думал о своих друзьях, слишком часто. Вот что было тогда не так на этой войне: во время продолжительных периодов затишья между операциями у нас было слишком много времени для раздумий. Я с тоской вспоминал Салливана, Ризонера и прочих, и меня охватывало ощущение пустоты, тщетности всего. Походило на то, что погибли они ни за что; а если и за что-то, то за нечто маловажное. Совершенно так же они могли погибнуть в автомобильных катастрофах. Думая о них, я испытывал чувство вины, вины из-за того, что живу в сравнительной безопасности при штабе, а ещё больше из-за того, что именно я обращал их смерти в цифры на табло. Это табло я возненавидел, видеть его уже не мог. Оно было символом всего, что я презирал в штабе, этой одержимости статистикой, безразличия к трагичности смерти; а поскольку я сам работал в штабе, то сам себя презирал. Было без разницы, что я попал туда по приказу, что я предпринял несколько попыток перевестись обратно в боевую роту. Я презирал себя каждый раз, когда подходил к этому табло и заносил на него свежие цифры. Возможно, это была высшая форма хандры. Один из её симптомов – ненависть ко всему и ко всем вокруг; я уже и себя самого ненавидел, погружаясь в нездоровую депрессию и раздумывая о том, чтобы совершить самоубийство каким-нибудь социально-приемлемым способом – скажем, накрыв собой вражескую гранату. Иногда же на меня накатывали приступы желания кого-нибудь убить. Когда я впадал в одно из этих состояний, я мог выйти из себя из-за сущей мелочи, которая подействовала бы на меня раздражающе. Однажды я задал другому лейтенанту вопрос по поводу донесения, поступившего в секцию по личному составу. В палатке было жарко, почти невыносимо, ему и самому было невесело. «А тебе какое дело?» – отрезал он. Вскочив на ноги, я ударил его этим донесением по лицу и закричал: «Вот какое дело, жопа тупорылая!» После этой вспышки гнева какое-то внутреннее напряжение спало, и я успокоился столь же быстро, как и взорвался.
Кое-кто срывался. Один морпех взял винтовку и отправился в поле, заявив своим приятелям, что не в силах больше дожидаться атаки, и пошёл бить вьетконговцев в одиночку. Флотский санитар в одном батальоне прострелил себе стопу, чтобы не ходить больше в патрули. Командир одной из рот сломался под сильным миномётным обстрелом. Охваченный паникой, он убежал, бросив подчинённых, и предоставив командовать ими своему начальнику штаба.
А когда люди сходили с ума в бою, это приводило к гибельным последствиям. Отвечая за юридические вопросы, я знакомился со сводками о расследованиях и военно-полевых судах, проведённых в полку. Так я узнал о деле двух морпехов из 2-го батальона. Они провели в поле более четырёх месяцев без замены, спать им приходилось не более трёх-четырёх часов за ночь.
Они видели, как убивают их товарищей, и сами убивали людей. Они остались в живых после полудюжины операций, патрулей, в которых вели бои, а впереди их ждало всё то же самое.
Во время сухого сезона во Вьетнаме жарко даже по ночам, температура редко опускается ниже восьмидесяти-восьмидесяти пяти градусов[67]67
Примерно двадцати пяти-тридцати градусов по Цельсию – прим. переводчика
[Закрыть]; жарко было и в ту ночь, когда Хэррис разбудил Олсона и сказал ему, что пора на смену в караул.
– Пшёл ты, – сказал Олсон. – Не пойду я на пост.
– Вставай, Олсон. Меня ты сменяешь. Мне поспать надо хоть чуток.
– В жопу всё, и тебя тоже, Хэррис. Мне б самому поспать чуток.
– Олсон, бесишь ты меня до смерти. Щас убью тебя, засранец.
Олсон встал и навёл винтовку на Хэрриса. «Кишка тонка меня убить».
– Олсон, говнюк ты, у меня тут автоматическая винтовка, и нацелена она на голову твою грёбанную. Вот потяну щас слегонца спусковой крючок и башку тебе снесу».
Несколько других морпехов, которые выступали потом свидетелями в суде, стояли рядом, глядя на эту стычку. Наверное, думали, что ничего не случится.
– Сказал же, Хэррис – кишка у тебя тонка.
И это были последние слова Олсона. Хэррис в упор вогнал в череп Олсона пять или шесть пуль.
* * *
В начале августа операция «Бласт-Аут» началась и завершилась. За три дня трём тысячам морпехов и солдат АРВ при поддержке танков, артиллерии, самолётов и шестидюймовых орудий с американского крейсера удалось убить две дюжины вьетконговцев. Да и эти две дюжины стояли до конца. Они запрятались под землю в комплекс пещер и блиндажей у реки Сонгйен. Как во время зачисток во время войны с Японией, морпехи и солдаты АРВ дрались с противником, переходя из пещеры в пещеру, из блиндажа в блиндаж, выбивая его оттуда взрывами гранат и ранцевых зарядов.
Небольшое количество солдат противника и сто двадцать Ви-Си-Эс были схвачены и доставлены в штаб для допроса. «Ви-Си-Эс» означало «лица, подозреваемые в принадлежности к Вьетконгу», и этот термин применялся по отношению к почти любому невооружённому вьетнамцу, обнаруженному в районе, контролируемом противником. Позднее выяснялось, что девяносто процентов из них были ни в чём не повинными гражданскими лицами. Подозреваемых и пленных вьетконговцев привезли на вертолёте. Вьетконговцы в своих разношёрстных униформах выглядели как мелюзга оборванная на фоне конвоя из морпехов, которые отогнали их от посадочной площадки на пыльный участок на обочине дороги. Морпехи приказали им сесть на корточки, что те и сделали с резвым послушанием людей, понимающих, что их жизнь полностью находится в руках людей, которые запросто могут их пристрелить. У вьетконговцев были завязаны глаза, руки связаны за спиной, и на вид они были перепуганные. Морпехи устали и вели себя нервно. Как обычно, стояла страшная жара; термометр у палатки оперативной секции показывал сто десять градусов[68]68
43 по Цельсию – прим. переводчика
[Закрыть], ни ветерка. Намного большую группу подозреваемых держали на посадочной площадке, в ожидании окончания допроса вьетконговцев, которых допрашивали в первую очередь.
Солдат противника одного за другим заводили в палатку, где американский штаб-сержант и два переводчика из разведподразделения АРВ их допрашивали. Возле палатки один из вьетконговцев, мальчишка лет восемнадцати, заплакал, когда его товарища постарше увели на допрос. Наверное, он думал, что того человека сейчас расстреляют. Он выкрикивал его имя, и один из охранников наклонился и зажал ему губы. «Заткнись, – сказал морпех. – Рот свой поганый не открывай». Он отошёл, но мальчишка по-прежнему плакал и выкрикивал имя своего друга. «Закрой свой поганый рот, кому сказал!». Голос морпеха звучал раздражённо, и, оттого, что жарко было как в скороварке, я почувствовал, что если пленный на утихнет, что-то сейчас произойдёт. Я приказал одному из переводчиков сказать ему, что бояться не надо, их просто допросят. Это была лишь половина всей правды: их должны были допросить, но после этого передать южновьетнамской армии, где их, скорей всего, расстреляют. В АРВ расстреливали большинство пленных, которых мы им передавали.
А в палатке тот вьетконговец, из-за которого плакал мальчишка, упорствовал. Он отказывался глядеть на того, кто его допрашивал (сержанта-американца), или отвечать на вопросы. Он говорил только «той кхунг хьё» (не понимаю) или «той кхунг бьет» (не знаю). Одет он был в шорты, сандалии и камуфляжную рубашку, на вид ему было лет тридцать. Он сидел, подтянув ноги, не отрывая глаз от земли. «Имя?» – «Той кхунг бьет». «Возраст?» – «Той кхунг хьё». «Сколько… тебе… лет?» – «Той кхунг бьет». «Из какой части?» – «Той кхунг хьё».
Выбившись из сил, обливаясь потом, американец склонился к нему и закричал по-английски: «На меня смотреть, сучонок. Я сказал – на меня смотреть, когда я к тебе обращаюсь. Я хочу смотреть тебе в глаза, когда к тебе обращаюсь».
Пленный, низкорослый, но мускулистый, с лицом бывалого солдата, не поднимал глаз.
Сержант вцепился рукой ему в лицо, вдавив большой палец в одну щёку, а остальные пальцы в другую, и сжал их. Он резко дёргал его голову из стороны в сторону. «Крутой, да? На меня смотреть, когда я к тебе обращаюсь. Анх хьё? Теперь понимаешь?»
– Той кхунг хьё, – ответил вьетконговец через стиснутые зубы.
Американец обернулся к одному из переводчиков. «Скажи ему, чтоб на меня смотрел, когда я к нему обращаюсь».
Переводчик перевёл. Сержант отпустил лицо пленного. Голова его опустилась в то же положение, что раньше, он прижал подбородок к груди, уставившись на землю между ног.
– Скажи ему, чтоб на меня смотрел, чёрт побери!
Схватив пленного за волосы, солдат АРВ задрал ему голову и так сильно оттянул её назад, что я увидел, как напряглись мускулы на шее. Переводчик дважды шлёпнул его по лицу – не кулаком, а костяшками пальцев, скользнув ногтями по лицу пленного. Движение было быстрое, едва заметное, как будто он смахнул муху, но я расслышал, как ногти резко царапнули по коже.
– Спроси, понимает теперь или нет, – сказал американец. – Должен смотреть на меня, когда я к небу обращаюсь, и должен отвечать на мои вопросы.
Солдат АРВ быстро заговорил по-вьетнамски, задрав пленному голову так, что тот глядел уже прямо над собой в потолок палатки. Вьетконговец что-то сказал. Переводчик отпустил его, и голова опустилась; однако на этот раз он глядел уже на сержанта.








