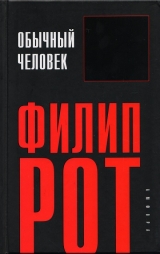
Текст книги "Обычный человек"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
К сожалению, ему не повезло с погодой. Сильные ветры продували Европу насквозь, из-за штормового предупреждения все воскресенье и весь понедельник аэродромы были закрыты. Два дня он проторчал в аэропорту «Шарль де Голль» вместе с Мерете, которая пришла проводить его, чтобы поцеловать его на прощание, но когда им окончательно стало ясно, что как минимум до вторника никаких рейсов не будет, они взяли такси и поехали обратно на рю де Боз Ар, в роскошную постель Мерете в отеле на левом берегу Сены, где им удалось снова заказать тот же номер с зеркалами из дымчатого стекла. Во время ежевечерней прогулки по Парижу на такси они бесстыдно разыгрывали одну и ту же маленькую сценку, где все происходило как бы случайно, будто в первый раз: положив руку ей на колено, он ждал, пока она раздвинет ноги, чтобы можно было проникнуть под подол ее шелкового платья: внизу на ней не было ничего, кроме узенькой полоски дорогого белья, и он, войдя внутрь, пальцами гладил ее плоть, пока она, устроившись поудобнее и высунув голову в окно, небрежно разглядывала мелькавшие мимо витрины магазинов, а он, откинувшись на спинку сиденья, тоже делал вид, что его не интересует ничего, кроме дороги; всю поездку она продолжала вести себя так, будто ничего не происходит, будто никто даже и не думал прикасаться к ней, – она изображала полное равнодушие, даже когда подступал момент оргазма. Мерете сводила его с ума, доводя его до крайности своим эротизмом. (Прежде чем сесть в такси, они заглянули в маленькую ювелирную лавочку неподалеку от их гостиницы, где торговали антиквариатом, и там он надел ей на шею прелестное украшение: маленький кулон на золотой цепочке, усыпанный бриллиантами и редкостными ярко-зелеными гранатами. Как верный сын своего отца, сведущего в драгоценных камнях, он попросил разрешения посмотреть на ювелирное изделие через лупу с десятикратным увеличением.
– Что ты там хочешь увидеть? – спросила Мерете.
– Я ищу трещинки, сколы, неровность окраски – если я не увижу никаких дефектов под увеличительным стеклом такой мощности, значит, бриллианты эти чистой воды и они безупречны. Видишь? Когда я говорю о камнях, я говорю словами своего отца.
– Но только в этом случае, – возразила Мерете. – Во всех остальных ты говоришь моими словами.
Их постоянно тянуло друг к другу – и пока они гуляли по улицам, и пока поднимались в лифте к себе на этаж, и пока пили кофе в маленькой забегаловке неподалеку от ее квартиры.
– Откуда ты знаешь, как надо держать эту штуку?
– Это называется лупа.
– Откуда ты знаешь, как держать лупу в глазу?
– Меня отец научил. Нужно просто напрячь мышцы вокруг глазницы. Вот-вот, примерно так, как ты делаешь.
– И какого они цвета?
– Голубые. Светло-голубые. В прежние времена такой оттенок считался самым лучшим. Отец говорил, что и до сих пор это самый благородный цвет. Знаешь, что говорил мой отец о бриллиантах? Он говорил, что бриллианты обладают красотой, величием, ценностью, но, кроме того, бриллианты бессмертны. Они остаются навсегда. «Бессмертны» – это слово он любил повторять, будто смаковал его.
– А кто не любит это слово? – поддержала его Мерете.
– А как это будет по-датски?
– Uforgaengelig. Это звучит так же прекрасно и по-датски.
– Мы, наверно, возьмем это, – сообщил он продавщице, которая прекрасно говорила по – английски, но с легким французским акцентом, и та, с таким же легким лукавством обращаясь к юной подруге пожилого джентльмена, заметила:
– Мадмуазель, должно быть, очень счастлива. Unefemmechoyee.[16]16
Лелеемая женщина (фр.).
[Закрыть]
Цена этой дамской безделушки оказалась не меньше, если не больше стоимости всех товаров ювелирной лавки в Элизабет, если вспомнить те минувшие дни, когда он бегал по поручениям своего отца, чтобы мастер, работавший за станком в крохотной уютной мастерской на Френингхьюсен-авеню примерно в 1942 году, подогнал по размеру для его покупателей стодолларовые обручальные кольца с бриллиантами в четверть или даже в полкарата.)
И теперь, вынув из горячей пещеры липкий и влажный палец, он прикоснулся им к ее губам, а затем, протиснув меж зубов, вложил его в рот Мерете, чтобы она языком ласкала его, и это было напоминанием об их первой встрече, когда они еще не были знакомы друг с другом, а также о том, что они осмелились вытворять друг с другом, совершенно чужие друг другу люди, – он, пятидесятилетний американец, занимающийся рекламой, и она, датчанка, топ-модель двадцати четырех лет, когда они, одурманенные страстью, вместе гуляли в темноте по одному из островов Карибского моря. Это было напоминанием о том, что она принадлежит ему, а он – ей. Это было сродни идолопоклонству.
В отеле его ждала записка: ему звонила Феба и просила оставить для него следующее сообщение: «Немедленно позвони. Твоя мать серьезно больна».
Тотчас же связавшись с домом, он узнал, что в понедельник, в пять часов утра по нью-йоркскому времени, с его восьмидесятилетней матерью случился удар и что надежды практически нет.
Он рассказал Фебе о жутких погодных условиях, из-за которых он не смог вылететь, и в ответ услышал, что его брат Хоуи уже в пути, а отец круглосуточно дежурит у постели умирающей. Он записал номер телефона больничной палаты, где лежала его мать; затем Феба сказала, что как только она повесит трубку, сразу же оправится в Нью-Джерси, чтобы поддержать свекра до прибытия Хоуи. Она не уехала до сих пор лишь потому, что хотела дождаться его звонка.
– Я упустила тебя сегодня утром. Разминулись всего на несколько минут. Когда я позвонила, портье сообщил мне, что «мадам и месье только что отправились в аэропорт».
– Да, – ответил он. – Мы ехали в одном такси с подружкой фотографа.
– Нет, ты ехал в одном такси с двадцатичетырехлетней датчанкой, с которой ты завел роман. Извини, но я не могу больше закрывать на все это глаза. Я закрывала глаза на твои измены, когда ты крутил любовь с секретаршей. Но сейчас дело зашло слишком далеко. Для меня это унизительно. Париж, – проговорила она с отвращением. – Все было спланировано и решено заранее. Билеты и туристическое агентство. Скажи, кто из твоих романтически настроенных приятелей придумал эту пошлую поездку в Париж, чтобы прикрыть твое гнусное и подлое поведение? Ну и где ты ужинаешь со своей пассией? В какие очаровательные французские ресторанчики вы ходите?
– Феба, я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты несешь какую-то ахинею. Я вылетаю домой первым же самолетом.
Его мать скончалась за час до его появления в больнице Элизабет. Отец и брат сидели рядом с усопшей: тело ее было прикрыто больничным покрывалом. Он никогда раньше не видел матери на больничной койке, хотя ей не раз приходилось посещать госпитали, где лежал он. У нее, как и у его брата Хоуи, всегда было отменное здоровье. Это она всегда бегала по больницам, утешая и подбадривая тех, кто был заперт в больничных стенах.
– Мы еще не сказали врачам, что она умерла. Мы хотели дождаться тебя, чтобы ты мог в последний раз взглянуть на маму, прежде чем ее увезут, – проговорил Хоуи.
Он увидел контур спящей пожилой женщины, напоминающий горельеф. Он увидел лишь камень – тяжелый могильный камень, надгробие, на котором были высечены следующие слова: «Смерть – это только смерть, и больше ничего».
Он обнял отца, и тот погладил его руку в ответ.
– Так, наверно, лучше. Нам всем было бы тяжело смотреть на нее, понимая, во что она превратилась после удара, если бы ей удалось выжить.
Взяв мать за руку и поднеся ее ладонь к своим губам, он внезапно понял, что за несколько часов потерял двух женщин, которые поддерживали его, вселяя в него силы.
Фебе он лгал и лгал безостановочно – он изолгался вконец, но не получил от этого ни малейшей выгоды. Он сказал жене, что ездил в Париж, чтобы окончательно порвать с Мерете. Он должен был лично объясниться с нею, поговорив с глазу на глаз, – он не виноват, что она работает в Париже.
– Разве ты не спал с нею в гостинице? Разве ты не валялся с ней на одной кровати, пытаясь порвать вашу связь?
– Я не спал с ней. Она плакала по ночам.
– Плакала четыре ночи подряд? Наверно, твоя юная датчанка вся изошла слезами. Даже Гамлет не мог бы столько наплакать.
– Феба, я полетел в Париж, чтобы сказать ей, что все кончено. И действительно, между нами больше ничего нет.
– Что я сделала не так? – спросила Феба. – Зачем тебе нужно было унижать меня? Почему ты хочешь разрушить все, что у нас есть? Неужели наша совместная жизнь была такой ужасной? Наверно, мне лучше было бы смиренно вынести все это, но я не могу. Я никогда раньше не сомневалась в тебе. Я очень редко задавала тебе вопросы, но теперь я не верю ни единому твоему слову. И я никогда больше не смогу верить тебе. Потому что ты не умеешь говорить правду. Да, ты ранил меня, когда завел роман с секретаршей, но я молчала. Ты ведь даже не подозревал, что я в курсе твоих любовных похождений? Скажи, ты знал, что мне все известно, или нет?
– Нет, я этого не знал.
– Это потому, что я скрывала от тебя свои мысли, но, к сожалению, от себя не спрячешься. А теперь ты больно ранил меня своей датчанкой и к тому же унизил ложью. Поэтому отныне я не намерена делать вид, что ничего не происходит. Ты встретил меня, когда я была уже взрослой женщиной, и все эти годы я была тебе верным спутником и другом, во мне ты нашел жену, хорошо понимающую, что такое совместная жизнь. Я избавила тебя от Сесилии, подарила тебе замечательную дочь, изменила всю твою жизнь, а в ответ ты, вместо благодарности за все, что я для тебя сделала, трахаешь какую-то датчанку. Каждый раз, глядя на часы, я думала о том, который час сейчас в Париже и чем ты занят в данную минуту. Я буквально места себе не находила все выходные. Основа брака – это доверие. Разве я не права? Скажи, разве это не так?
Ей достаточно было только произнести имя Сесилии, и в его мозгу мгновенно вспыхнули все гневные обвинительные тирады, которые его первая жена обрушивала на его родителей, и теперь, пятнадцать лет спустя после развода с ней, он к своему ужасу обнаружил, что Сесилия, которую он бросил ради Фебы, оказалась настоящей Кассандрой:[17]17
Кассандра-троянская царевна, дочь Приама и Гёкубы. Была наделена даром предвидения, предсказала гибель Трои.
[Закрыть] «Мне жаль эту маленькую дурочку, на которую он меня променял, честно, мне искренне жаль эту Крошку Мисс Маффет, мерзкую потаскушку из квакерской семьи!»
– Можно вынести все, – говорила ему Феба. – Даже если доверия больше нет, но есть раскаяние. Тогда вы снова можете стать партнерами и идти вместе по жизни, уже как-то иначе, но у вас все-таки еще есть возможность остаться партнерами. Но ложь… Ложь – это пошло и отвратительно, особенно если она дает тебе власть над другим человеком. Ты будто наблюдаешь за партнером, который действует вслепую, не понимая, что происходит, другими словами, ты постоянно ставишь его в унизительное положение. Ложь – банальная штука, но если обманывают тебя и остаешься в дураках ты сам, это уязвляет до глубины души. Те, кого вы, лжецы, предаете каждую секунду, должны мириться с растущим списком унижений и оскорблений, но наступает момент, когда вы вообще перестаете думать о тех, кому причиняете боль, – так уж у вас получается. Разве я не права? Я уверена, что все лжецы изворотливы и упорны в своей лжи, и, завравшись окончательно, вы начинаете думать, что тот, кого вы обманываете, человек недалекий, с ограниченными умственными способностями. Возможно, вы даже не задумываетесь над тем, что вы непрерывно лжете: вы считаете, что ваша ложь – это акт милосердия по отношению к вашему несчастному бесполому партнеру, чувства которого вы решили пощадить.
Ты, возможно, считаешь, что ложь сродни добродетели и что ты проявляешь милосердие к глупой курице, которая все еще любит тебя. А может, ты просто весь изолгался и в тебе не осталось ничего, кроме этого гребаного вранья да умения раскручивать одну гребаную ложь за другой. Дальше продолжать незачем, – сказала она. – Все это и так хорошо известно. Женившись, мужчина утрачивает свою любовь. Страсти больше нет, а он не может жить без нее. Жена наскучила ему самим фактом своего существования: она всегда под боком, это реальность жизни. Да, любовь прошла, и жена стала намного старше, чем была когда-то, но ей было бы достаточно иметь лишь физическую близость, лежать с ним в одной постели, обнимая его, и чтобы он обнимал ее. Физическая близость, нежность, дружба – вот что значит быть рядом. Но мужчина не желает принимать всего этого. Потому что он не может жить без чего-то особенного. Что ж, теперь тебе придется жить без многого, что у тебя было раньше, мистер. Теперь придется обходиться как-нибудь без всего. Наконец-то ты поймешь, что значит потерять все, что у тебя было. Уйди от меня, оставь меня, пожалуйста. Я больше не могу выносить твое присутствие, не могу играть ту жалкую роль, которую ты отвел мне. Несчастная обманутая жена, впавшая в отчаяние из-за того, что муж бросил ее. Покинутая супруга, снедаемая жестокой ревностью! Ах, как это отвратительно! Просто невыносимо! Я ненавижу тебя за то, что ты сделал со мной. Убирайся отсюда, и чтобы ноги твоей больше не было в этом доме. Я видеть тебя не могу, и особенно противно мне смотреть в глаза распутника с постной миной на лице. Я не собираюсь отпускать тебе грехи, и нет тебе прощения. Я не игрушка и не позволю тебе так обращаться со мной! Пожалуйста, уходи! Оставь меня в покое!
– Феба…
– Нет. Как ты смеешь после всего этого произносить мое имя?
Все эти сцены действительно стары как мир и не нуждаются в продолжении.
Феба вышвырнула его вон на следующий же день после похорон матери, и вскоре они развелись, уладив все финансовые вопросы, а поскольку он не знал, что делать и как разобраться со всем, что натворил, и понимал, что именно на нем лежит ответственность за происшедшее, он, желая хоть как-то реабилитировать себя в глазах Нэнси, несколькими месяцами позже женился на Мерете.
Поскольку он разрушил свою жизнь, бросив все, что имел, из-за юной датчанки вполовину моложе его, ему казалось логичным завершить начатое, кардинально решив проблему и снова расставив все по своим местам, – и в результате он сделал ее своею третьей женой; но он никогда не проявлял благоразумия как женатый мужчина и либо начинал флиртовать с какой-нибудь девчонкой, либо влюблялся в женщин, которые были связаны узами брака. Очень скоро он обнаружил, что Мерете была не только маленькой дырочкой – она была чем-то большим, а возможно, и чем-то меньшим. Он выяснил, что жена его не в состоянии думать ни о чем: мысли у нее разбегались как блохи, и она вечно колебалась, не в состоянии принять хоть какое – то решение. Он узнал истинные размеры ее тщеславия, хотя ей было чуть больше двадцати, и ее страх перед старением. Он узнал, что у Мерете сложности с получением грин-карты и что у нее в полном беспорядке дела с Внутренней налоговой службой США, поскольку она уже много лет не удосуживалась подать декларацию о доходах. А когда ему срочно потребовалась операция на сердце, поскольку у него возникли проблемы с сосудами, он увидел ее страх перед болезнью и полную беспомощность перед лицом опасности. Слишком поздно он понял, что вся ее смелость проявлялась исключительно в сексуальности и что все другие ее качества были подавлены эротизмом, в этом-то и заключалась их необыкновенная, ошеломляющая близость. Он променял лучшую на свете жену на другую; вместо верного друга и помощницы рядом с ним теперь была женщина, которая пасовала при малейших трудностях. Но сразу после скандала ему казалось, что женитьба на Мерете – это самый простой способ скрыть свое преступление.
Его терзало ничегонеделанье: он уже давно ничего не писал. С утра он совершал часовую прогулку, после полудня минут двадцать уделял упражнениям с легкими гантелями, а потом, стараясь не делать резких взмахов руками, полчаса плавал в бассейне – такой режим был прописан ему кардиологом, – но на этом все и заканчивалось, поскольку никакие иные события не наполняли его жизнь. Сколько часов можно убить, глядя на океан, даже если ты любил его с раннего детства? Сколько можно смотреть на приливы и отливы, не вспоминая, как всякий, кто попадает под магию прибоя, что жизнь случайно, бесцельно и неожиданно была дана ему, и дана ему лишь однажды, по неизвестной и неосознаваемой им причине? По вечерам он отправлялся на машине в рыбную лавку, прилепившуюся к уступу скалы, чтобы на заднем дворе, обращенном к океанскому побережью, поужинать жареной морской рыбой и, сидя за столиком, понаблюдать, как лодки проплывают под старым мостом и уходят далеко в океан, но иногда он сначала останавливался в городке, где он с семьей некогда отдыхал во время летних каникул. Он выходил из машины, оставив ее у прогулочной зоны, идущей вдоль океана, и шел дальше пешком по деревянному настилу; потом садился на одну из скамеек, откуда были видны и пляж, и море – его широко раскинувшиеся, вечно меняющиеся просторы, которые меж тем совершенно не изменились с тех пор, когда он был еще худым как жердь парнишкой, сражавшимся с водной стихией. Вот здесь стояла скамейка, на которой они сиживали с родителями, с бабушкой и дедушкой по вечерам, чтобы подышать свежим морским воздухом, а потом прогуливались вдоль берега вместе с друзьями или соседями, наслаждаясь легким ветерком, дующим с моря; а вот тот пляж, где они всей семьей устраивали пикники и загорали, раскинувшись на песке; это тут он купался вместе с Хоуи и компанией мальчишек, хотя с тех пор полоса пляжа стала в два раза шире благодаря пожеланиям общественности (армия помогла воплотить этот проект в жизнь). Хотя песка и стало в два раза больше, все же это был его пляж, и он всегда погружал его в воронку воспоминаний, которая поглощала все его существо, когда он в мыслях уносился к лучшим дням своего детства. Но сколько можно вспоминать счастливые моменты из детства? Как насчет самых счастливых дней старости? Или, быть может, счастливые дни старости и заключаются в воспоминаниях о счастливом детстве, жажде снова вернуться в то время, когда его тело было подтянутым и прямым как стрела и он катался на волнах прибоя, бросаясь в воду с того места, где теперь находится прогулочная зона; сдвинув ладошки и лодочкой сложив худые руки, он, долговязый костлявый подросток, нырял в стихию, и, погрузившись в океан, катался на волнах до тех пор, пока его не выкидывало к прибрежной полосе песка, где грудную клетку царапала острая угловатая галька, зазубренные края раскрывшихся ракушек и раздробленные осколки панцирей других морских животных, прибитых волной к берегу, и он, вскочив на ноги, быстро поворачивался и шлепал обратно в океан по отмели, пока вода не доставала ему до колен, а потом, заходя поглубже, бросался в волны с головой и яростно начинал плыть в сторону вздымающихся гребней волн, в надвигающуюся на него зеленую Атлантику, безостановочно накатывающую на него вал за валом как непреложный факт ближайшего будущего, и если ему везло, ему удавалось поймать большую волну и потом взлететь на следующей, а затем и еще на одном гребне, и еще, и еще, пока косые лучи заходящего солнца, игравшие на воде, не напоминали ему о том, что пора домой. Переполненный исступленным восторгом после целого дня бессмысленной борьбы со стихией, он был настолько одурманен солью и запахом морской воды, что готов был зубами вырвать из себя кусок мяса и с наслаждением впиться в сочную плоть, чтобы ощутить в себе живое существо.
Стараясь наступать только на пятки, он торопливо пересек раскаленную от солнца асфальтовую дорожку и, дойдя до своего жилища, направился прямо к разместившейся во дворе душевой кабинке с пропитанными влагой фанерными стенками; там он сбросил с себя костюм, в который забился песок, и подставил голову под холодную струю воды. Ни спокойствие могучего, рокочущего прибоя, ни «суровое» испытание ходьбой по раскаленному асфальту, ни судорожное обмирание от колючих струй ледяного душа, ни благословенная отрада возрождения, даруемая крепкими мускулами и подтянутым телом, ни загорелая шоколадная кожа, на которой оставалась только одна белая отметина – шрам от вырезанной грыжи, который незаметно скрывался в паховой складке, больше не имели значения: ничего не осталось от тех августовских дней, когда были уничтожены немецкие подводные лодки и можно было уже не тревожиться из-за утонувших моряков, – теперь вся картина стала ему кристально ясной. Ничего не осталось и от его идеальной физической формы – у него были все основания считать это неоспоримым фактом. после обеда он вернулся домой: ему захотелось устроиться в каком-нибудь укромном уголке и что-нибудь почитать. У него была хорошая подборка альбомов по искусству – громоздких фолиантов, которыми он уставил одну из стен своей мастерской; изучая живопись, он собирал библиотеку всю жизнь, но сейчас, сидя в кресле и перелистывая страницы в одном из альбомов, он почувствовал всю нелепость своего положения. Иллюзии, как он вдруг осознал, теперь перестали властвовать над ним, поэтому пухлые альбомы по искусству только усиливали его чувство беспомощности, как бы подчеркивая, что он всего лишь жалкий, нелепый дилетант, и сейчас перед ним раскрылась вся тщета его намерений, которым он, уйдя на пенсию, посвятил все свое свободное время.
Стараясь проводить больше времени с обитателями Старфиш Бич, он в конце концов понял, что они невыносимы. В отличие от него, соседи с удовольствием вели друг с другом нескончаемые беседы, вертевшиеся исключительно вокруг их внуков и внучек, в существовании которых они видели смысл своего существования. Случайно попав в компанию соседей, он иногда испытывал острое чувство одиночества в самой его чистой и изощренной форме. Даже самые умные, самые интеллигентные жители его деревушки были ему неинтересны: одной беседы с ними ему хватало надолго, и больше его не тянуло встречаться с ними. Многие из пожилых пар, переехавших в это место, состояли в браке уже несколько десятков лет, и супругов, казалось, вполне устраивали те отблески семейного счастья, которые оставались еще в их теперешней жизни: старики были настолько привязаны друг к другу, что ему лишь изредка удавалось вытащить на обед какого-нибудь пожилого джентльмена без его жены. С какой бы тоской ни глядел он на такие пары, попадавшиеся ему на глаза с наступлением сумерек или воскресным утром, на неделе оставались еще и другие дни и часы; но даже впадая в жуткую меланхолию, он понимал, что такая жизнь не для него. Он приходил к выводу, что совершенно напрасно переехал в это место и что такое общество мало ему подходит. Он зачем-то решился сменить место жительства и обстановку, когда на самом деле он должен был сидеть на одном месте, прочно пустив корни, как это делают все в его возрасте, и, как и прежде, заниматься своим делом, возглавляя художественный отдел в своем агентстве.
Его всегда привлекала стабильность, но не застой. А здесь было болото. Здесь он не находил никакого утешения, здесь была пустота под видом успокоения, и не было никакого пути назад, к тому, что осталось за спиной. Им постоянно владело чувство «инакости» – «инакость» было словечком из его лексикона для определения собственного теперешнего бытия; этот термин был незнаком ему, пока его ученица, Миллисент Крамер, не употребила его, описывая свое состояние, и тогда это непривычное сочетание звуков резануло ему слух. Теперь ничто на свете не вызывало у него любопытства, и ничто на свете не могло удовлетворить его: ни его занятия живописью, ни семья, ни соседи, ни даже молодые женщины, утром проходящие мимо него по деревянному настилу вдоль океана. О боже, думал он, ведь когда-то я был человеком! Вокруг меня кипела жизнь! И я был полон сил и энергии! Все! Никакой больше «инакости»! Был же и я когда-то живым человеческим существом!
Во время прогулок ему постоянно встречалась одна девушка, и, когда она пробегала мимо, он всегда приветствовал ее; и вот однажды утром он специально вышел поздороваться с ней. На бегу она всегда улыбалась ему, махнув рукой в ответ, а он оставался на месте, покинутый и одинокий, – ему оставалось лишь с печалью смотреть ей вслед. Но на этот раз он нарочно остановил ее.
– Мисс! – крикнул он. – Мисс, я хотел бы поговорить с вами!
И вместо того чтобы отрицательно покачать головой и бросить: «Я сейчас не могу» (как он предполагал), она развернулась и трусцой поспешила обратно, возвращаясь к тому месту, где он ждал ее. Она, вся мокрая от пота, остановилась в полуметре от него, положив руки на бедра, – крохотное создание с идеальными формами. Она сделала паузу, чтобы отдышаться, и, постепенно приходя в себя, продолжала постукивать пяткой по деревянному настилу, напоминая бьющего копытом нетерпеливого пони; одновременно она с любопытством разглядывала незнакомого мужчину почти двухметрового роста, с лохматой седой шевелюрой и темными очками на носу. К счастью для него, случайно выяснилось, что в течение последних семи лет она работает в рекламном агентстве в Филадельфии и что раньше жила здесь, на побережье, а теперь приехала домой, чтобы провести здесь двухнедельный отпуск. Она была потрясена до глубины души, когда он сообщил ей название нью-йоркского рекламного агентства, в котором он проработал почти всю свою жизнь; имя его начальника стало уже легендой, и хотя эта тема никогда не интересовала его, в течение последующих десяти минут они беседовали только о рекламе. Ей было уже около тридцати, но из-за длинных пышных каштановых волос, которые она завязывала на затылке в «конский хвост», из-за шорт, короткого спортивного топика и маленького роста ее вполне можно было принять за девочку лет четырнадцати. Он старался отвести взгляд от ее округлых, крепких грудей, которые вздымались под топиком и опадали при каждом вздохе. Он испытывал настоящие муки, заставляя себя отвернуться от нее. Сама мысль о ней была оскорбительна для всякого здравого смысла, и одновременно она представляла угрозу для его рассудка. Его возбуждение невозможно было сравнить ни с чем, что когда-то случалось в его жизни или же могло случиться. Ему приходилось не столько скрывать свой неудовлетворенный голод, сколько стараться удержать себя в рамках приличия и не сойти с ума в попытках побороть его. И все же он упорно продолжал начатый разговор, двигаясь к намеченной цели, и до конца не веря тому, что можно подобрать такие слова, которые могли бы спасти его от поражения, он сказал:
– Я видел, как вы бегаете.
Она удивила его, ответив:
– А я видела, как вы наблюдаете за мной.
– А вы любите рисковать? – услышал он свой голос и, задав ей этот вопрос, почувствовал, что ситуация уже вырвалась из-под контроля и что события развиваются слишком быстро; он окунулся с головой в новое приключение, ведя себя еще более безрассудно, чем в тот раз, в Париже, когда надевал на шею Мерете кулон, усыпанный бриллиантами, украшение, стоившее целое состояние. Тогда Феба, его верная жена, и Нэнси, любимое дитя, были в Нью-Йорке и дожидались его возвращения – он разговаривал с Нэнси накануне, всего за несколько часов до ее приезда из летнего лагеря, и все же он сказал продавщице в ювелирной лавке: «Мы берем его.
Заворачивать не нужно. Подойди сюда, Мерете. Дай я застегну. Я собаку съел на таких замках. Здесь трубчатая застежка, я знаком с ними. В тридцатые годы эти замочки считались самыми надежными для таких украшений, как твое. Наклони голову, я надену его тебе на шею».
– А что вы имеете в виду? – храбро спросила его бегунья, настолько храбро, что он, почувствовав неловкость, замешкался: он не знал, может ли он откровенно ответить на ее вопрос. Живот у нее был темным от загара, руки – тонкими, крепкие ягодицы округло выступали под шортами, сильные мускулистые ноги были стройны, а груди казались слегка великоватыми для девушки ее роста. Она обладала роскошной фигурой и была необыкновенно соблазнительна, напоминая ему одну из «девушек Варга» с весьма откровенных картинок, что появлялись в иллюстрированных журналах сороковых годов,[18]18
«Девушки Варга» – популярные картинки с изображением полуобнаженных девушек, созданные американским художником Альберто Варгасом (1896–1982), перуанцем по происхождению.
[Закрыть] но его бегунья была «девушкой Варга» в миниатюре, почти ребенком – именно это в первую очередь побудило его помахать ей рукой.
Он сказал:
– А вы любите рисковать?
И она ответила:
– А что вы имеете в виду?
Ну и что теперь? Он снял темные очки, чтобы она могла видеть его глаза, когда он пялился на нее. Понимала ли она, что скрывалось за его словами, когда отвечала ему подобным образом? Или то, что она сказала, ничего не значило, и она ответила ему, только чтобы не молчать, даже если она была напугана и растеряна? Лет тридцать тому назад он непременно добился бы успеха – она не устояла бы перед его желанием, как бы молода ни была, – в те годы ему в голову даже не пришла бы мысль о том, что ему, как это ни унизительно, могут дать отставку. Но увы! Он утратил веру в себя, а с ней и умение флиртовать, чему некогда отдавался целиком. Он изо всех сил пытался скрыть волнение, так же как и желание дотронуться до нее и жажду обладать именно этим телом, одновременно понимая и тщетность этих желаний, и собственную ничтожность, – но вдруг совершенно неожиданно ему улыбнулась удача: когда он вынул листочек из своего бумажника и написал на нем номер своего телефона, она не скорчила недовольную гримасу и не убежала прочь, смеясь, но взяла его, улыбаясь кошачьей улыбкой, которая вполне могла бы сопровождаться довольным мурлыканьем.
– Теперь вы знаете, как меня найти, – проговорил он, внезапно ощутив, как в штанах необыкновенно быстро, словно по мановению волшебной палочки, напрягается и твердеет его плоть – на мгновение он почувствовал себя пятнадцатилетним мальчишкой. На него нахлынуло острое ощущение собственной привлекательности, совершенства и исключительности своей личности, которое всегда предшествует новому сексуальному опыту, новому любовному приключению, что совершенно противоположно умерщвляющему обезличиванию при тяжелой болезни.
– В вас есть что-то необычное, – произнесла она задумчиво.
– Это точно, – отозвался он со смешком. – Я родился в 1933 году.
– Мне кажется, вы в очень хорошей форме, – заметила она.
– И у вас великолепные формы, – не удержался он. – Вы знаете, как меня найти, – повторил он.
Помахав в воздухе клочком бумаги, будто это был крохотный колокольчик, она деловито сунула его под мокрый от пота топик, и снова помчалась по дощатому настилу.
Она так и не позвонила ему. Он тоже никогда больше не видел ее во время прогулок. Должно быть, теперь она бегала по другому маршруту, в зародыше погубив его страстную мечту о последнем великом взрыве всего его существа, подобном извержению вулкана.
Безумное увлечение похожей на ребенка «девушкой Варга» в спортивных шортиках и топике потерпело фиаско, и вскоре он решил продать кондоминиум и вернуться обратно в Нью-Йорк. Он понял, что переезд на побережье окончился для него полным фиаско; он сказался на нем так же болезненно, как и провал, испытанный им как художником за последние полгода. Если до 11 сентября он серьезно рассматривал возможность поселиться в том самом месте, где после выхода на пенсию прожил три года, то катастрофа 11 сентября, казалось, подтолкнула его к большим переменам, однако при его ранимости переезд ознаменовал начало конца, сделав его изгнанником. Но теперь он продаст свой домик и постарается найти себе местечко в Нью-Йорке, неподалеку от квартиры Нэнси, где-нибудь в верхней части Вест-Сайда. Поскольку за последние несколько лет цены на такие дома, как у него, выросли вдвое, он сможет выручить кругленькую сумму, чтобы купить достаточно большую квартиру неподалеку от Колумбийского университета, где бы они могли жить все вместе под одной крышей. Он будет давать деньги на хозяйство, так что Нэнси сможет тратить «детские деньги» на себя. Нэнси сможет уйти на полставки и ходить на службу три дня в неделю, проводя оставшиеся четыре дня с детьми, то есть жить так, как всегда и хотела, но не могла позволить себе с тех пор, как вернулась на работу после отпуска по уходу за детьми. Нэнси, близнецы и он сам. Такой план стоит ей предложить. Возможно, она не откажется от его помощи, но и ему до смерти нужна их компания, круг близких людей, которым он сможет отдавать себя, и кто, в свою очередь, будет дарить себя ему, – и кто же во всем мире подходил для этого лучше, чем его родная дочь, Нэнси?







